Текст книги "Пустыня в цвету"
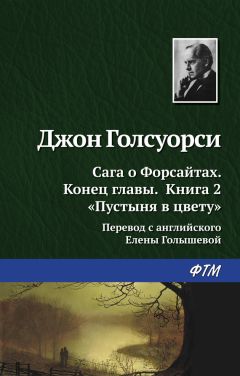
Автор книги: Джон Голсуорси
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 16 страниц)
Глава тридцать пятая
Когда Уилфрид вышел от Адриана, он не знал, куда ему деваться, и бродил по улицам, как во сне, в котором все время снится одно и то же, пока не проснешься. Он прошел по Кингсуэй на набережную, до Вестминстерского моста, свернул на него и облокотился о перила. Прыжок – и все будет кончено! Начинался отлив: воды Англии покидали ее, уходя в море, чтобы никогда больше не вернуться, и радовались своему избавлению! Избавление! Избавиться от всех, кто заставляет его думать о себе. Избавиться от беспрерывного копания в своей душе, от самобичевания. Покончить с этим проклятым слюнтяйством, с этой мягкотелостью, довольно думать о том, что он ее огорчит! От таких огорчений еще никто не умирал. Поплачет и забудет. Сентиментальность уже однажды подвела его. Больше этого не будет! К черту! Не будет!
Он долго стоял, опершись на парапет, глядя на блестящую воду и плывущие мимо суда; время от времени рядом останавливался прохожий, заподозрив, что Уилфрид видит там внизу что-то интересное. Так оно и было! Уилфрид видел свою собственную жизнь, сорвавшуюся со всех якорей в «никуда», несущуюся по морям, как «Летучий голландец», в дальние-дальние края. Там хотя бы ему не понадобятся ни бравада, ни раболепство, ни чужая жалость, ни лицемерие; он гордо поднимет свой флаг на самую верхушку мачты!
– А ведь не зря говорят, – сказал кто-то рядом, – что ежели долго в воду смотреть, того и гляди туда кинешься!
Уилфрид, вздрогнув, отошел. «Господи! – подумал он. – Что со мной, – прямо не человек, а комок нервов!» Он сошел с моста со стороны Уайтхолла и побрел в Сент-Джеймский парк, обогнул длинный пруд, добрался до клумб с геранью и больших каменных изваяний перед дворцом, вошел в Грин-парк и опустился на сухую траву. Он долго лежал на спине, прикрыв рукой глаза, наслаждаясь тем, что солнце прогревает его насквозь. Когда он поднялся, голова у него кружилась, и ему пришлось немножко постоять, прежде чем он пришел в себя и смог пойти дальше к Хайд-парк-корнер. Он сделал всего несколько шагов, но тут же остановился как вкопанный и круто свернул направо. Навстречу ему, вдоль дорожки для верховой езды, шла женщина с мальчиком. Динни! Он увидел, как она ахнула и схватилась за грудь. Тогда он побежал. Пусть это грубо, жестоко, но зато конец. Он чувствовал себя, как человек, который всадил в кого-то нож. Грубо, жестоко, но зато – конец! Никаких колебаний! Теперь ему остается только поскорее уехать! Он зашагал домой, спеша как одержимый, зубы его были оскалены в кривой улыбке, словно он сидел в кресле у зубного врача. Он ударил в самое сердце единственную женщину, с которой мог связать свою судьбу, единственную женщину, о которой мог сказать, что любит ее по-настоящему. Ну что ж! Лучше убить сразу, чем убивать постепенно, всю жизнь. Он ведь – Исав, изгнанник, и дочери Израиля не для него. Шагал он так быстро, что какой-то мальчишка-посыльный даже обернулся, разинув рот, – вот бежит-то! Не обращая внимания на мчащиеся машины, Уилфрид пересек Пикадилли и свернул в узкую расщелину Бонд-стрит. Ему вдруг пришло в голову, что он никогда больше не увидит шляп от Скотта. Магазин только что закрыли, но шляпы покоились в витрине рядами: сверху цилиндры, а потом – тропические шлемы, дамские головные уборы и образчики модных фетровых шляп – широкополых и с узкими полями и тульей. Уилфрид пошел дальше, обогнул магазин духов Аткинсона и добрался до своего подъезда. Там ему пришлось посидеть на ступеньках, – не было сил взобраться наверх. Нервный подъем, который был вызван неожиданной встречей с Динни, сменился полнейшей апатией. Он уже начал подниматься по лестнице, но тут сверху показался Стак с собакой. Фош кинулся к Уилфриду под ноги и прижался к ним, задрав голову. Уилфрид потрепал его за уши. Собака опять останется без хозяина!
– Завтра рано утром я уезжаю. В Сиам. И, наверно, больше не вернусь.
– Никогда, сэр?
– Никогда.
– А вы возьмете меня с собой, сэр?
Уилфрид положил руку ему на плечо.
– Спасибо, Стак, но вам там до смерти надоест.
– Простите, сэр, но в таком состоянии вам сейчас трудно будет путешествовать одному.
– Очень может быть, но я поеду один.
Стак пристально поглядел на хозяина. Взгляд был серьезный, напряженный, словно он хотел навсегда запомнить его лицо.
– Я ведь так долго прожил у вас, сэр…
– Да, и лучше ко мне вряд ли кто-нибудь относился. На случай, если со мной что-нибудь стрясется, я помянул вас в завещании. Вы, верно, предпочтете жить здесь и дальше и присматривать за квартирой, – она может понадобиться отцу, когда он в городе.
– Мне бы не хотелось уезжать отсюда, если вы не берете меня с собой. Вы это твердо решили, сэр?
Уилфрид кивнул:
– Твердо. А что будет с Фошем?
Стак сперва колебался, но потом слова вырвались у него сами собой:
– Пожалуй, мне давно надо было вам это сказать, сэр… но когда мисс Черрел последний раз сюда приходила, – в ту ночь, что вы ездили в Эппинг, – она попросила, чтобы ей отдали собаку, если вы куда-нибудь уедете. Собака ее любит, сэр.
Лицо Уилфрида стало непроницаемым.
– Сводите его погулять, – сказал он и пошел наверх.
Его снова охватило смятение. Да, это убийство! Но он его уже совершил! А мертвеца не воскресишь ни тоской, ни запоздалым сожалением. Собаку, если она хочет, он ей, конечно, отдаст. Почему женщины так дорожат воспоминаниями, когда самое лучшее для них – поскорее забыть? Он присел к столу и написал:
«Я уезжаю навсегда. Вместе с этой запиской ты получишь Фоша. Если хочешь, возьми его себе. Я гожусь только на то, чтобы жить один. Прости, если можешь, и забудь.
Уилфрид».
Он надписал адрес и стал медленно оглядывать комнату. Нет и трех месяцев с тех пор, как он вернулся! А кажется, что прошла целая вечность… Динни стоит возле камина, после ухода отца!.. Динни сидит на диване, подняв к нему лицо… Вот тут… вон там….
Ее улыбка, ее глаза, волосы… В душе его боролись два видения: Динни и та памятная сцена в палатке бедуина. Как же он сразу не понял, к чему это приведет? Он ведь себя знает! Уилфрид взял еще листок бумаги и написал:
«Дорогой папа,
Климат Англии мне явно вреден, и завтра я отправляюсь в Сиам. Время от времени буду сообщать свой адрес банку. Стак остается и будет следить, чтобы квартира была в порядке, поэтому ты сможешь ею пользоваться, когда захочешь. Прошу тебя, береги свое здоровье. Постараюсь посылать тебе монеты для твоей коллекции. Прощай.
Любящий тебя
Уилфрид».
Отец прочтет и скажет: «Ну и ну! С чего это он вдруг? Вот чудак!» И это все, что о нем скажут или подумают. Подумают все, кроме…
Он написал еще одно письмо, на этот раз в банк; потом, усталый, прилег на диван.
У него нет сил; пусть Стак уложит вещи сам. К счастью, паспорт в порядке, – этот странный документ, который делает тебя независимым; пропуск в желанное одиночество. В комнате было тихо, – в этот час, перед вечерним разъездом, уличный шум смолкает. В лекарстве, которое он принимал после приступов малярии, был опиум, и на него напала дремота. Он глубоко вздохнул и лег поудобнее. Сквозь полузабытье он вспоминал запахи: верблюжьего помета, жареного кофе, ковров, пряностей и человеческого тела на Suks[34]34
Большой рынок (арабск.).
[Закрыть], резкий свежий ветер пустыни, болотистую вонь деревушки на берегу реки и звуки: причитания нищих, хриплый кашель верблюда, вой шакала, зов муэдзина, топот ослиных копыт, стук молотка в лавчонке чеканщика, скрип и стон колодезного ворота. Перед глазами потянулись видения знакомого ему Востока. Теперь его ждет другой Восток – чужой и более далекий… и Уилфрид наконец крепко заснул.
Глава тридцать шестая
Увидев в Грин-парке, как он от нее отвернулся, Динни поняла, что все кончено безвозвратно. Его больной, страдальческий вид взволновал ее до глубины души. Если бы он снова нашел покой, ей было бы легче. С того вечера, когда он от нее убежал, Динни уже не верила ни во что хорошее, знала, что ее ждет, и старалась не распускаться. Расставшись с Майклом ночью в холле, она ненадолго прилегла, а потом выпила кофе у себя в комнате. Часов в десять утра ей передали, что ее дожидается какой-то человек с собакой.
Она торопливо оделась и спустилась вниз. Это мог быть только Стак.
Слуга Уилфрида стоял возле «саркофага», держа Фоша на поводке. Лицо его, как всегда, выражало сочувствие, но сегодня оно было бледным и постаревшим, как будто Стак всю ночь не спал.
– Мистер Дезерт просил передать вам вот это, – и он протянул ей записку.
Динни отворила дверь в гостиную.
– Прошу вас, зайдите. Сядем.
Он сел и выпустил поводок. Собака подошла и положила морду ей на колени. Динни прочла записку.
– Мистер Дезерт пишет, что я могу взять Фоша.
Стак уставился в пол.
– Он уехал, мисс. Сел на утренний поезд, что идет на Париж и Марсель.
В складках его щек Динни заметила влагу. Он громко шмыгнул носом и сердито отер лицо рукой.
– Я прожил с ним четырнадцать лет, мисс. Ничего удивительного, что расстраиваюсь. Он сказал, что больше никогда не вернется.
– А куда он уехал?
– В Сиам.
– Далеко, – с улыбкой сказала Динни. – Но самое главное, чтобы ему было хорошо.
– Это верно… а теперь я расскажу вам, как кормить собаку. Ей дают галету утром, часов в девять, и кусочек вареной говядины или бараньей головы с овсянкой часов в шесть-семь – больше ничего. Хорошая, спокойная собака, очень воспитанная. Если вы не против, она может спать у вас в спальне, мисс.
– А вы остаетесь жить там же, Стак?
– Да, мисс. Квартира-то ведь его отца. Я вам говорил, мисс, что мистер Дезерт – человек непостоянный, но на этот раз он, кажется, решил твердо. Да, в Англии он всегда чувствовал себя не в своей тарелке.
– Я тоже думаю, что на этот раз он решил твердо. Я могу чем-нибудь вам помочь, Стак?
Слуга покачал головой, он не отрывал глаз от лица Динни, и та поняла, что ему очень хочется сказать ей что-то теплое, но он не решается. Она поднялась.
– Пожалуй, я схожу с Фошем погулять, пусть ко мне привыкает.
– Да, мисс. Я спускаю его с поводка только в парке. Если вам захочется что-нибудь спросить, вы телефон знаете.
Динни протянула ему руку.
– Ну что ж, прощайте, Стак. Всего вам хорошего.
– И вам тоже, мисс, от всей души.
Глаза его на этот раз откровенно выражали сочувствие, и он очень крепко пожал ей руку. Динни продолжала улыбаться, пока он не ушел и дверь за ним не захлопнулась, а потом села на диван и закрыла лицо руками. Собака проводила Стака до дверей, разок тявкнула и вернулась к Динни. Та отняла руки от лица, взяла лежавшую на коленях записку и разорвала ее.
– Ну вот, Фош, – сказала она. – Что ж нам теперь делать? Пойдем погуляем?
Хвост зашевелился; пес тихонько заскулил.
– Пойдем, малыш.
Она не чувствовала слабости, но в ней словно сломалась какая-то пружина. Держа собаку на поводке, она пошла к вокзалу Виктория и остановилась возле памятника. Тут ничего не изменилось, только листва вокруг стала гуще. Человек и конь, они глядят на вас чуть-чуть свысока, но полны сдержанной силы, – оба настоящие труженики. Она долго стояла, закинув голову, лицо ее осунулось, сухие глаза запали; рядом с ней терпеливо сидела собака.
Наконец, беспомощно пожав плечами, она отвернулась и быстро повела собаку в парк. Побродив там, она отправилась на Маунт-стрит и спросила, дома ли сэр Лоренс. Ей сказали, что он у себя в кабинете.
– Ну как, дорогая? – спросил он. – Славная собака. Твоя?
– Да, дядя. У меня к тебе просьба.
– Пожалуйста.
– Уилфрид уехал. Сегодня утром. И больше не вернется. Будь добр, скажи моим и Майклу, тете Эм и дяде Адриану. И пусть никто мне об этом не напоминает.
Сэр Лоренс наклонил голову, взял ее руку и поднес к губам.
– Смотри, Динни, что я хотел тебе показать. – Он взял со стола маленькую статуэтку Вольтера. – Позавчера купил. Ну разве он не прелесть, этот старый циник? Почему французы могут себе позволить быть циниками, а другие народы – нет? Меня это давно занимает, По-видимому, цинизм хорош только при изяществе и остроумии, не то он превращается в обыкновенное хамство. Циник-англичанин – это просто брюзга. Циник-немец похож на злую свинью. Циник из Скандинавии – это бедствие, он невыносим. Американцы – вечно прыгают, как заводные, им не до цинизма, а русские для этого слишком непоследовательны. Более или менее порядочного циника можно найти в Австрии или, скажем, в Северном Китае, – возможно, что тут все дело в географии…
Динни улыбнулась.
– Передай самый нежный привет тете Эм. Я сегодня еду домой.
– Дай тебе бог счастья, детка, – сказал сэр Лоренс. – Приезжай поскорей к нам сюда или в Липпингхолл, куда хочешь, мы всегда тебя рады видеть. – И он поцеловал ее в лоб.
Когда она ушла, сэр Лоренс позвонил по телефону, потом пошел к жене.
– Эм, у меня была Динни. Вид у нее как у призрака, если призраки улыбаются. Все кончено. Дезерт утром уехал совсем. Она не хочет больше ничего об этом слышать. Не забудешь?
Леди Монт ставила цветы в золоченую китайскую вазу; уронив цветы, она всплеснула руками:
– Ах ты боже мой! Поцелуй меня, Лоренс.
Они постояли, обнявшись. Бедная Эм! У нее такое мягкое сердце. Она прошептала, уткнувшись ему в плечо:
– У тебя весь воротник в волосах. Ну зачем ты причесываешься в пиджаке? Повернись, я тебя почищу.
Сэр Лоренс повернулся.
– Я позвонил в Кондафорд, Майклу и Адриану. Помни, Эм! Надо вести себя так, будто никогда ничего не было!
– Конечно! А зачем она приходила к тебе?
Сэр Лоренс пожал плечами.
– У нее новая собака – черный спаньель.
– Очень привязчивые, но рано толстеют. Ну вот! Что они тебе сказали по телефону?
– Ничего, кроме: «Ах!», «Понятно!» и «Само собой разумеется».
– Лоренс, мне хочется поплакать; возвращайся скорей и сведи меня куда-нибудь!
Сэр Лоренс похлопал ее по плечу и поспешно вышел. Ему тоже было не по себе. Вернувшись в кабинет, он задумался. Бегство Дезерта – наилучший выход. Из всех людей, замешанных в этой истории, он, пожалуй, глубже и объективнее других разбирался в характере Уилфрида. Может, сердце у него и в самом деле золотое, но он это изо всех сил скрывает. Жить с ним? Ни за какие сокровища в мире! Трус? Да никакой он не трус! Все это совсем не так просто, как представляют себе Джек Маскем и прочая «соль британской империи», полная предрассудков и вздорных представлений о том, что все на свете – либо черное, либо белое. Нет! Дезерт просто попался в ловушку! При его своеволии, нетерпимости, гуманизме и безверии, да еще и привычке якшаться с арабами, – то, что он сделал, было так же не похоже на поведение среднего англичанина, как гвоздь на панихиду! И все-таки жить с ним нельзя! Бедной Динни в общем повезло! Странные коленца выкидывает судьба. Нужно же было, чтобы ее выбор пал на Дезерта! Но в делах любви нечего искать логику. Любовь не знает ни правил, ни здравого смысла. Что-то в ее натуре потянулось к чему-то родственному в нем, вопреки всему, что их разделяло, вопреки всем! И другого такого «попадания», как сказал бы Джек Маскем, может не быть за всю ее жизнь. Но ведь, черт побери, брак – это надолго, даже в наши дни – это не мимолетная забава. Для брака нужны и удача, и умение отдавать, и умение брать! А есть ли это умение у Дезерта – беспокойного, неуравновешенного, да к тому же еще и поэта! И гордого – той скрытной, самоуничижительной гордыней, которая не дает человеку покоя! Будь это просто связь, временное сожительство, на которое так падка современная молодежь, – тогда пожалуй! Но все это не для Динни, даже Дезерт и тот это понял! Для нее физическая близость не может существовать без духовной. Ах ты господи! Ну что ж – еще одна страждущая душа на свете, – бедная Динни!
«Куда же мне повести Эм в такое время дня? Зоопарка она не любит; картинные галереи мне осточертели! В музей восковых фигур? Пойдем к мадам Тюссо!»[35]35
Музей восковых фигур в Лондоне.
[Закрыть].
Глава тридцать седьмая
В Кондафорде Джин, повесив трубку, отправилась на поиски свекрови и передала ей слова сэра Лоренса с обычной своей деловитостью. Доброе, нерешительное лицо леди Черрел выразило испуг и тревогу.
– Ах!
– Сказать генералу?
– Пожалуйста, милочка!
Леди Черрел снова принялась было записывать домашние расходы, но задумалась. Не считая Хьюберта, она одна в семье так никогда и не видела Уилфрида Дезерта, но старалась быть к нему справедливой и не мешать дочери, – совесть ее была чиста; теперь она просто очень жалела Динни. Но что поделаешь? Когда у близких траур, им посылают цветы: леди Черрел вышла в сад, к клумбам, отгороженным высокой живой изгородью из тисов, где вокруг старых солнечных часов росли розы. Нарвав целую корзинку самых красивых роз, она отнесла их в узенькую, похожую на келью спаленку Динни и расставила в вазах возле кровати и на подоконнике. Потом распахнула настежь дверь и многостворчатое окно, позвонила горничной и велела вытереть пыль и постелить постель. Она поправила гравюры на стенах и сказала:
– Картины я вытерла сама. Пускай дверь и окно будут открыты. Мне хочется, чтобы здесь хорошо пахло. Вы можете сейчас здесь убрать?
– Да, миледи.
– Тогда прошу вас, Энн, сделайте это не откладывая, я не знаю, в котором часу приедет мисс Динни.
Она снова взялась за свои счета, но не могла сосредоточиться и, сунув бумаги в ящик, пошла к мужу. Он тоже корпел над счетами, и вид у него был очень подавленный. Она подошла к нему и прижала его голову к себе.
– Джин тебе уже сказала, Кон?
– Да. Это единственный выход; но мне ужасно жалко Динни.
Они помолчали.
– Надо бы сказать ей, что у нас очень плохо с деньгами, – предложила леди Черрел. – Это ее отвлечет.
Генерал взъерошил свои волосы.
– Мне не хватит в этом году трехсот фунтов. Можно будет получить сотни две за лошадей, на остальную сумму придется продать лес. Не знаю, с чем мне труднее расстаться. А что может придумать Динни?
– Ничего, но она огорчится, и это заставит ее поменьше думать о своих делах.
– Понимаю. Ну что ж, скажите ей вы: ты или Джин; мне не хочется, не то она может подумать, что я намерен урезать ее карманные деньги. А я и так даю ей гроши. Пожалуйста, объясни ей, что об этом не может быть и речи. Ей надо бы куда-нибудь съездить, но откуда взять денег?
Этого леди Черрел не знала, и разговор прервался.
В старом доме, который столько веков подряд видел столько людских надежд, страхов, рождений, смертей, повседневных забот и суеты, что сам стал похож на мудрого деда, воцарилась тревога, она сквозила в каждом слове и жесте, даже у прислуги. Как себя вести? Как выказать сочувствие, его не показывая? Как проявить радость по случаю приезда Динни, чтобы она, не дай бог, не подумала, будто они радуются тому, что произошло? Даже Джин заразилась общим волнением. Она вычистила и расчесала всех собак, а потом выпросила машину и стала встречать все послеобеденные поезда.
Динни приехала третьим. Держа на поводке Фоша, она вышла из вагона и очутилась в объятиях Джин.
– Здравствуй, дорогая, – сказала та, – наконец-то! Новая собака?
– Да, смотри, какая прелесть.
– А где твои вещи?
– Вот это все. Не стоит искать носильщика, они, как всегда, таскают велосипеды, их не дозовешься.
– Давай чемодан, я донесу его до машины.
– Ну уж нет! Держи Фоша.
Положив чемодан и несессер в машину, Динни сказала:
– Ничего, если я пройдусь пешком? Фошу полезно, да и в поезде была ужасная духота; мне хочется подышать запахом сена.
– Да, сено еще не убрано. Я отвезу вещи и заварю к твоему приходу чай.
Динни с улыбкой проводила взглядом машину, и всю дорогу, до самого дома, Джин видела эту улыбку и бормотала проклятия…
Выйдя в поле, Динни отпустила Фоша, он сразу же кинулся к живой изгороди, и она поняла, как ему всего этого не хватало. Фош – деревенская собака! На минуту его деловитая радость отвлекла ее внимание, но к ней сейчас же вернулась режущая, злая боль. Она подозвала пса и двинулась в путь. На первом поле еще лежало скошенное сено, и Динни бросилась на него ничком. Когда она придет домой, ей нужно будет следить за каждым своим словом и взглядом и улыбаться, улыбаться, только бы не показать, что у нее на душе! Ей так нужно хотя бы несколько минут побыть совсем одной, без посторонних глаз. Плакать она не могла; она прижалась к раскиданному по земле сену; солнце жгло ей затылок. Повернувшись на спину, Динни стала глядеть на голубое небо. В голове бродили бессвязные мысли, но владела ею одна только боль, тоска о том, что потеряно и уже не вернется. Вокруг нее дремотно гудело лето, оно жужжало крыльями насекомых, пьяных от солнца и меда. Динни прижала руки к груди, чтобы поглубже загнать эту боль. Ах, если бы она могла умереть здесь, сейчас, в разгар лета с его жужжанием и пением жаворонков, умереть и больше ничего не чувствовать! Она лежала неподвижно, пока не подошла собака и не лизнула ее в щеку. Тогда, устыдившись, она встала и смахнула с платья и чулок сухие стебли травы.
Динни прошла через соседнее поле, мимо старого Кисмета, к узенькому ручейку, а оттуда прямо в фруктовый сад, где уж больше не было белого волшебства весны; сейчас там пахло крапивой и мшистой корой; потом она вышла в сад к каменным плитам террасы. На магнолии распустился первый цветок, но она побоялась остановиться и вдохнуть его лимонно-медовый запах; подойдя к высокому окну, она заглянула в комнату.
У матери было то выражение лица, какое Динни называла «мама ждет папу». Отец стоял с тем выражением лица, какое она называла «папа ждет маму», а у Джин был настороженный вид, словно ее тигренок вот-вот покажется из-за угла.
«А тигренок на этот раз – я», – подумала Динни, переступая порог, и воскликнула:
– Мамочка, дорогая, дай мне чаю поскорей…
Вечером, пожелав всем доброй ночи, Динни снова сошла вниз и заглянула в кабинет отца. Он сидел за письменным столом с карандашом в руке и внимательно перечитывал исписанный листок бумаги. Подкравшись сзади, Динни прочла из-за его спины:
«Продаются охотничьи лошади: гнедой мерин десяти лет, здоровый, красивый, хорошо берет препятствия. Кобыла темно-чалая, девяти лет, очень умная, ходит под дамским седлом, может брать препятствия на состязаниях, в отличной форме. Обращаться к владельцу, именье Кондафорд. Оксфордшир».
– Г-м-м… – пробормотал отец и вычеркнул «в отличной форме».
Динни протянула руку и взяла бумагу.
Генерал вздрогнул от неожиданности и обернулся.
– Нет, этого не будет, – сказала Динни и разорвала листок.
– Постой! Что ты делаешь? Я столько времени…
– Нет, папа, продать лошадей ты не можешь. Ты без них места себе не найдешь.
– Но я вынужден их продать, Динни!
– Знаю. Мама мне сказала. Но в этом нет нужды. У меня как раз оказалась довольно большая сумма. – И она положила на стол деньги, которые так долго берегла.
Генерал встал.
– Ни за что! – воскликнул он. – Большое тебе спасибо, Динни, но это невозможно!
– Папа, пожалуйста, возьми. Дай и мне что-нибудь сделать для Кондафорда. Деньги мне теперь не нужны, а тут как раз триста фунтов, которых тебе не хватает.
– Они тебе не нужны? Ну, это чепуха! Как же так? На эти деньги ты могла бы путешествовать.
– А я не хочу путешествовать. Я хочу пожить дома и помочь вам с мамой.
Генерал пристально посмотрел ей в глаза.
– Мне стыдно брать их у тебя, – сказал он. – Я сам виноват, что влез в долги.
– Папа, но ты же не тратишь на себя ни копейки!
– Понимаешь, я даже не знаю, как это получается… тут немножко, там немножко, а глядишь, набралось…
– Давай постараемся разобраться вместе. Я уверена, что можно кое в чем себя урезать.
– Хуже всего, когда нет оборотного капитала; За все приходится платить из доходов По имению, а страховка и налоги все время растут, и доходы становятся все меньше и меньше.
– Знаю, положение у нас действительно ужасное, А нельзя нам разводить каких-нибудь животных?
– Опять же для начала нужно вложить деньги… Нам бы, конечно, хватало, живи мы в городе или за границей. Но содержать имение…
– Бросить Кондафорд? Ну нет! Да и кому, кроме нас, он нужен? Несмотря на все, что ты сделал, мы все равно отстали от века.
– Да, это правда.
– Мы не сможем сдавать это «историческое поместье», не краснея. Никто не захочет платить деньги за чужих предков.
Генерал грустно уставился в пространство.
– Эх, как бы я хотел, чтобы у меня не было этой наследной обузы! Мне так противно думать о деньгах, выгадывать гроши, вечно беспокоиться, сведешь ли концы с концами. Но ты права: о том, чтобы его продать, не может быть и речи. А кто возьмет его в аренду? Тут не устроишь ни интерната, ни загородного клуба, ни лечебницы для душевнобольных. А это судьба большинства старых имений. В нашей семье у одного только дяди Лайонела есть деньги, – может, он снимет Кондафорд, чтобы проводить здесь праздники?
– Не надо, папа. Не надо! Постараемся как-нибудь прожить. Я уверена, что это можно сделать. Дай-ка мне попробовать, вдруг я сумею свести концы с концами. А пока возьми эти деньги, слышишь? И начнем сначала, без долгов.
– Но, Динни….
– Не огорчай меня, пожалуйста.
Генерал привлек ее к себе.
– Эта твоя история… – пробормотал он, уткнувшись лицом в ее волосы. – Господи, что бы я дал…
Она затрясла головой.
– Я на минутку выйду. Просто так, побродить по саду. Там хорошо…
И, обмотав шею шарфом, она вышла на террасу.
Последние отсветы долгого летнего дня еле брезжили на горизонте, но тепло еще окутывало землю, – воздух был недвижен, и роса еще не пала; стояла тихая, сухая, расшитая звездами черная ночь. Динни спустилась с террасы и сразу же затерялась во тьме. Старый дом, увитый плющом, стоял перед нею темной, громадой с квадратами четырех освещенных окон. Динни оперлась спиной о ствол вяза, закинула назад руки и обхватила дерево. Здесь ей покойнее: нет ни посторонних глаз, ни посторонних ушей. Она стояла неподвижно и вглядывалась в темноту, ощущая надежную опору у себя за спиной. Тучей носились мошки, едва не задевая ее лица. Ее окружала бесчувственная природа – равнодушная, поглощенная своими заботами даже ночью. Миллионы крошечных созданий спали, зарывшись в землю; сотни – летали и ползали; миллиарды травинок и цветов тянулись к небу, отдыхая в ночной прохладе. Природа! Безжалостная даже к тем из своих созданий, кто поет ей хвалу. Рвутся нити, разбиваются сердца, – или что там еще происходит с этими глупыми сердцами? – а природа не дрогнет, не шелохнется. Подай она хоть знак, ее утешение было бы для Динни куда дороже людского сочувствия! Если бы, как в «Рождении Венеры»[36]36
Картина Боттичелли «Рождение Венеры».
[Закрыть], ветерок приласкал ее лицо, волны, как голубки, прильнули к ее ногам, пчелы летали бы вокруг, словно собирая мед! Если бы тут, во тьме, она хоть на миг почувствовала свою близость к звездам, могла раствориться в запахе земли, в шелесте крыльев летучей мыши, в прикосновении крыльев мотылька к ее лицу!
Запрокинув голову и прижавшись всем телом к стволу, она задыхалась от немоты ночи, от ее черноты, от сверкания звезд. Если бы у нее были уши ласки и нюх лисы, она бы услышала все, что творится под покровом этой мглы! Над головой в ветвях чирикнула птица. Издалека послышался гул последнего поезда, он стал громче, перешел в стук колес, шипение пара, потом заглох, замер тихим перестуком вдали. И снова ни звука! Там, где она стояла, когда-то был ров, но его давно засыпали, и на этом месте вырос огромный вяз. Медленно течет жизнь дерева в непрестанной борьбе с ветрами; медленно и цепко живет оно, как живет ее семья, привязанная всеми корнями к родному клочку земли.
«Я не буду о нем думать», – сказала она себе. «Я не буду о нем думать!» – повторяла она, как ребенок, который не хочет вспоминать о том, что причиняло ему боль. И сразу же в темноте перед ней выплыло его лицо – глаза и губы. Она быстро повернулась к стволу и прижалась лбом к жесткой коре. Но его лицо все равно стояло перед ней. Отпрянув, она бесшумно побежала по траве, невидимая, как ночной дух. Долго бродила она по холмам, и ходьба успокоила ее.
«Ну что ж, – думала она. – Было у меня счастье и миновало. Ничего не поделаешь. Пора возвращаться домой».
Она постояла еще немного, глядя на звезды, такие далекие, холодные и ясные. И подумала, чуть улыбнувшись:
«Где же ты, моя счастливая звезда?»
1932 г.









































