Текст книги "Все романы в одном томе (сборник)"
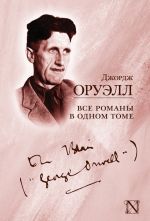
Автор книги: Джордж Оруэлл
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 78 страниц) [доступный отрывок для чтения: 21 страниц]
Дело касалось сбежавшего бандита. Отсидев половину срока из положенных ему семи лет, разбойник Нга Шуэ О стал готовиться к побегу. Для начала его друзья на воле сумели подкупить охранника. С авансом в сто рупий тюремный страж отпросился в деревню хоронить родственника и неделю блаженствовал в мандалайских борделях. Затем, поскольку время шло, но побег все откладывался, тоскующий по борделям охранник решил еще подзаработать, выдав преступный план судье. У По Кин случай, конечно, не упустил – охраннику, пригрозив, велел держать язык за зубами, а в самую ночь побега, когда уж поздно было чем-либо воспрепятствовать, анонимно уведомил главу округа о лихом злоумышленном сговоре, во главе которого был назван, разумеется, тюремный начальник, известный мздоимец Верасвами.
Утром в тюрьме поднялся тарарам, полиция и конвоиры носились, обыскивая каждый закоулок (Нга Шуэ О уже далеко уплыл в заботливо приготовленном судьей сампане). Мистер Макгрегор был сражен. Кем бы ни являлся анонимщик, на сей раз донос подтвердился и сговор, безусловно, имел место. А коль скоро возникли основания подозревать доктора во взятках, то – логика не совсем строгая, но вполне ясная представителю комиссара – значительно вероятнее сделалась и скрытая политическая неблагонадежность.
Одновременно У По Кин обрабатывал и других белых. Отогнать от Верасвами гаранта его престижа, трусливого дружочка Флори, не составляло труда. Сложнее было с Вестфилдом; у начальника полиции имелось немало информации насчет делишек местного судьи; к тому же полицейские извечно ненавидят судейских. Но даже такой расклад У По Кин сумел обернуть себе на пользу – очередная анонимка винила доктора в союзе с отъявленным мерзавцем и вымогателем У По Кином. Это Вестфилда убедило.
Эллису писать было незачем, он и без понуждений рвался съесть доктора живьем. Зато одно из писем знаток европейских душ не поленился послать миссис Лакерстин. Чувствительной (и влиятельной) леди кратко сообщалось, что Верасвами подстрекает аборигенов похищать и насиловать белых женщин. Детали не понадобились – У По Кин точно определил больное место: «мятеж», «пропаганда», «националисты» рисовались миссис Лакерстин одной жуткой, порой до утра не дававшей уснуть картиной сверкающих глазами и яростно срывающих с нее платье смуглых грузчиков. В общем, сколь ни благоприятно было прежде мнение европейцев о докторе Верасвами, теперь оно стремительно менялось к худшему.
– Видишь? – самодовольно подытожил У По Кин. – Я его подрубил со всех сторон, осталось лишь толкнуть мертвое дерево. Недельки через три я и толкну.
– Как это?
– Ладно, расскажу тебе. Смыслишь ты мало, но рот на замке держать умеешь. Слышала ты про бунт, который затевают в Тхонгве?
– Ой, глупые крестьяне, куда им с их дахами и копьями против индийских солдат? Их же перестреляют, как зверей в лесу.
– Ясное дело! Начнут беситься – перебьют. Ишь, темнота, рубах, которые пуль не боятся, накупили. Тупая деревенщина!
– Бедные люди! Почему ты их не остановишь? Не надо арестовывать, просто скажи им, что все тебе, судье, про них известно, и они сразу притихнут.
– Ну, я, конечно, мог бы, мог бы. Но уж не стану, нет! Только смотри молчи, жена, – мятеж-то мой. Я сам его готовлю.
– Ты?!
Сигара выпала изо рта Ма Кин, узкие глаза в ужасе округлились.
– Что ты такое говоришь? Ты и мятеж? Этого быть не может!
– Может, может. И пришлось-таки мне похлопотать. Колдуна этого нашел в Рангуне – отменный плут, факир, всю Индию с цирком объехал, рубахи от пуль мы с ним на распродаже по полторы рупии сторговали. Денег-то, я тебе скажу, порядочно ушло.
– Но мятеж! Битва, кровь, столько людей убьют! Ты не сошел с ума? Ты не боишься, что и тебя застрелят?
У По Кин оцепенел от изумления.
– Святые небеса! О чем ты, женщина? Я, что ли, буду бунтовать? Я, испытанный, вернейший слуга правительства? Ну, ты надумаешь! Я тебе говорю, что здесь мои мозги, а не мое участие. Шкуры пускай дырявят олухам деревенским. Про мое к этому касательство известно только двоим-троим надежным людям, сам я чист как стеклышко.
– Но ведь ты подговаривал взбунтоваться?
– А как же? Если Верасвами изменник, должен я для доказательства всем показать мятеж? А? Должен или нет?
– Ах вот оно что! И потом ты скажешь, что доктор виноват?
– Наконец-то дошло! Тут и тупице ясно, что мне бунт нужен, только чтобы подавить его. Я этот… слово еще у Макгрегора такое длинное?.. Я про-во-ка-тор. Умный провокатор, понимаешь? Э-э, где тебе. Сам разжигаю дураков, сам и ловлю. Чуть забурлят, а я их – хоп, и под арест! Кого повесят, кого в каторгу, а я – я буду первый, кто бросился в бой со злодеями. Бесстрашный, благородный У По Кин, герой Кьяктады!
Улыбнувшись и приосанившись, судья вновь принялся прохаживаться вперевалку туда-сюда. После некоторых молчаливых размышлений Ма Кин сказала:
– Все-таки не пойму зачем? Куда это ведет? И при чем здесь индийский доктор?
– Пустая твоя голова! Не помнишь разве, как я говорил: мне Верасвами поперек дороги. Что бунт его рук дело, может, и не доказать, но все равно доверие он потеряет, это точно. Европейцы наверняка подумают, что он как-то замешан, так уж мозги у них устроены. А Верасвами падает – я поднимаюсь, ему больше позора – мне больше чести. Теперь ясно?
– Ясно, что ум у тебя насквозь злой и план твой подлый. Не стыдно ли тебе все это мне рассказывать?
– Давай-давай! Давно не причитала?
– И почему тебе хорошо только, если другим вред? Ты подумай, как будет доктору, когда его уволят, каково будет тем несчастным деревенским, которых застрелят, или выпорют до полусмерти, или в тюрьму посадят на всю жизнь. Что тебе с этого? Денег все мало?
– Деньги! Кто говорит про деньги? Пора сообразить, что бывает кое-что поважнее. Слава. Величие. А вдруг сам губернатор орден к моей груди приколет? А? Не гордилась бы такой честью?
Ма Кин грустно покачала головой.
– Когда ты вспомнишь, что не вечный? Знаешь ведь, что настигнет творивших зло. Станешь вот жабой или крысой. Или еще хуже – в ад попадешь. Один священник рассказывал, он сам читал в англичанских святых книгах: тысячи веков два огненных копья будут терзать грешное сердце, а потом еще тысячи веков других ужасных адских казней. Не страшно?
У По Кин, смеясь, ладонью прочертил в воздухе волну, что означало «пагоды! пагоды!».
– Хорошо бы тебе перед смертью так смеяться, – вздохнула жена. – А вот мне бы не хотелось отвечать за такую жизнь.
Дернув худым плечиком, она снова зажгла сигару и отвернулась. Супруг еще немного походил, потом, остановившись, заговорил тоном гораздо более серьезным, даже несколько неуверенным:
– Слушай, Кин-Кин, я тебе одну вещь скажу, никогда никому не говорил, сейчас скажу.
– Не буду слушать про новое зло!
– Нет-нет. Ты вот все спрашиваешь «для чего?», думаешь, я хочу прихлопнуть Верасвами, потому что ненавижу таких чистюль. Не только потому. Есть кое-что – еще важнее для меня, да и тебя касается.
– Что же такое?
– Не мечтаешь ли ты иной раз о том, чтобы стать как-то повыше? Не обижает тебя, что наши, вернее, мои, успехи и не особенно заметны? Ну, накопил я много тысяч рупий, да, много, а погляди на этот дом – очень отличишь от простой хибары? Надоело есть деревенскую еду, общаться с туземной шушерой. Богатства мало, я хочу другого положения. А ты? Не желала бы ты как-то поднять свою жизнь, как-то, я назову это – возвыситься?
– Не знаю, чего еще тут хотеть. Мне, когда я жила в деревне, такие дома и не снились. Вон стулья наши, я на них хоть не сажусь, а любоваться-то какая гордость!
– Кх! В деревне тебе и место, бадьи на голове таскать. Но мне, хвала небу, честь дорога. И я теперь тебе открою, для чего мне падение Верасвами. Я намерен достичь действительно великого. Обрести самое высокое, самое благородное! Удостоиться высочайшей награды, какую только может заслужить житель Востока. Поняла уже, о чем я?
– Н-нет. О чем ты?
– Думай, думай! Мечта и цель всей моей жизни! Догадалась?
– Ой, знаю – ты хочешь купить автомобиль. Но уж не жди, По Кин, что я туда усядусь.
У По Кин горестно воздел руки.
– Автомобиль! Твоих мозгов орешки продавать не хватит! Да я бы накупил двадцать автомобилей, если бы захотел. На что они здесь? Нет, это нечто поистине грандиозное.
– Но что?
– А вот что. Белым вскоре надо будет принять в свой клуб какого-нибудь азиата. Очень не хочется им, но от комиссара приказ, так что уж выберут. Кого? Естественно, намечен самый крупный здешний чиновник-азиат, стало быть – Верасвами. Ну а если он весь замаран, то…
– Ну?
У По Кин смотрел на жену, и на его жирном лице с огромной хищной пастью вдруг проступило робкое умиление. Даже рыжие глазки увлажнились. Тихо, почти благоговейно он произнес:
– Не видишь? Не понимаешь, что тогда выберут меня?
Эффект был шоковый. Ма Кин, казалось, онемела. Все прежние триумфы мужа разом померкли.
И в самом деле. Заповедный, недостижимый, как нирвана, клуб европейцев! По Кин – голопузый нищий малыш из Мандалая, базарный воришка, мелкий писарь, рядовой туземный чиновник – сможет войти в таинственный великий храм и запросто болтать с белыми, пить из бокала виски, гонять палочкой шарики по зеленому столу! И деревенская Ма Кин, увидевшая свет сквозь щель соломенной лачуги, будет сидеть там, взгромоздясь на стул, в тесных чулках и жмущих туфлях с каблуками (высокими каблуками!), сидеть и, повторяя несколько слов индийского жаргона, беседовать с белыми леди о пеленках! Да, такое любого ослепит.
Ма Кин надолго замолчала, приоткрыв губы, зачарованно представляя волшебную европейскую роскошь. Впервые за всю жизнь интрига мужа не вызвала ее неодобрения. Что ж, вероятно, это было даже потруднее, чем прорваться в клуб европейцев, – разбудить честолюбие кроткой, непритязательной Ма Кин.
13
Пропустив у ворот чумазых оборванцев-санитаров, тащивших завернутое в дерюгу тело какого-то кули к неглубокой яме в лесу, Флори по твердой как камень, кирпичного цвета земле пошел через больничный двор. Окружавшие двор широкие террасы были забиты тихо и неподвижно лежавшими на голых койках больными. Между подпорками террас дремали или грызли блох шелудивые дворняги, по слухам кормившиеся отходами хирургических операций. Все выглядело ветхо и неряшливо. Боровшийся за гигиену доктор Верасвами не мог одолеть пыль, недостаток воды, лень санитаров и невежество фельдшеров. У доктора, сказали Флори, сейчас амбулаторный прием.
Обстановка приемного кабинета с покрытыми штукатуркой стенами ограничивалась столом, парой стульев и запыленным, очень мало похожим на оригинал портретом королевы Виктории. Вдоль стены ежились, дожидаясь своей очереди, крестьяне в линялых тряпках. Доктор, без пиджака, мокрый от пота, с обычным суетливым восторгом встретил Флори, усадил, подвинул ему пачку сигарет.
– Какой восхитительный виссит, друг мой! Располагайтесь, отдыхайте! Если тут, эххе-хе, возможно отдохнуть. Мы пойдем ко мне, там уж поговорим как полагается, с пивом и прочим. Только, простите великодушно, я должен принять население.
Минуту спустя Флори уже плавился, задыхаясь в спертом, раскаленном воздухе. Один за другим подходили пациенты, всеми своими порами, казалось, источавшие чесночный дух. Доктор вспрыгивал со стула, сыпал вопросами на ломаном бирманском, вертел человека, прижимался смуглым ухом к спине, груди, снова отпрыгивал к столу и торопливо строчил рецепт. Потом по этим рецептам аптекарь в своей каморке выдавал крестьянам разнообразно окрашенную воду, поскольку с жалованьем в двадцать пять рупий поддерживал себя подпольной продажей медикаментов (для доктора аптекарский бизнес, разумеется, оставался тайной).
Нередко ввиду срочных хирургических операций амбулаторные осмотры поручались фельдшеру, чья метода отличалась быстротой и крайней простотой. После ответа на единственный вопрос: «Где болит: голова, кости, брюхо?» – пациенту немедленно вручалась бумажка из трех заготовленных стопок. Больные, надо сказать, предпочитали фельдшера, который не пытал их всякими неприличными вопросами и никогда не предлагал операцию – до смерти пугавшую «живорезку».
Проводив последнего пациента, доктор откинулся на стуле, обмахиваясь рецептурным блокнотом.
– Ахх, жара! Этот чеснок меня доконает! А вы еще дышите, мистер Флори? У англичан чрезвычайно чувствительное обоняние. Как вам, наверно, тяжело на нашем пахучем Воссьтоке!
– Предлагаю вывесить над Суэцким каналом предупреждение: «Заткни нос, всяк сюда входящий!» Вы очень заняты?
– Как всегда. Но знали бы вы, друг мой, сколько препон врачу в этой стране! Невежество кромессное! Крестьян в больницу не заманить, им лучше гангрена или опухоль с арбуз, чем нож хирурга. А чем лечат их «знахари»? Травой, собранной в новолуние, усами тигра, толченым рогом носорога, мочой, менструальной кровью! Как только они эти эликсиры в рот берут.
– Однако довольно живописно. Вам надо бы составить атлас бирманской фармакопеи.
– Ссьтадо варваров, ссьтадо варваров! – восклицал доктор, не попадая в рукава полотняного пиджака. – Зайдем ко мне? Есть пиво, и немного льда еще, по-моему, осталось. Потом у меня экстренная операция, ущемление грыжи, но до десяти я свободен.
– Спасибо, доктор. Я ненадолго.
На веранде у доктора хозяин, огорченно обнаружив в холодильном чане вместо льда болото мокрой соломы, вытащил качавшуюся бутылку пива и с беспокойством крикнул слугам срочно пополнить ассортимент напитков. Флори, не снимая панамы, стоял у перил. Пришел он, чтобы извиниться. Со дня, когда в клубе был вывешен хамский протест относительно приема аборигена, он друга не навещал. Однако совесть взяла свое. Психолог У По Кин все-таки не совсем правильно оценил малодушного Флори, полагая, что парой анонимок отпугнет его от друга.
– Доктор, вам ведь известно, о чем я должен сказать?
– Мне? О чем?
– Ну, не притворяйтесь. Я был свиньей, подмахнув в клубе ту бумажонку. Это, конечно, не секрет для вас, но я хотел бы объяснить…
– Нет-нет, друг мой, нет-нет, не объяссьняйте! – Доктор заметался по веранде, затем, подскочив к Флори, схватил его за рукав. – Вы не должны, я все-все понимаю.
– Да нет, вам не понять, как идешь на такие пакости. Никто меня не пугал, не вынуждал, официально нам даже предписано дружелюбие к туземцам. Но только очень уж рисковый малый пойдет за местного против своих. Не принято. Посмей я отказаться, получил бы пару недель обструкции от сотоварищей. Так что я, как обычно, сдрейфил.
– Мистер Флори, мистер Флори! Пожалуйссьта! Не продолжайте, не смущайте меня. Как же иначе на вашем месте? Разве я не понимаю!
– Да уж, вы знаете наш лозунг: «Помни, и в Индии ты англичанин!».
– Конессно же, конессно. А также ваш благороднейший девиз «Держаться плечом к плечу!» – вот где суть британского превосходства над Воссьтоком.
– Ну, девизами подлость не оправдаешь. Я-то пришел сказать, что никогда больше…
– Друг мой, я просто умоляю оставить эту тему! Пройдено и забыто. Пожалуйссьта, пейте пиво, пока не нагрелось. Вы, между прочим, не спросили о новостях.
– А! Выкладывайте. Как там старушонка Империя, не окочурилась?
– Плоха, плоха, ой как плоха! Хотя, пожалуй, мне, друг мой, еще ужассьнее. Иду ко дну.
– Что? Снова У По Кин, туша зубастая, сплетни распускает?
– Если бы только сплетни. Теперь уже нечто просто сатанинсськое. Вы слышали про тлеющий в деревне бунт?
– Слыхал что-то. Вестфилд мечтал всех перерезать, но, вот бедняга, не нашел кого. Вроде бы поселяне податью недовольны.
– А знаете сумму налога? Пять рупий! Ослы несчастные, конечно, поворчат и заплатят, обычная иссьтория. Но бунт, якобы бунт – о! Мистер Флори, вы должны знать, за всем этим кроется нечто большее.
– Неужели?
Беззлобный доктор вдруг так свирепо стукнул стаканом о стол, что расплескал свое пиво.
– Негодяй У По Кин! Слов нет! Зверь! Крокодил! Это, это же…
– Так-так, продолжайте: бревно с клыками, клизма с ядом, сундук с навозом! Что ж он еще замышляет?
– О-о, неслыханную подлоссь!
И доктор довольно полно изложил тот провокационный план, который сам У По Кин недавно разъяснял жене. Единственное, о чем не был осведомлен Верасвами, – честолюбивое желание судьи пробиться в Европейский клуб. От возмущения темнокожее лицо доктора не то чтобы вспыхнуло, но еще больше потемнело. Флори изумленно застыл.
– Вот гад коварный! Кто бы мог подумать? Но как вам удалось это узнать?
– Ахх, есть еще несськолько верных людей. Теперь вы видите, друг мой, что мне грозит? Он уже облил меня грязью, а если, не дай бог, разгорится нелепый мятеж, он сделает все, чтобы как-нибудь примешать к этому мое имя. Тень подозрения в неблагонадежности меня погубит; намек на то, что я хотя бы сочувствовал бунтовщикам, – и мне конец!
– Но черт возьми, это же просто смешно! Как-то ведь можно защититься.
– Как? Если правда мне иссьвестна, но доказать ничего невозможно. Потребую я официального расследования, а он на каждого моего свидетеля выведет полсотни своих. Сила его влияния огромна, весь округ перед ним трепещет, никто не поссьмеет и слова вымолвить против него.
– А зачем вам что-то доказывать? Пойдите и расскажите все Макгрегору, в каком-то смысле он парень честный, он вас выслушает.
– Бессьполезно, бессьполезно, мистер Флори! Ахх, вы не сведущи в интригах. Недаром мудрый французский афоризм гласит: «Qui s’excuse, s’accuse» – «Кто ищет оправданий, тот виновен». Жалобы будут лишь себе во вред.
– Так что же делать?
– Ничего. Только ждать и надеяться на ссьвою репутацию. Когда дело касается туземного чиновника, все, абсолютно все, зависит от отношения европейцев: доверяют они ему – он спасен, не доверяют – гибнет. Вес моего престижа все решит.
Минуту стояла тишина. Флори отлично знал цену престижа в этой стране. Не раз случалось наблюдать запутанные, сложные конфликты, где подозрение оказывалось гораздо сильнее аргумента, а репутация – важнее факта. Внезапно появилась мысль, испугавшая его самого. Но вместе с тревожным холодком проросла невозможная еще недели три назад уверенность. Наступил миг, когда ты совершенно ясно видишь, как ты, забыв про все силы на свете, должен, обязан поступить.
– А предположим, вас избрали в клуб? – прервал молчание Флори.
– О, если бы! Клуб – это крепоссь, за стенами которой любые слухи обо мне значили бы не больше шепота о вас, или о мистере Макгрегоре, или о любом из европейских джентльменов. Но столько подозрений уже посеяно насчет меня, разве можно надеяться?
– Ладно, слушайте, доктор. На следующем собрании я выдвину вашу кандидатуру. Знаю, вопрос об этом непременно встанет, и, если имя кандидата будет названо, почти уверен, что никто, кроме Эллиса, не положит черный шар. А пока…
– Ахх, друг мой, дорогой мой друг! – Чувства душили доктора, он схватил Флори за руку. – Как это благородно с вашей стороны! Как благородно! Однако мне очень неловко. Я боюссь, не навлечет ли это на вас недовольство ваших друзей? Того же, например, мистера Эллиса?
– Да провались он! Только, доктор, я ничего не могу обещать. Тут уж какую речь толкнет Макгрегор, какое будет настроение у прочих. Может, ничего и не выйдет.
Доктор по-прежнему сжимал руку Флори в своих пухлых, влажных ладонях. Крупные слезы, увеличенные линзами очков, блестели на его карих, по-собачьи преданных глазах.
– Ахх, ессли бы! И конец моим бедам! Однако будьте оссьмотрительны, мой друг, остерегайтесь У По Кина, вы станете ему преградой, а он опасен даже для вас.
– Не достанет! Пока что ничего он не придумал, кроме парочки глупых анонимок.
– О, я бы не был так уверен. Он находчив и ради ссьвоих целей землю и небо перевернет. К тому же все уязвимы, а он всегда умеет найти слабое место.
– Как крокодил?
– Как крокодил, – очень серьезно подтвердил доктор. – Но клуб, друг мой! Господи! Каким счастьем стало бы для меня приобщение к вашему Европейскому клубу! Состоять в товариществе нассьтоящих джентльменов! Да, мистер Флори, еще нечто, о чем я до сих пор не потрудился упомянуть. Полагаю, заранее понятно, что я никак не претендую как-либо пользоваться клубом? Приходить в клуб, я, разумеется, не осмелюсь.
– Не будете ходить?
– Нет-нет, избави меня Бог навязывать джентльменам свое общество. Я проссьто буду платить взносы. Это для меня уже высокая, высшая честь. Вы меня понимаете?
– Вполне, доктор, вполне.
На холм Флори поднимался, невольно посмеиваясь. Он твердо решился выдвинуть кандидатуру доктора. Вот шум в клубе поднимется, дьявольский будет вой! Ну-ну, посмотрим! Перспектива, месяц назад страшившая, теперь даже воодушевляла.
А почему? Что вообще побудило дать решительное обещание? Поступок, конечно, невелик – ничего героического, да и риска никакого, – но все-таки так непохоже на него. Долго, много лет осторожничать, исправно исполняя ритуалы благородных белых господ, – и вдруг столь неожиданная храбрость? С чего это?
Он знал причину – Элизабет. Она появилась, и будто сгинули все эти тошные, горькие годы. Будто повеял ветер Англии, прекрасной Англии, где мысль свободна и не нужно вечно изображать пакка-сахиба, наставляющего низшие расы. «Где ты, где ты, жизнь моя былая?»[35]35
Строчка песенки, которую напевает Петруччо перед свадьбой с Катариной в комедии Шекспира «Укрощение строптивой».
[Закрыть] – мурлыкал Флори. Одно присутствие Элизабет, одно ее существование переменило все, вдохнуло силы жить достойно.
– Где ты, где ты, жизнь моя былая? – продолжал он напевать, входя в свою калитку. Счастье, счастье! Флори сейчас понимал богомольцев, верящих в благодатное преображение. Он шел по садовой дорожке, и ему казалось, что все, недавно нагонявшее хандру, тоску по родине: сад и цветы, и дом, и слуги, и сам здешний обиход – все-все наполнилось чудесным, бесконечно прекрасным смыслом. Какой отрадой может стать тут жизнь, если будет с кем поделиться радостью! Как он полюбит тогда эту землю! Соблазнясь зернышками риса, просыпанными ходившим кормить кур садовником, Неро бросил вызов яростному светилу и вышел на самый солнцепек. Таившаяся в траве Фло выскочила из засады – алый петушок, захлопав крыльями, взлетел на плечо хозяину. Поглаживая шелковистый гребень Неро и его гладкие ромбовидные перышки, Флори вошел в дом.
Уже с порога волна сандала, жасмина и чеснока оповестила его о присутствии Ма Хла Мэй.
– Женщина вернулась, – доложил Ко Сла.
Флори посадил петуха на перила веранды. Лицо его побледнело, и отметина обозначилась еще резче. По ребрам будто бритвой полоснул ледяной спазм. В проеме спальни появилась Ма Хла Мэй; опустив голову, она глядела из-под нахмуренных бровей.
– Тхэкин, – произнесла она тихо, с ощутимой мрачной настойчивостью.
– Пшел вон! – рявкнул Флори на безвинного Ко Сла.
– Тхэкин, – повторила она, – пойдемте в спальню, мне надо с вами поговорить.
Он последовал за ней в спальню. За неделю – а прошла лишь неделя – она страшно изменилась: сальные волосы, ни единого браслета, лонджи из дешевого английского ситца да еще густо, как у клоуна, напудренное лицо с полоской смуглой кожи у корней волос. Вид уличной потаскушки. Флори старался не смотреть на нее – стоял, угрюмо глядя сквозь дверной проем на веранду.
– Зачем ты снова здесь? Почему не уехала в свою деревню?
– Я в городе осталась, у двоюродного брата. Как мне опять в деревню?
– И что это за посыльные с наглыми письмами? Ты разве не получила от меня сто рупий неделю назад, каких же денег еще можно требовать?
– Как мне опять в деревню? – не отвечая на его вопрос, повторила она так звонко, что он невольно повернулся к ней. Прямая, неподвижная, она смотрела хмуро и упрямо.
– Почему не можешь обратно к родичам?
Голос ее внезапно сорвался в истеричный базарный крик, она разразилась яростной тирадой:
– Как я могу вернуться на потеху глупым грязным крестьянам? Я, которая была бо-кадау, женой белого мужчины! Таскать корзины вместе со старыми ведьмами и уродинами, которых не взяли замуж? Это же такой стыд, такой позор! Два года я была ваша жена, вы меня любили, вы обо мне заботились, а потом вдруг ни за что выгнали, как собаку. И мне опять в деревню – без денег, без украшений, без шелковой одежды? А люди будут пальцем показывать и говорить: «Вон эта Ма Хла Мэй, которая думала, что умней всех нас. Поглядите-ка теперь! Белый мужчина обошелся с ней, как всегда у них водится!» Сгубили, сгубили вы меня! Кто на мне женится после того, как я два года жила здесь, в вашем доме? Вы взяли мою молодость. Ах, стыд-то какой, какой стыд!
Беспомощный и бледный, Флори виновато молчал. Возразить было нечего. Но как объяснить, что прежние их отношения в новой его жизни стали грехом и грязью? Пятно на щеке темнело, будто в лицо плеснули чернил. Интуитивно возвращаясь к вопросу о деньгах (что всегда имело успех с Ма Хла Мэй), он решительно сказал:
– Ладно, я дам тебе денег. Ты получишь те пятьдесят рупий, которые просила. Позже еще получишь. Но до следующего месяца ничего больше дать я не сумею.
Это было чистой правдой. Сто рупий ей на прощание и срочное обновление гардероба практически истощили его наличность. К ужасу Флори, Ма Хла Мэй издала пронзительный вопль, белая маска пудры сморщилась, хлынули слезы, и девушка рухнула на колени, уткнувшись лбом в пол.
– Вставай, вставай! – Его всегда просто трясло от подобной демонстрации смирения, этой покорно согнутой шеи и спины, словно ожидающей удара. – Видеть этого не могу, вставай сейчас же!
Она вновь завопила и попыталась обнять его лодыжки. Он отшатнулся.
– Встань, прекрати! Ну что за рев? Ну что ты так убиваешься?
Чуть приподняв голову, она закричала:
– Вы мне про деньги? Думаете, я за ними опять пришла? Что мне только деньги нужны? Да вы, наверно, и прогнали меня потому, что я, по-вашему, только денег хотела?
– Вставай, – повторил Флори, отступив, опасаясь, чтобы она вновь не схватилась за него. – Так чего же ты хочешь?
– Почему вы меня ненавидите? Какое зло я причинила вам? Украла ваш портсигар, но вы не из-за этого разгневались, вы собрались жениться на белой женщине, я знаю, и все знают! Но зачем выгонять меня, зачем ненавидеть?
– Нет никакой ненависти, все совсем не так. Вставай, пожалуйста.
Она рыдала, уже не стесняясь слез, как плачут дети; что ж, ведь она и впрямь была почти ребенком. И сквозь слезы тревожно наблюдала за выражением его лица, ища признаков милости. И внезапно – дичайшая выходка! – опрокинулась навзничь, бесстыдно раскинулась перед ним.
– Поднимись! – заорал он по-английски. – Поднимись, это мерзко, мне противно!
Тогда она червяком, оставляя на пыльном полу темный след, поползла к его ногам и замерла, униженно простершись ниц.
– Хозяин, хозяин, – скулила она, – простите, возьмите Ма Хла Мэй обратно. Я буду вашей рабой, вашей собакой, чем хотите, только не прогоняйте!
Обвив руками его ноги, она целовала его ступни, а он, беспомощный, стоял, руки в карманах, оцепенело глядя вниз. В комнату вбежала Фло, ткнула нос в складку женского платья, признала запах и неопределенно замахала хвостом. Не в силах больше терпеть эту пытку, Флори нагнулся, взял Ма Хла Мэй за плечи:
– Встань. Что толку рыдать? Мне больно на тебя смотреть. Я постараюсь тебе помочь.
Она с новой надеждой закричала:
– Вы примете меня? Да? О, хозяин, никто ничего не узнает! Белая леди будет думать, что я жена кого-нибудь из слуг. Возьмете меня снова?
– Не могу. Это невозможно, – отворачиваясь, сказал он.
В тоне его прозвучала не оставлявшая сомнений твердость. Со страшным воплем Ма Хла Мэй снова упала на колени и начала биться лбом о пол. Это было ужасно. И ужаснее всего, больнее и обиднее всего была низменность ее чувств: безумные, раболепные мольбы не содержали ни капли любви к нему. Душераздирающий плач лишь об утраченном положении праздной, нарядной, помыкающей слугами наложницы. Что-то невыразимо жалкое. Люби она Флори, совесть бы не позволила ему столь легко ее вышвырнуть. Горе без тени благородства весьма препятствует сердечному сочувствию. Он наклонился и поднял девушку.
– Послушай, Ма Хла Мэй, ты ничего плохого мне не сделала, это я виноват перед тобой. Но что ж теперь? Иди домой, а я при первой же возможности пришлю денег. Если захочешь, сможешь завести лавочку на базаре. Ты молода, красива и с деньгами наверняка найдешь мужа.
– Несчастная я! – завыла она. – Я убью себя, брошусь в реку! Как мне жить после этого позора?
Он почти ласково обнял ее. Тело девушки сотрясалось от рыданий, черноволосая головка лежала у него на груди, в ноздри бил запах сандала. Возможно, и сейчас, жалобно прижимаясь, она все-таки уповала на магическую власть женского тела. Флори с осторожностью отлепил ее и, убедившись, что она не собирается опять рушиться на колени, отошел в сторону:
– Ну, все. Тебе пора идти. Постой, я дам тебе пятьдесят рупий, как обещал.
Вытащив из-под кровати походный жестяной сундучок, он отсчитал пять банкнот по десять рупий. Она молча спрятала их за пазухой. Плач прекратился. Она удалилась в ванную и вскоре вышла умытая, с приглаженными волосами. Хмуро, но без истерики спросила:
– Так вы не примете меня обратно, тхэкин? Нет? Это ваше последнее слово?
– Нет, прости.
– Тогда я пойду, тхэкин?
– Да-да. Удачи, и помоги тебе Бог.
Прислонясь к столбику крыльца, он смотрел, как она уходила по залитой солнцем дорожке. Каждая линия ее гордо выпрямленной фигурки была напряжена зримой жестокой обидой. Она сказала правду – он украл ее юность. Его познабливало. Неслышно подошедший Ко Сла деликатно кашлянул.
– Что еще?
– Завтрак остывает, наисвятейший.
– Не хочу я. Выпить дай, принеси мне джин.
«Где ты, где ты, жизнь моя былая?»
14
Два каноэ, словно две длинные гнутые иглы по вышивке, неслись по ленте притока Иравади – Флори с Элизабет спешили на охоту. Поскольку было невозможно вместе провести ночь в джунглях, предполагалось пару часов пострелять и к ужину вернуться.
Узкие лодки из цельных стволов быстро скользили, едва колебля воду, тонкой темной полоской прорезавшую заросли сочных болотных гиацинтов с лиловыми цветами. Сквозь нависавшую листву струился зеленоватый свет. Порой раздавались крики попугаев, но зверье не показывалось, лишь метнулась через протоку юркнувшая под листья гиацинтов змея.
– Далеко еще до деревни? – крикнула Элизабет Флори, который плыл сзади в большом каноэ вместе с Фло, Ко Сла и махавшей веслом морщинистой старой туземкой.
– Далеко еще, бабушка? – спросил Флори.
Вынув сигару изо рта, старуха задумалась, потом ответила:
– Столько, как человек может кричать.
– Полмили, – перевел Флори.
Прошли две мили по реке. Спина у Элизабет затекла. В неустойчивой лодке приходилось сидеть на узкой перекладине не шевелясь и поджимать ноги, чтобы не коснуться катавшихся по дну дохлых креветок. Гребцу Элизабет было лет шестьдесят, но крепкое полуголое тело не утратило молодую стать, пожилое лицо светилось смешливой мягкостью, а густой гриве завязанных хвостом, свисавших на ухо волос могли бы позавидовать многие бирманки. Элизабет бережно сжимала лежавшее поперек колен дядюшкино, впервые взятое в руки, ружье. Оставить его с прочим снаряжением в лодке Флори она наотрез отказалась. На ней были грубые башмаки, прочная полотняная юбка, мужского фасона блуза и, разумеется, панама, и она знала, что все это ей идет. Вообще, несмотря на ломившую спину, испарину и вившихся вокруг крупных пестрых москитов, она была совершенно счастлива.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?





































