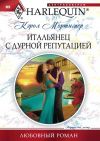Читать книгу "День, когда мы были счастливы"

Автор книги: Джорджия Хантер
Жанр: Книги о войне, Современная проза
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Глава 11
Адди
Пуатье, Франция
15 апреля 1940 года
Под темно-зелеными пиками бесконечного ряда кипарисов скрипят по пыльной дороге двенадцать пар кожаных подошв. Люди идут с самого рассвета, а скоро уже начнет смеркаться.
Последние несколько часов Адди слушал синхронный ритм шагов позади, игнорируя мозоли на ногах и думая о Радоме. Вестей от мамы не было уже полгода, в конце октября, перед самым отъездом из Тулузы, он получил ее последнее письмо. Она сообщала, что семья в порядке, за исключением Селима, который пропал без вести; что его братья все еще во Львове; что Яков и Белла собираются вскоре пожениться. «Магазин закрыли. Нас направили на работу», – писала Нехума, рассказывая о новых назначениях. Введены комендантский час и выдача продуктов по нормам, а немцы омерзительны, но главное, настаивала Нехума, что все здоровы и в основном обеспечены. В конце, перед самой подписью, она сообщила, что две еврейские семьи из их дома выселили и отправили в крохотные квартирки в Старом городе. «Я боюсь, – писала она, – что мы станем следующими».
В ответном письме Адди умолял маму сразу же сообщить ему, если их заставят переехать, и написать адреса Якова и Генека, но так и не получил ответа до своего отъезда из Тулузы. Теперь он на марше, вне досягаемости. С каждым днем, с каждой проходящей неделей узел в груди затягивается все туже. Адди не нравится ощущать себя таким далеким, таким беспомощно оторванным от своей семьи в Польше.
Адди включает головной фонарь, приказывая себе верить в лучшее. Стало так легко представлять себе самое ужасное. Он не должен попадаться в эту ловушку. И поэтому, вместо того чтобы представлять родителей и сестер изгнанными из дома и обреченными на рабский труд на какой-нибудь кухне или фабрике под надзором вермахта, он думает о Радоме – о старом Радоме, каким его помнит. Весна всегда была его любимым временем года в родном городе, потому что это время седера и дней рождения, его и Халины. Весной реки Радомка и Млечна разливаются, напитывая водой ржаные поля и фруктовые сады, а на раскидистых каштанах вдоль Варшавской улицы распускаются листья, обеспечивая тенью покупателей, внимательно изучающих магазинчики кожгалантереи, мыла и часов. Весной цветочные ящики на балконах на улице Мальчевского переполнены алыми маками – долгожданная передышка после длинных серых зим; в парке Костюшко по четвергам кишат торговцы, продающие соленые огурцы, шинкованную свеклу, копченый сыр и кислое ржаное сусло; сосед Курцей Антон приглашает соседских детей посмотреть на птенцов, которые еще и на птиц-то непохожи, такие крохотные и покрытые белесым пушком, не умеющие даже держать голову. В детстве Адди нравилось смотреть, как стая Антоновых голубей взлетает из окна на карниз остроконечной крыши и там тихо воркует, несколько минут возвышаясь над двором, прежде чем вернуться через окно в деревянный вольер, который смастерил для них владелец.
Адди улыбается воспоминаниям, но образы исчезают, когда в его сознание врывается звук и резко возвращает его в настоящее. Треск. Он напрягается и останавливается, вскидывая согнутую в локте руку ладонью вверх. Моментально солдаты за его спиной замирают. Адди наклоняет голову, прислушиваясь. Вот опять, треск раздается из старых кустов у подножия кипариса в нескольких метрах впереди. Адди снимает винтовку с предохранителя.
– Приготовиться, – шепчет он на польском, плавно кладя указательный палец на спусковой крючок и направляя ствол на кусты. Позади него тихо щелкают двенадцать предохранителей. Треск прекращается. Адди подумывает выстрелить, но решает подождать. Что, если это всего лишь енот… или ребенок?
Год назад он мог по пальцам одной руки пересчитать случаи, когда держал в руках оружие. Раньше дядя иногда приглашал его с братьями на фазанью охоту, и хотя Генеку нравилось, Адди и Яков предпочитали оставаться у костра, находя весь процесс вспугивания птицы из убежища непривлекательным. Теперь от мыслей об ответственности, которую он берет на себя каждый раз, когда наводит куда-то винтовку, у него голова идет кругом.
Он и его люди наводят стволы на заросли кустарника и ждут. Через минуту под одним из кустов появляется что-то маленькое, треугольное, черное и блестящее. В следующее мгновение нижние ветки раздвигаются и появляется охотничья собака. Пес принюхивается к темнеющему небу, затем невозмутимо оглядывается через плечо на уставившихся на него людей, на тринадцать нацеленных на него винтовок. Адди выдыхает, радуясь, что не поторопился с выстрелом. Он опускает винтовку.
– Вы нас напугали, капитан, – говорит он, но собака равнодушно поворачивается и трусит по дороге на восток.
– У нас новый проводник, – шутит Кир из задних рядов. – Капитан Лапкин.
Вокруг раздаются смешки.
– Идем, – приказывает Адди.
Винтовки снова поставлены на предохранители, и мужчины маршируют дальше, воздух вокруг них снова наполняется ровным ритмом стука ботинок о землю.
Над головой толстый слой облаков. Прохладный воздух пахнет дождем. Через километр или два Адди решает, что пора устраивать лагерь, пока еще светло и не начался дождь. При этом его память возвращается в Тулузу, и он думает, как сильно изменилась его жизнь за полгода.
Пятого ноября Адди скрепя сердце покинул свою квартиру на рю Ремюза и шестого, как и было приказано, прибыл в Партене в расположение второй польской пехотной дивизии французской армии. После восьми недель начальной подготовки его наградили официальной формой французской армии и присвоили, благодаря его инженерному образованию, свободному владению французским и польским, звание сержанта, что поставило его во главе двенадцати прапорщиков. Адди радовался обществу молодых поляков, которое хоть немного заполняло пустоту, поглотившую его с тех пор, как его лишили права вернуться домой – но это и все, что его устраивало в армии. Он изо всех сил старался это скрывать, но винтовка лежала в руках неловко, а когда капитан рявкал приказы, его тянуло смеяться. Во время учений он мысленно сочинял музыку, чтобы отвлечься от монотонности во время бега с ускорением и учебных стрельб. Однако, несмотря на свою неприязнь к военной жизни, он обнаружил, что дни проходят веселее, если следовать режиму. Через некоторое время он носил свои шевроны с толикой гордости и выяснил, что на самом деле весьма неплохо командует своим маленьким подразделением. По крайней мере в том, что касается логистики – привести своих людей из точки А в точку Б, между делом узнавая их сильные стороны и делегируя задания. Например, на марше Бартек каждую ночь разжигал костры в лагере. Падло готовил. Новицкий забирался на самое высокое дерево в окрестностях, чтобы убедиться, что на горизонте чисто. Слобода учил всех, как без риска выдернуть чеку гранат wz. 33, которые они носили на ремнях, и что делать, если пуля застряла в канале их винтовок Бертье при выстреле в ствол. Кир же, лучший из отряда, по мнению Адди, выбирал походные песни, чтобы убить время. На данный момент популярностью пользовались «Марш Первой бригады» и, конечно, самый патриотичный польский гимн «Боже, храни Польшу».
Пару дней назад взводу Адди, как и остальным во второй пехотной, было приказано пройти маршем пятьдесят километров до Пуатье. Адди полагает, им осталось пройти еще километров двадцать. Из Пуатье они с военным конвоем преодолеют еще около семисот километров до Бельфора на границе со Швейцарией, а от Бельфора должны направиться на соединение с восьмой армией в Коломбе-ле-Бель, городке недалеко от немецкой границы, который лежит на французской оборонительной линии Мажино. Адди никогда не бывал в Пуатье, Бельфоре или Коломбе-ле-Бель, но изучал их на карте. Они далеко друг от друга.
– Кир! – кричит Адди через плечо, ему нужно отвлечься. – Музыку, пожалуйста.
Из хвоста колонны доносится «Есть, сэр!» и после небольшой паузы свист. При звуке первых нот Адди навострил уши. Он моментально узнает мелодию. Песня называется «Письмо». Это его музыка. Другие тоже ее узнают и присоединяются, и скоро свист становится громче.
Адди улыбается. Он никому не рассказывал, что мечтает стать композитором и о песне, музыку к которой написал до войны и которая, определенно, пользуется успехом, потому что его взвод знает ее наизусть. Возможно, это знак, думает Адди. Возможно, то, что он услышал ее сейчас, говорит о том, что воссоединение с семьей всего лишь вопрос времени. Ведь, в конце концов, это песня о письме. Узел в груди Адди расслабляется. Он мурлычет вместе со своими людьми, на ходу мысленно составляя следующее письмо домой: «Мама, ты не поверишь, что я сегодня услышал…».
10 мая 1940 года. Нацисты вторгаются в Нидерланды, Бельгию и Францию. Несмотря на действия союзников, Нидерланды и Бельгия капитулируют в течение месяца.
3 июня 1940 года. Нацисты бомбят Париж.
22 июня 1940 года. Правительства Франции и Германии заключают перемирие, разделив Францию на свободную зону на юге под управлением марионеточного режима маршала Петена со столицей в городе Виши и подконтрольную Германии оккупированную зону на севере и вдоль Атлантического побережья.
Глава 12
Генек и Херта
Львов, оккупированная Советами часть Польши
28 июня 1940 года
Стук раздается среди ночи. Генек распахивает глаза. Они с Хертой садятся в кровати, моргая в темноте. Еще стук, а затем приказ.
– Откройте!
Генек откидывает ногами простыню, нащупывает цепочку прикроватной лампы и прищуривается, пока глаза привыкают к свету. Воздух в маленькой комнатке горячий и спертый: во Львове еще действует режим светомаскировки, поэтому шторы у них постоянно опущены. Больше не поспишь с открытыми окнами. Генек проводит тыльной стороной руки по лбу, вытирая пот.
– Как думаешь… – шепчет Херта, но ее прерывает следующий крик.
– Народный комиссариат внутренних дел!
Голос снаружи достаточно громкий, чтобы разбудить соседей.
Генек ругается. Глаза Херты огромные от страха. Это они. Тайная полиция. Они встают с кровати.
За девять месяцев, что они живут во Львове, Генек и Херта слышали истории о таких ночных вторжениях: мужчин, женщин и детей вытаскивали из постели за незаконные денежные средства, за якобы участие в подполье, просто за то, что они поляки. Соседи обвиняемых рассказывали, что слышали стук, шаги, собачий лай, а с утра ничего, дома были пусты. Люди исчезали целыми семьями. Никто не знал, куда их забирали.
– Лучше открыть, – говорит Генек, убеждая себя, что ему нечего бояться. Что может быть на него у тайной полиции? Он не сделал ничего плохого.
Он прочищает горло и кричит:
– Иду.
Он тянется за халатом и в последнюю минуту захватывает с комода бумажник и кладет в карман. Херта накидывает свой халат поверх ночной сорочки и идет следом за ним по коридору.
Как только Генек отпирает дверь, в квартиру врывается орава солдат с винтовками и встает полукругом. Генек чувствует, как Херта берет его под руку, а сам считает нарукавные знаки с серпом и молотом, синие фуражки с краповыми околышами – всего восемь человек. Почему так много? Он исподлобья смотрит на незваных гостей, сжав кулаки, волосы на загривке стоят дыбом. Солдаты смотрят на него, сурово сжав зубы, наконец один из них выходит вперед. Генек смеривает его взглядом. Маленького роста, коренастый, как борец, с важным видом – командир. Маленькая красная звезда над его козырьком прыгает вверх-вниз, когда он кивает своим людям, которые послушно разворачиваются на каблуках и проходят мимо них в коридор.
– Стойте! – возражает Генек, сердито глядя на спины их гимнастерок. – Какое право вы… – он чуть не произносит «тараканы», но вовремя прикусывает язык. – По какому праву вы обыскиваете мой дом?
Он чувствует, как в висках начинает стучать кровь.
Офицер достает из нагрудного кармана бумагу, аккуратно разворачивает и читает.
– Герзон Курк?
– Я Гершон.
– У нас ордер на обыск квартиры.
Офицер плохо говорит по-польски, с сильным акцентом. Он на мгновение тыкает бумагой Генеку в лицо, как будто доказывая ее достоверность, затем складывает и убирает обратно в карман. Генек слышит погром в соседних комнатах: из комода вытаскивают ящики, по паркету двигают мебель, разбрасывают бумаги.
– Ордер? – прищуривается Генек. – На каких основаниях?
Он смотрит на винтовку, висящую на плече офицера. В армии ему показывали фото советских карабинов, но Генеку еще не доводилось видеть их вблизи. Это, похоже, М38[46]46
Карабин Мосина образца 1938 года.
[Закрыть]. Или, возможно, М91/30[47]47
Винтовка Мосина образца 1891/1930 года.
[Закрыть]. Он знает, где искать предохранитель. Тот снят.
– Что происходит?
Офицер игнорирует вопрос.
– Ждите здесь, – говорит он, засовывая пальцы за ремень портупеи, и проходит в коридор, неспешно, как у себя дома.
Они остаются в прихожей одни, Херта отпускает Генека и обнимает себя обеими руками, морщась, когда что-то тяжелое падает на пол с характерным звуком.
– Сволочи, – шепчет Генек себе под нос. – Что они о себе возомнили…
Херта встречается с ним взглядом.
– Не надо, услышат, – шепчет она.
Генек прикусывает язык, тяжело дыша через раздувающиеся ноздри. Молчание стоит ему неимоверных усилий. Он ходит взад-вперед, уперев руки в бока. Внутренний юрист велит потребовать показать ордер – он не может быть настоящим, – но что-то подсказывает ему, что ничего хорошего из этого не выйдет.
Через несколько минут толпа мужчин в форме снова собирается у двери. Они стоят, ноги на ширине плеч, выпятив грудь, как петухи, все еще сжимая свое оружие. Командир тычет пальцем в Генека:
– Курк, мы забираем вас на допрос.
– За что? – спрашивает Генек сквозь зубы. – Я ничего не сделал.
– Просто несколько вопросов.
Генек сердито смотрит на русского сверху вниз, наслаждаясь тем, что выше него на целую голову, так что офицер вынужден поднимать свою, чтобы посмотреть ему в глаза.
– И потом я смогу вернуться домой?
– Да.
Херта делает шаг вперед.
– Я иду с тобой.
Это утверждение, ее тон не терпит возражений. Генек смотрит на нее, обдумывая аргументы, но она права: лучше, если она пойдет. Что, если НКВД вернется?
– Она идет со мной, – говорит Генек.
– Хорошо.
– Нам надо одеться, – говорит Херта.
Офицер смотрит на часы и показывает на пальцах:
– У вас три минуты.
В спальне Генек надевает брюки и рубашку. Херта застегивает молнию юбки и наклоняется достать из-под кровати чемодан.
– На всякий случай, – говорит она. – Кто знает, когда мы вернемся.
Генек кивает и достает свой чемодан. Не хочется признавать, но Херта может оказаться права, предполагая худшее. Он кладет в чемодан нижнее белье, новенькие армейские ботинки, фотографию родителей, карманный нож, черепаховый гребень, колоду карт, записную книжку. Достает из халата бумажник и перекладывает его в карман брюк. Херта берет маленькую стопку чулок, белье, щетку для волос, две пары брюк, шерстяную кофту. В последнюю минуту они решают взять зимние пальто, затем спешат по коридору в кухню забрать из кладовки остатки хлеба, яблоко и немного соленой рыбы.
– Кошелек, – шепчет Херта. – Чуть не забыла.
Она возвращается в спальню. Генек идет за ней, хмурясь, потому что его собственный бумажник почти пуст.
– На выход! – рявкает офицер из прихожей.
– Нашла? – спрашивает Генек. Но Херта не отвечает. Она стоит у раскрытой двери шкафа, обхватив руками голову, каштановые волосы струятся между пальцев.
– Его нет, – шепчет она.
Генек подносит кулак ко рту, чтобы не выругаться.
– Что в нем было?
– Мое удостоверение, деньги… много денег, – Херта касается левого запястья. – Часы тоже пропали. Они лежали… кажется, на тумбочке.
– Гады, – шепчет Генек.
Офицер кричит еще раз, и Генек с Хертой молча возвращаются в прихожую.
Через двадцать минут они сидят за маленьким столом напротив офицера в такой же синей фуражке с красным околышем, как у того, который их привез. Комната пуста, за исключением висящего на стене портрета Иосифа Сталина. Генек чувствует, как Генеральный секретарь впивается в него взглядом из-под кустистых бровей, словно коршун, и борется с желанием сорвать портрет со стены и разорвать на клочки.
– Вы говорите, что вы поляк.
Офицер напротив них даже не пытается скрыть отвращения в голосе. Прищурившись, он смотрит на лист бумаги перед собой. Генек гадает: наверное, это так называемый ордер.
– Да. Я поляк.
– Где вы родились?
– Я родился в Радоме, это триста пятьдесят километров отсюда.
Офицер кладет на стол еще один лист, и Генек сразу же узнает собственный почерк. Это бланк анкеты, которую его заставили заполнить при подписании договора на аренду с хозяином квартиры на Зеленой улице вскоре после того, как Советы взяли Львов под контроль в сентябре. Соглашение было написано на советском бланке, тогда Генек не придал этому значения.
– Ваша семья до сих пор в Радоме?
– Да.
– Польша капитулировала девять месяцев назад. Почему вы не вернулись?
– Я нашел работу здесь, – говорит Генек, однако это правда лишь наполовину.
Положа руку на сердце, ему не хотелось возвращаться. Мамины письма рисовали ужасную картину: повязки на рукава, которые евреев заставляли носить всегда, комендантский час во всем городе, двенадцатичасовые рабочие дни, законы, запрещающие ей пользоваться тротуарами, ходить в кино, ходить на почту без особого разрешения. Нехума писала о том, как их, вместе с тысячами других евреев, живших в центре города, выселили из квартир и заставляли оплачивать аренду крошечной квартирки в Старом городе. «Как нам платить аренду, если они отняли наш бизнес, конфисковали сбережения и заставляют работать, словно рабов, практически за бесценок? – сердилась она. Она убеждала его остаться. – Вам будет лучше во Львове».
– Какую работу?
– Я работаю в юридической конторе.
Офицер смотрит на него с подозрением.
– Вы еврей. Евреи не могут быть юристами.
Слова обжигают, как капли воды на горячей сковородке.
– Я помощник, – говорит Генек.
Офицер подается вперед на своем деревянном стуле и кладет локти на стол.
– Вы понимаете, Курц, что теперь находитесь на советской земле?
Генек открывает рот, его так и подмывает дать себе волю – «Нет, сэр, вы ошибаетесь, это вы на польской земле», – но вовремя спохватывается, и в этот момент понимает причину своего ареста. В анкете была клеточка, которую надо было отметить, чтобы принять советское гражданство. Он оставил ее пустой. Ему казалось притворством называть себя иначе, чем поляком. Как можно? Советский Союз – враг его родины, и всегда им был. И кроме того, Генек всю жизнь провел в Польше, сражался за Польшу и ни за что не собирался отказываться от своей национальности только потому, что граница изменилась. Генек чувствует, как у него поднимается температура, когда понимает, что анкета не была простой формальностью, это была своеобразная проверка. Способ Советов отделить гордых от слабых. Отказавшись от гражданства, он показал себя сопротивленцем, человеком, который может быть опасным. Почему бы еще они пришли за ним? Он молчит, отказываясь признать, что в словах офицера есть правда, и вместо ответа спокойно и упрямо смотрит ему в глаза.
– И тем не менее, – продолжает офицер, тыкая пальцем в анкету, – вы продолжаете утверждать, что вы поляк.
– Я же сказал вам. Я из Польши.
Вены на шее офицера становятся одинакового цвета с пурпурной окантовкой его воротника.
– Нет больше никакой Польши! – ревет он, брызжа слюной.
Появляется пара солдат, и Генек узнает в них тех, кто обыскивал его квартиру. Он злобно смотрит на них, думая, не один ли из них украл кошелек Херты. Бандиты. И все заканчивается. Офицер отпускает их кивком головы, и Генека с Хертой под конвоем сопровождают из милиции на железнодорожный вокзал.
Внутри товарного вагона темно и жарко, душный воздух провонял человеческими испражнениями. Внутри теснятся, должно быть, три дюжины человек, но сложно сказать наверняка, к тому же, они потеряли счет умершим. Заключенные сидят плечом к плечу, их головы качаются вперед-назад в унисон с грохотом поезда по кривым рельсам. Генек закрывает глаза, но спать сидя невозможно, а его очередь лечь наступит еще не скоро. Мужчина сидит на корточках над прорубленной в центре вагона дырой, и Херта давится рвотными позывами. Вонища невыносимая.
Сегодня двадцать третье июля. Они провели в товарном вагоне двадцать пять дней: каждый день Генек вырезал карманным ножом засечку на полу. В некоторые дни поезд мчит с утра до ночи, не сбавляя скорости. В другие останавливается, и двери распахиваются, за ними видны маленькие станции и вывески с неизвестными названиями. Время от времени храбрая душа из ближайшей деревни приближается к путям и сочувственно спрашивает: «Бедные люди… куда их везут?». Некоторые приносят ломоть хлеба, бутылку воды, яблоко, но русские охранники быстро их прогоняют, ругаясь и держа карабины на изготовку. На некоторых станциях несколько вагонов отцепляют и заворачивают на север или на юг. Но вагон Генека и Херты едет дальше. Конечно, им не сказали, когда или где их высадят, но, если прижаться лицом к щелям в стенах вагона, видно, что они едут на восток.
Когда они в самом начале сели в вагон во Львове, Генек с Хертой постарались познакомиться с остальными. Все поляки, есть и католики, и евреи. Большинство, как их самих, взяли посреди ночи, все истории похожи: арест за отказ от советского гражданства, как в случае с Генеком, или по какому-либо сфабрикованному обвинению, когда невозможно доказать, что ты ничего не совершал. Кто-то один, с кем-то рядом брат или жена. Есть несколько детей. Какое-то время Генек и Херта находили утешение в разговорах с другими заключенными, делясь историями о жизнях и семьях, которые остались позади; это помогало им не чувствовать себя одинокими. Что бы ни уготовила им судьба, узникам становилось легче от мысли, что они встретят ее вместе. Но через несколько дней темы закончились. Разговоры стихли, и вагон накрыла траурная тишина, словно пепел поверх умирающего костра. Кто-то плакал, но большинство спали или просто молча сидели, все глубже погружаясь в себя, придавленные страхом перед неизвестностью, осознанием того, что куда бы их ни отправили, это очень-очень далеко от дома.
Поезд скрипит тормозами, и у Генека урчит в животе. Он не помнит, каково это – не быть голодным. Через несколько минут металлическая щеколда поднимается и тяжелая дверь вагона откатывается в сторону, пропуская внутрь солнечный свет, в котором купаются узники. Они трут глаза и, щурясь, выглядывают наружу. Обрамленный дверью пейзаж уныл: плоская бесконечная тундра, а вдалеке лес. Они единственные люди куда ни глянь. Никто не встает. Все знают, что без приказа не стоит и пытаться вылезти из вагона.
В вагон влезает охранник в фуражке со звездой, перешагивая через ноги и завшивевшие тела. В дальнем углу он останавливается, наклоняется и тыкает в плечо узника, который сидит у стены, опустив подбородок на грудь. Старик не реагирует. Охранник снова пихает его, и на этот раз тело мужчины наклоняется влево, его лоб тяжело падает на плечо сидящей рядом женщины, она ахает.
Охранник кажется раздраженным.
– Степан! – кричит он, и скоро в дверях появляется его товарищ в такой же фуражке. – Еще один.
Новый охранник забирается внутрь.
– Двигайтесь! – рявкает он, и поляки в углу с трудом поднимаются на ноги.
Херта отворачивается, когда советские солдаты поднимают безвольное тело и тащат его к двери. Когда они проходят мимо, Генек поднимает голову, но лица старика не видно, и он видит только руку, свисающую под неестественным углом, кожа болезненно желтая, цвета слизи. У двери охранники считают до трех и, крякнув, выбрасывают труп из поезда.
Херта прикрывает уши, боясь, что закричит, если услышит, как еще один труп ударяется о землю. Это третий, кого выкидывают таким образом. Словно мусор, оставляя гнить возле железнодорожных путей. Некоторое время у нее получалось отрешиться от этого, от этой гнусности. Она позволила себе стать бесчувственной. Иногда она притворялась, что все это фарс, что-то из фильма ужасов, и позволяла сознанию воспарить над телом, наблюдая за собой сверху. Иногда мысли совсем уносили ее из поезда, вызывая образ альтернативной реальности, обычно сохраненный из прошлого, из жизни в Бельско: роскошная синагога на улице Мая с богато украшенным неороманским фасадом и двумя башнями в мавританском стиле; вид на долину и прекрасный Бельский замок с горы Шиндзельня; ее любимый тенистый парк в паре кварталов от реки Бяла, где они с семьей устраивали пикники, когда она была маленькой. Она оставалась там, сколько могла, в окружении воспоминаний. Но на прошлой неделе, когда умер ребенок, маленькая девочка не старше племянницы Генека, Херта не выдержала. Девочка умерла от голода. У матери пропало молоко, она несколько дней ничего не говорила, просто молча сидела, склонившись над безжизненным свертком в руках. Однажды днем охранник заметил. И когда они отняли младенца у матери, остальные закричали: «Пожалуйста! Это несправедливо! Оставьте ее, пожалуйста!» Но охранники отвернулись и выбросили крошечное тельце из вагона, как и другие трупы, а мольбы узников скоро заглушил отчаянный вой женщины, чье сердце разорвали надвое, женщины, которая будет отказываться от еды, чье горе будет слишком невыносимым и чье безжизненное тело выбросят из вагона четыре дня спустя.
Именно тихий удар детского тельца о землю сломал Херту, и оцепенение сменилось ненавистью, которая горела так глубоко, что она думала, как бы не загорелись внутренние органы.
В вагон входит третий охранник с ведром воды и корзиной хлеба – твердыми как кора ломтиками размером с пачку сигарет. Генек берет один, отламывает кусочек и передает оставшееся Херте. Она качает головой, ее слишком тошнит.
Дверь закрывается, и в вагоне снова темно. Генек чешет голову, и Херта берет его за руку.
– Будет только хуже, – шепчет она.
Генек сутулится, не зная, что ему противно больше: что он заперт в мире неминуемого разложения или армия вшей, расплодившихся на его грязной голове. Он поправляет чемодан под собой и дышит через рот, чтобы избежать зловония смерти и гниения. В следующее мгновение его хлопают по плечу. До него дошла общественная жестянка с водой. Он вздыхает, макает хлеб в протухшую воду и передает жестянку Херте. Она делает маленький глоток и передает воду сидящему справа.
– Отвратительно, – шепчет Херта, вытирая рот тыльной стороной кисти.
– Это все, что у нас есть. Без нее мы умрем.
– Я не про воду. Про остальное. Про все.
Генек берет Херту за руку.
– Знаю. Нам нужно только слезть с поезда, а дальше мы справимся. Все будет хорошо.
В темноте он чувствует взгляд Херты.
– Будет?
Его охватывает уже знакомое чувство вины, когда Генек задумывается о том, что именно он несет ответственность за их пребывание здесь. Подумай он на секунду о возможных последствиях отказа от советского гражданства, поставь добровольно галочку в анкете в тот роковой день, все было бы по-другому. Они, скорее всего, до сих пор жили бы во Львове. Он упирается затылком в стену вагона. Тогда все казалось таким очевидным. Отказаться от польского гражданства было бы предательством. Херта клянется, что тоже не стала бы заявлять о своей лояльности Советам, что поступила бы точно так же, будь она на его месте, но если бы только можно было повернуть время вспять.
– Будет, – кивает Генек, глотая угрызения совести. Куда бы они ни направлялись, там должно быть лучше этого поезда.
– Будет, – повторяет он, желая хоть немного свежего воздуха. Хоть какой-то ясности.
Он закрывает глаза, мучимый ощущением беспомощности, которое угнездилось в нем, как горсть камней, с тех пор как они сели в вагон. Он его ненавидит. Но что тут сделаешь? Его остроумие, обаяние, привлекательность – все, на что он полагался всю свою жизнь, чтобы избегать неприятностей – какая от них польза сейчас? Он всего лишь раз улыбнулся охраннику, думая, что сможет задобрить его любезностями, так эта гнида пригрозила разбить его красивое личико.
Должен быть способ выбраться. Внутренности завязываются узлом, и Генека охватывает внезапный порыв молиться. Он не религиозен, безусловно, не проводит время в молитвах, не видит в этом смысла, по правде говоря. Но он также не привык чувствовать себя таким беззащитным. Если и бывает время просить о помощи, решает он, то оно наступило. Не повредит.
И Генек молится. Молится о том, чтобы их исход длиной в месяц подошел к концу; чтобы условия жизни в том месте, где они окажутся, когда им разрешат покинуть поезд, были приемлемыми; за здоровье свое и Херты; за благополучие родителей, за благополучие братьев и сестер, особенно Адди, которого он не видел больше года. Он молится о том дне, когда снова сможет быть вместе с семьей. Если война скоро закончится, фантазирует он, может быть, он увидит их в октябре, на Рош ха-Шану. Как здорово будет начать еврейский новый год вместе.
Генек молча повторяет свои молитвы, снова и снова, пока кто-то в вагоне не начинает петь. Гимн «Боже, храни Польшу». Остальные присоединяются, и песня звучит громче. Слова отдаются в темном сыром вагоне, Генек тихо подпевает:
– Прошу, Господи, храни Польшу. Храни нас. Храни наши семьи. Прошу.
Ноябрь 1939 года – июнь 1940 года. Более миллиона польских мужчин, женщин и детей депортированы Красной армией в Сибирь, Казахстан и Советскую Азию, где их ждут тяжелый физический труд, нищенские условия жизни, суровый климат, болезни и голод. Они умирают тысячами.
7 сентября 1940 года. Лондонский блиц. На протяжении пятидесяти семи ночей немецкие самолеты сбрасывают бомбы на столицу Великобритании. Более тридцати семи недель люфтваффе наносит авиаудары по пятнадцати другим британским городам. Отказываясь капитулировать, Черчилль приказывает Королевским военно-воздушным силам предпринимать непрерывные контратаки.
27 сентября 1940 года. Германия, Италия и Япония подписывают Тройственный пакт, создав альянс стран «оси».
3 октября 1940 года. Правительство Виши во Франции издает декрет – Statut des Juifs, – лишающий живущих во Франции евреев гражданских прав.