Текст книги "Лорд Джим"
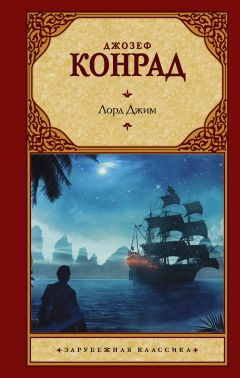
Автор книги: Джозеф Конрад
Жанр: Морские приключения, Приключения
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Глава 3
Восхитительная тишина наполнила мир, и спокойные лучи звезд словно заверяли его в том, что с ним никогда не случится ничего дурного. Молодой месяц взошел на западе, низко над горизонтом, похожий на стружку, снятую с золотого слитка. Аравийское море – гладкое и ласкающее взгляд прохладой, как ледяная простыня – распространяло безукоризненную ровность вплоть до безукоризненного изгиба темного горизонта. Винт вращался без малейшей заминки: казалось, его ритм был неотъемлемой частью безопасного мироздания. Вдоль боков «Патны» устойчиво тянулись две глубокие темные складки. Эти прямые расходящиеся гребни с тихим шипением возмущали мерцающую гладь завитками пены, маленькими волнами, легкой рябью. Как только корабль проходил, они с мягким плеском разглаживались, чтобы более не нарушать неподвижности неба и воды – этого круга, в центре которого неизменно оказывалась черная металлическая скорлупка.
Джим стоял на мостике, глубоко проникнутый ощущением абсолютной защищенности. От молчаливого лика природы веяло покоем – как от нежного, заботливого лица матери веет нерушимой любовью. Под тентом, доверившись мудрости и отваге белых мужчин, силе их атеизма и прочности их огненного корабля, спали пилигримы. На всех палубах, во всех углах лежали люди – на циновках, на одеялах, на голых досках, закутавшись в цветные ткани и грязные лохмотья, подсунув под голову узелок с вещами или уткнувшись лицом в предплечье, – мужчины, женщины, дети, старые вместе с молодыми, немощные со здоровыми. Все были равны перед лицом сна – брата смерти.
Дуновение, производимое быстрым движением корабля, мерно охватывало все темное пространство от одного высокого фальшборта до другого, овевая ряды податливых тел. Кое-где с балок свисали тусклые шарообразные фонари. Они отбрасывали на палубу размытые кружки света, которые слегка дрожали от непрерывной вибрации корабля, падая то на чей-то поднятый подбородок, то на чьи-то закрытые глаза, то на смуглую руку в серебряных кольцах, то на тощую ногу под ветхим покрывалом, босую ступню, запрокинутую голову или горло, обнаженное как будто специально для ножа. Зажиточные семьи соорудили для себя нечто вроде шалашей из тяжелых ящиков и пыльных циновок. Бедные лежали бок о бок, используя вместо подушки узелок со всей своей собственностью. Одинокие старики ютились на молитвенных ковриках, свернувшись клубком и закрыв ладонями уши. Отец, втянув голову в плечи и касаясь коленями лба, печально дремал рядом с сыном, который спал на спине, лохматый, повелительно вытянув одну руку. Женщина, накрытая, как труп, белой простыней, прижимала к себе с одного и другого бока по голому ребенку. Багаж араба, сгруженный прямо на корме, образовывал холм ломаных очертаний с фонарем на вершине. Сзади смутно и беспорядочно виднелась всякая всячина: поблескивающее брюхо медного котла, ножки лонгшеза, наконечники копий, старая сабля в прямых ножнах, прислоненная к груде подушек, носик жестяного кофейника. Механический лаг на гакаборте звякал, сообщая о том, что еще одна миля пройдена во имя веры. Время от времени над спящей толпой пролетал терпеливый легкий вздох чьего-то тревожного сна или отрывистый металлический лязг из недр корабля. Иногда громко загребала уголь лопата, хлопала дверца топки. Шумы, доносившиеся снизу, звучали так резко, словно людей, управлявших загадочными машинами, переполняла неукротимая злоба. Изящная скорлупка продолжала ровно двигаться вперед под неподвижными голыми мачтами. Ее нос все резал и резал великую гладь воды под недостижимой безмятежностью неба.
Джим расхаживал из стороны в сторону, и собственные шаги казались ему такими звучными, будто их эхом подхватывали бдительные звезды. Блуждая взглядом по линии горизонта, он жадно всматривался во что-то недоступное, но не видел признаков надвигающейся катастрофы. Единственной тенью на лице моря была тень дыма, валившего из трубы тяжелой лентой, которая оставалась все такой же длинной, хотя конец ее постоянно растворялся в воздухе. Два малайца, молчаливые и почти неподвижные, стояли у руля, чей латунный обод поблескивал в овале света из нактоуза[8]8
Нактоуз – ящик, в котором находится судовой компас, другие навигационные инструменты, а также светильник.
[Закрыть]. Иногда в этот свет попадали черные пальцы, перехватывающие рукояти вращаемого колеса. Цепи тяжело скрипели в пазах. Джим посматривал на компас, окидывал взглядом недостижимый горизонт, потягивался, похрустывал суставами и лениво поворачивался туда-сюда, ощущая избыток благополучия. Почувствовав себя бесстрашным от картины незыблемого покоя, царившего вокруг, он ни о чем не тревожился, лишь порой заглядывал в карту, прикнопленную к низкому трехногому столику позади румпеля. Лист бумаги с указанием глубин освещался выпуклым фонарем, закрепленным на пиллерсе. Бумажная гладь перекликалась с гладью моря. На карте лежали циркуль и штурманская линейка. Местоположение корабля в минувший полдень было отмечено черным крестиком, от которого до самого Перима[9]9
Перим – остров в Баб-эль-Мандебском проливе.
[Закрыть] тянулась твердая прямая линия, обозначавшая курс корабля – тропу, ведшую души паломников к благословенному миру, к обещанному спасению, к вечной жизни. Карандаш лежал тут же, на карте, касаясь заточенным кончиком сомалийского побережья. Круглый и неподвижный, он напоминал голую мачту. «До чего ровно идем!» – подумал Джим с удивлением и, пожалуй, даже с благодарностью небу и морю за их безмятежность. В такое время он привык размышлять о подвигах: эти грезы, радовавшие его воображаемыми успехами, были лучшей частью жизни, ее тайной правдой, сокрытой действительностью. Восхитительно мужественные и чарующе неясные, они шествовали перед ним геройской поступью, увлекая Джима за собой и опьяняя его душу божественным зельем безграничной веры в себя. Не существовало ничего такого, чему бы он не мог противостоять. Эта идея была настолько приятна Джиму, что он улыбался, без особого внимания смотря перед собой, а оглядываясь, видел на поверхности моря белый след от киля корабля – такой же прямой, как черная линия, прочерченная на карте.
Дребезжание жестяных ведер, донесшееся из кочегарки, напомнило Джиму о том, что его вахта подходит к концу. Он вздохнул облегченно и в то же время с сожалением: не хотелось расставаться с умиротворяющей картиной, дающей такую захватывающую свободу его мыслям. Немного клонило в сон, приятная слабость разлилась по всему телу, как будто кровь превратилась в теплое молоко.
На мостик бесшумно поднялся шкипер – в расстегнутой пижаме, краснолицый, полусонный. Левый глаз лишь слегка приоткрылся, а правый таращился глупой стекляшкой. Склонив затуманенную голову над картой, шкипер лениво почесал ребра. В том, как обнажилась при этом его плоть, было что-то непристойное. Мягкая голая грудь лоснилась, как будто во время сна вместе с потом вытопился жир. Резким безжизненным голосом, напоминающим трение напильника о доску, шкипер высказал замечание профессионального характера. Второй подбородок образовал на шее складку, похожую на мешок, подвязанный к челюсти. Джим, вздрогнув, ответил вполне учтиво, однако отвратительное мясистое тело, увиденное словно впервые в этот момент откровения, навсегда запечатлелось в памяти как воплощение всего самого низменного, что есть в любимом нами мире: в наших сердцах, которыми мы верим в спасение, в людях, которые нас окружают, в картинах, которые мы видим, в звуках, которые слышим, и в воздухе, который наполняет наши легкие.
Тонкий золотой завиток месяца медленно проплыл вниз и потерялся на фоне потемневших вод. К земле будто бы приблизилась вечность, звезды заблестели ярче, цвет глянцевого полупрозрачного небесного купола над матовым диском моря сделался насыщеннее. «Патна» шла так гладко, что ее продвижение не ощущалось людьми. Она была подобна густонаселенной планете, несущейся сквозь темные пространства, где роятся солнца, ужасно одинокие и спокойные в ожидании того момента, когда они почувствуют на себе дыхание новой, еще не созданной жизни.
– До чего жарко внизу – словами не описать! – произнес голос.
Джим улыбнулся, не оборачиваясь. Шкипер показал заговорившему неподвижную ширь своей спины. У ренегата это было в обычае: сначала подчеркнуто не замечать человека, а потом вдруг повернуться к нему и, вперив в него уничтожающий взгляд, разразиться мощным, хлещущим, как из водосточной трубы, пенистым потоком ругательств. Но сейчас шкипер только угрюмо хрюкнул. На лестнице, ведущей к мостику, стоял, теребя в мокрых руках грязное полотенце, второй механик. Нисколько не смутившись, он продолжил песнь своих жалоб: тем, кто наверху хорошо, только, разрази его гром, он не знает, какой от них прок. Механики, бедные черти, заставляют корабль двигаться и со всем остальным тоже бы справились, право слово…
– Заткнитесь, – равнодушно рыкнул немец.
– Заткнуться? Конечно! А чуть что – вы к нам побежите, разве нет? – не унимался второй механик: за эти три дня он, дескать, уже почти сварился, и теперь ему нет дела до того, сколько он нагрешил, потому что там, куда плохие ребята отправляются, когда помрут, ему будет привычно, а еще, черт подери, он почти оглох от проклятого шума, ведь эта дурацкая ржавая банка с поверхностным конденсатором громыхает внизу похуже, чем старая лебедка, так что он уж и сам не понимает, зачем рискует собственной шкурой каждый божий день и каждую ночь, зачем торчит среди этого хлама, которому давно пора на слом, зачем возится с развалиной, – видно, таким уж отчаянным парнем он родился, если при…
– Где вы напились? – спросил шкипер свирепо, но остался неподвижно стоять в свете нактоуза, как неуклюжая статуя человека, вырезанная из куска жира.
А Джим все улыбался удаляющемуся горизонту. В сердце его теснились благородные побуждения, а в уме – мысли о собственном превосходстве над окружающими.
– Напился! – дружески насмешливо повторил второй механик. Он повис на перилах, за которые держался обеими руками, напоминая тень на гнущихся ногах. – Уж точно не вы меня угостили, капитан. Вы, черт подери, скряга. Скорее дадите человеку умереть, чем предложите ему капельку шнапса. У вас, немцев, это зовется экономией. А мы говорим: «Пенни сбережешь – фунт потеряешь».
Пьяница расчувствовался: старший механик, славный малый, плеснул ему немного, но только разок, и это было еще в десять часов. А сейчас попробуй подними старого плута с койки – пятитонного крана будет мало. Спит себе сладко, точно младенец, с бутылочкой первосортного бренди под подушкой.
Из толстой глотки командира «Патны» донесся глухой рык, а затем вырвалось слово «schwein[10]10
Свинья (нем.).
[Закрыть]». Оно высоко воспарило и тут же опустилось, точно капризное перышко от легкого дуновения. Шкипер и старший механик были давние приятели, не один год служили вместе у лукавого старика китайца в роговых очках и с почтенными сединами, которые тот заплетал в косицу и перевязывал красным шелковым шнуром. В порту, к которому «Патна» была приписана, считалось, что по части беззастенчивого воровства эти двое «ничегошеньки не упускали». Внешне они казались странной парой: у одного тусклый злобный взгляд и мягкая складчатая плоть, а у другого одни кости да провалы, голова длинная, как у тощей старой клячи, впалые виски, впалые щеки и глубоко посаженные стеклянно-равнодушные глаза. Однажды за некий проступок механика высадили на берег в каком-то восточном городе: то ли в Кантоне[11]11
Кантон – европейское название китайского города Гуанчжоу.
[Закрыть], то ли в Шанхае, то ли в Йокогаме – он не считал нужным помнить ни место, ни причину своего личного кораблекрушения. Это было по меньшей мере лет двадцать назад. Из снисхождения к юности провинившегося его тихо выкинули с корабля, и, поскольку дело могло бы кончиться намного хуже, он не сохранил горестных воспоминаний об этом событии. Потом, вследствие расширения паровой навигации, механиков стало не хватать, и ему удалось снова получить какую-никакую работу. Встречаясь с незнакомыми людьми, он всегда уныло бубнил, что «чего только не повидал в здешних краях». Движения его напоминали трепыханье скелета: казалось, он вот-вот выпадет из одежды. Этот человек словно не ходил, а блуждал, в том числе и под световым люком машинного отделения. При этом он без удовольствия курил табак с примесью опиума в медной чаше на конце четырехфутового мундштука вишневого дерева, и его тупоумное лицо принимало такой глубокомысленный вид, будто он, узрев в тумане проблеск истины, выстраивал на ее основе целую философскую систему. Вообще-то не имея привычки щедро делиться с ближним своими запасами спиртного, в ту ночь старший механик нарушил собственные принципы и угостил помощника – малохольного сына Уоппинга[12]12
Уоппинг – прилегающий к Темзе район Лондона, где до Второй мировой войны располагались доки.
[Закрыть], – который от неожиданности и крепости угощения сделался очень весел, смел и разговорчив. Ярость немца-ренегата достигла предела: он дымился, как выхлопная труба. А Джим, находя эту сцену довольно забавной, не мог дождаться окончания своей вахты. В последние десять минут она действовала на нервы, как ружье, дающее осечку. Эти люди не принадлежали к героическому миру приключений, хотя и были неплохими парнями. Даже шкипер… Тут Джима затошнило от вида тучной плоти, колеблемой затрудненным дыханием и с бульканьем исторгавшей грязные ругательства. И все-таки он был сейчас слишком полон приятной истомы, чтобы испытывать деятельную антипатию. Кто эти люди, не имело значения. Они могли задевать Джима плечами и в то же время его не касаться. Он мог дышать тем же воздухом, каким дышали они, и в то же время не иметь с ними ничего общего. Неужто шкипер в самом деле набросится на механика?.. Жизнь так легка, а он, Джим, так уверен в себе – слишком уверен, чтобы… Черта, отделявшая его размышления от сна на ногах, была тоньше паутинки.
Между тем второй механик непринужденно перешел к рассуждениям о своей отваге и своих финансах.
– Кто пьян? Это я-то пьян? Ну уж нет, капитан, таких речей я не потерплю! Вам давно пора бы знать, что мой начальник задаром даже воробья не напоит, – провалиться мне на этом месте! Да и пить я умею дай бог каждому: еще не сварено такое зелье, от которого у меня помутилась бы голова. Я могу хоть жидкий огонь лить себе в глотку и ни капельки не захмелею. Да если бы я только подумал, что пьян, то выбросился бы за борт – разделался бы сам с собой! Мигом! А так я с мостика не сойду. Где, как не здесь, вы прикажете мне дышать ночным воздухом? На палубе, среди этого сброда? Нет уж! И не грозите мне – я вас не боюсь!
Немец поднял тяжелые кулаки и беззвучно потряс ими в воздухе.
– Страха я вообще не ведаю, – продолжал механик с энтузиазмом искреннего убеждения. – Иначе стал бы я возиться с этой гнилой развалиной! Ваше счастье, что на свете есть люди, которые не трясутся за свою шкуру. Если бы не мы, то где бы вы были? Вы и ваша посудина, у которой обшивка не толще бумаги, – где, я вас спрашиваю? Вам-то хорошо: вы и такую выгоду имеете, и сякую. А я? Вкалываю за жалких полтораста долларов в месяц на своих харчах. Спрашиваю вас со всем уважением – с уважением, заметьте: кому не захочется бросить этакую негодную работу? Здесь ведь небезопасно – видит бог! Только я из тех бесстрашных парней…
Механик отпустил перила и стал размахивать руками, словно очерчивая в воздухе фигуру, демонстрирующую величину и форму его бесстрашия. Слабый голосок срывался, и визгливые ноты протяжно разносились над морем. Чтобы придать своей речи пущую выразительность, оратор перекатывался с пяток на носки. И вдруг опрокинулся головой вперед, как будто его ударили дубинкой по затылку. «Черт!» – хрипнул он, падая, после чего на секунду воцарилась тишина.
Джим и шкипер одновременно пошатнулись, но удержали равновесие и застыли, словно окоченели, недоумевающе глядя на невозмутимую воду. Потом они подняли глаза к звездам.
Что случилось? Машины продолжали сипло гудеть. Неужто сама Земля оступилась?.. Шкипер и его помощник ничего не понимали. Неподвижность спокойного моря и безоблачного неба внезапно стала казаться ужасающе ненадежной, словно балансирующей на самом краю зияющей гибельной пропасти. Механик принял строго вертикальное положение и тут же снова осел, превратившись в бесформенный куль.
– Что это еще такое? – поинтересовался бесформенный куль приглушенным голосом.
Где-то бесконечно далеко еле слышно прогрохотал гром; донесся даже не звук, а скорее колыхание воздуха. Оно медленно замерло, и корабль отозвался, как будто гром рычал не высоко в небе, а глубоко в воде. Глаза двух малайцев, стоявших у руля, блеснув, поглядели на белых людей, но смуглые руки не выпустили штурвала. Острая металлическая скорлупка «Патны» приподнялась на несколько дюймов, гибко перекатившись с кормы на нос, после чего возобновила работу – продолжила ровно резать морскую гладь. Дрожания под ногами больше не ощущалось, внезапно вновь стало тихо. Можно было подумать, что корабль благополучно пересек узкую полоску вибрирующей воды и гудящего воздуха.
Глава 4
Где-то через месяц Джим, стараясь честно отвечать на острые вопросы, которые ему задавали, так сказал о «Патне»: «Что бы это ни было, она перебралась через это легко, как змея переползает через палку». Он выразился удачно. Разбирательство производилось в полицейском суде восточного порта. Вопросы задавались с целью выяснения фактов. Джим стоял на огороженном возвышении свидетельского места. Щеки пылали, хотя в просторном зале было прохладно от панок[13]13
Панка – потолочное опахало, приводившееся в действие слугой, который тянул за шнур (при этом он мог находиться в соседнем помещении или на веранде).
[Закрыть], мягко колыхавшихся над головой. Снизу смотрело множество глаз. Лица, с которых эти глаза глядели на Джима, были темными, белыми или красными, внимательными или как будто заколдованными. Люди сидели ровными рядами на узких скамейках, порабощенные голосом свидетеля – таким громким, что у него самого звенело в ушах. Больше ничего в целом мире не было слышно. Казалось, что даже мучительно четкие вопросы, на которые Джим отвечал, не исходили извне, а болезненно рождались в его собственной груди. Их молчаливо задавала его собственная совесть. На улице полыхало солнце, а здесь, в зале, было зябко от опахал, горячо от стыда и больно от колких пристальных взглядов. Лицо председательствующего судьи, чисто выбритое и невозмутимое, мертвенно бледнело между красными физиономиями двух морских заседателей. Широкое окно располагалось под потолком, и свет лился оттуда на головы и плечи этих трех мужчин, чьи фигуры яростно выделялись в полутьме большого зала, полного неподвижно глядящих теней. Суду нужны были факты. Факты! Их требовали от Джима, как будто они могли хоть что-нибудь объяснить!
– Когда вы пришли к выводу, что столкнулись с чем-то плывущим по поверхности воды – скажем, с обломком затонувшего корабля, – ваш капитан приказал вам пойти и проверить, нет ли каких-нибудь повреждений. Казалось ли вам тогда вероятным, что ваше судно действительно пострадало от удара? – спросил тот заседатель, что был слева от судьи, – скуластый, с жидкой бородкой в форме подковы.
Опираясь локтями о стол, сцепив грубые руки он смотрел на Джима вдумчивыми голубыми глазами. Второй заседатель – тяжеловесный, с презрительной миной – откинулся на спинку стула, во всю длину вытянув левую руку и тихонько барабаня пальцами по своему блокноту. В середине, в просторном кресле, сидел судья. Его спина была выпрямлена, а голова чуть склонена к плечу. Руки он скрестил на груди. Перед ним, возле чернильницы, стояла стеклянная ваза с несколькими цветками.
– Нет, – отвечал Джим. – Мне сказали никого не звать и вообще не шуметь, чтобы не создавать паники. Эта предосторожность показалась мне разумной. Я взял один из фонарей и пошел. Открыв люк форпика[14]14
Форпик – крайний носовой отсек судна.
[Закрыть], сразу услышал плеск воды. Опустил фонарь так низко, как было можно, и увидел, что отсек уже больше чем наполовину заполнен водой. Тогда я понял: ниже ватерлинии большая дыра.
Джим замолчал.
– Да, – сказал грузный асессор, мечтательно улыбнувшись своему блокноту. Его пальцы не переставали играть, беззвучно касаясь бумаги.
– В тот момент я не подумал об опасности. Наверное, я был несколько ошарашен: все произошло так тихо и так внезапно… Я знал, что у судна нет других переборок, кроме таранной, которая отделяла форпик от носового трюма. Возвращаясь к капитану, чтобы доложить ему о пробоине, я увидел второго механика: он стоял на лестнице, ведущей на мостик, и был, как мне показалось, в каком-то оцепенении. Сказал, что, похоже, сломал левую руку: поскользнулся на верхней ступени и упал, пока я ходил смотреть нос. «Боже мой! – воскликнул механик. – Переборка-то гнилая! Через минуту она сломается, и вся чертова посудина пойдет вместе с нами ко дну, как кусок свинца». Он оттолкнул меня правой рукой и с криком побежал вверх по лестнице. Левая рука висела вдоль туловища. Я тоже поднялся на мостик и как раз успел увидеть, как капитан набросился на механика. Тот упал на спину. Второй раз он его не ударил, а навис над ним и стал что-то говорить, зло, но тихо. Думаю, спрашивал, почему он не спустился и не остановил машины вместо того, чтобы поднимать шум на палубе. «А ну встаньте и бегом в трюм! Живо!» – услыхал я. И еще ругательства. Механик соскользнул вниз по правой лестнице, торопливо обогнул световой люк в полу и шмыгнул в машинное отделение (вход туда был слева). На бегу он стонал.
Джим говорил медленно, но его воспоминания сменяли друг друга быстро и были чрезвычайно ярки. Он мог бы, как эхо, повторить стоны механика, чтобы суд, которому так нужны факты, отчетливо представил себе всю картину. Преодолев первоначальное отторжение, Джим пришел к выводу, что его рассказ действительно должен быть очень точным: только так можно передать истинный ужас, который таился за страшным фасадом. Факты, столь необходимые суду, были видимы, осязаемы, открыты для чувств, занимали определенное место во времени и в пространстве (для их существования требовалось двадцать семь минут и судно весом тысяча четыреста тонн). Они складывались в целое, имевшее черты, оттенки и выражения – словом, лицо, которое могло запомниться, – а кроме того, присутствовало что-то еще – что-то невидимое: направляющий дух или внутренняя гибель, злобная душа в ненавистном теле. Джим хотел, чтобы все поняли: те события не были заурядными, все в них играло чрезвычайно важную роль, и он, к счастью, все запомнил. Он сделался словоохотлив ради истины, а также, пожалуй, ради себя самого. И если слова его были достаточно осторожны, то мысли все летали и летали по замкнутому кругу фактов, которые поднимались со всех сторон, отрезая его, Джима, от окружающих. Ум стал похож на животное, оказавшееся за высоким забором и мечущееся в ночи, пытаясь найти слабое место, щель, лазейку, чтобы сбежать. Это ужасное умственное смятение иногда вынуждало Джима замолкать.
– Капитан продолжал расхаживать по мостику и мог бы показаться довольно спокойным, если бы не споткнулся несколько раз. А когда я с ним разговаривал, он чуть не натолкнулся на меня, как слепой. На то, что я ему сообщил, он ничего определенного не ответил. Только забормотал себе под нос. «Проклятый пар» или «чертов пар» – в общем что-то насчет пара. Больше я ничего не разобрал. Я подумал…
Джим стал говорить не по существу, и его болезненно прервали следующим точно поставленным вопросом. Он смутился и внезапно почувствовал усталость. Он ведь как раз о том и собирался рассказать, о чем его сейчас спросили. Собирался рассказать, а теперь, после этого грубого вмешательства, ему оставалось только произнести «да» или «нет».
– Да, я это сделал, – ответил он коротко и правдиво.
Мрачные молодые глаза на красивом лице, статная фигура, расправленные плечи – он прямо стоял на своем огороженном месте, а душа внутри извивалась. Его вынудили ответить на новый вопрос – такой же точный и бесполезный, как и предыдущий. Потом он опять выжидающе замолчал. Во рту сначала почувствовалась пресная сухость, как от пыли, потом соленая горечь, как от морской воды. Отерев влажный лоб, Джим облизнул губы. По спине пробежали мурашки. Грузный заседатель опустил веки и продолжил беззвучно барабанить по бумаге, безучастный и скорбный. Глаза его коллеги, глядевшие поверх обожженных солнцем сцепленных рук, казалось, излучали добродушие. Судья качнулся вперед, так что бледное лицо нависло над цветами, а потом переместил вес своего тела на один из подлокотников и подпер висок рукой. Панки создавали ветер, овевавший и темнолицых местных жителей в объемных складчатых одеждах, и европейцев, которые, держа на коленях тропические шлемы, потели в тиковых костюмах, облепленные ими как второй кожей. Босоногие служители проворно скользили туда-сюда вдоль стен – бесшумные, как привидения, и настороженные, как охотничьи собаки. Длинные белые одеяния были застегнуты на все пуговицы и перевязаны красными поясами, которые перекликались с красными тюрбанами.
Взгляд Джима, блуждавший по залу во время пауз между ответами, остановился на белом мужчине, сидевшем отдельно от остальных. Лицо выглядело изношенным и угрюмым, но спокойные ясные глаза смотрели открыто и с интересом. Ответив на новый вопрос, Джим чуть было не вскричал: «Да какой от этого прок? Какой прок?!» Он слегка топнул ногой, прикусил губу и посмотрел, отвернувшись от судьи, поверх голов. Он снова встретил взгляд того белого мужчины, который не смотрел на него завороженно, как остальные: в этих глазах ощущались и ум и воля. Между вопросами Джим до того забывался, что позволял себе размышлять. «Этот парень, – думал он, – глядит на меня так, будто видит кого-то за моим плечом». Они уже где-то встречались: может быть, на улице, – но Джим был уверен, что никогда не говорил с тем человеком. В течение многих дней он вообще ни с кем не говорил. Только вел беззвучный, бессвязный и бесконечный разговор с самим собой, как узник, запертый в одиночной камере, или путник, заблудившийся в пустыне. Сейчас Джим отвечал на вопросы, имевшие цель, но не имевшие смысла, и не знал, заговорит ли еще хоть раз до конца своей жизни. Слыша собственные правдивые слова, он утверждался в своем и без того устойчивом мнении: от дара речи ему больше не будет пользы. И тот мужчина, видимо, понимал безнадежную тяжесть его положения. Джим посмотрел в белое лицо, бросившееся ему в глаза, и решительно отвернулся, как после окончательного расставания.
Впоследствии в далеких уголках мира у Марлоу много раз возникало желание вспомнить Джима – вспомнить обстоятельно, в подробностях и вслух, – например, после ужина, сидя на веранде, укутанной в неподвижную листву и коронованную цветами, среди глубокого сумрака с огненными крапинами тлеющих сигар. В каждом плетеном кресле – молчаливый слушатель. Иногда какой-нибудь из красных огоньков приходит в движение: удлиняясь, он освещает пальцы ленивой руки и часть лица, умиротворенного отдыхом. Или же в алой вспышке появляются задумчивые глаза и безмятежный лоб. При первом же слове тело Марлоу, растянувшееся в кресле, застывает, как будто крылатый дух преодолел толщу времени и, заставляя губы шевелиться, говорит из прошлого.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































