Текст книги "Лорд Джим"
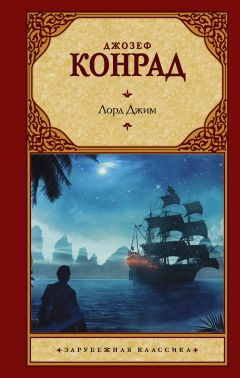
Автор книги: Джозеф Конрад
Жанр: Морские приключения, Приключения
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Глава 12
Вокруг, сколько можно было слышать, все молчало. Между мною и Джимом колыхался туман его чувств, который он потревожил своей борьбой. Сквозь просветы в этой нематериальной завесе мои немигающие глаза видели четкую форму, несущую в себе неясный призыв, как символическая фигура на картине. Прохладный ночной воздух казался моей коже тяжелым, как мрамор.
– Понимаю, – пробормотал я скорее затем, чтобы убедиться в своей способности выйти из оцепенения, чем с какой-либо другой целью.
Джим уныло продолжил:
– «Эйвондейл» подобрал нас перед самым закатом. Судно двигалось прямо на нашу шлюпку. Нам оставалось только сидеть и ждать.
После долгого молчания он заговорил опять:
– Они выложили свою историю. – Снова гнетущая тишина. – Только тогда я понял, на что решился.
– Вы ничего не сказали? – прошептал я.
– А что я мог сказать? – спросил он тем же тихим голосом. – Был легкий толчок. Судно остановили. Я осмотрел повреждение. Постарался отвязать шлюпки, не создавая паники. Едва первую лодку спустили на воду, шквал потопил корабль. «Патна» пошла ко дну, как кусок свинца… Что могло быть определеннее… – Джим повесил голову, – и ужаснее? – Он посмотрел мне в глаза. Губы у него задрожали. – Я прыгнул, так? – произнес он в волнении. – Вот это я и должен искупить. А что за историю придумал шкипер, значения не имело. – На секунду сцепив руки, Джим поглядел направо и налево, в темноту. – Это было все равно что обманывать мертвых, – сказал он, запинаясь.
– Но никто не погиб, – возразил я.
Тут он от меня ушел – иначе не назовешь. Я увидел его спину у балюстрады. Он постоял некоторое время, как будто наслаждаясь чистотой и спокойствием ночи. Влажный воздух был пропитан сильным ароматом какого-то цветущего кустарника. Торопливо вернувшись ко мне, Джим самым что ни на есть упрямым тоном заявил:
– А это не важно.
– Пожалуй, – согласился я, чтобы не спорить.
Этот молодой человек начинал меня утомлять. К тому же как знать: может, он и был прав.
– Смерть меня бы не освободила, – сказал он. – Поэтому я должен был жить дальше, разве нет?
– Да, наверное… если вы смотрите на это с такой точки зрения, – пробормотал я.
– Я был рад, конечно, когда стало известно, что люди выжили, – бросил Джим небрежно, явно думая о чем-то другом. Потом он медленно поднял голову и продолжил: – Знаете, каким было мое первое чувство, когда я об этом услышал? Облегчение. Я испытал облегчение оттого, что те крики… Я вам про них не говорил? Нет? Так вот я их слышал – крики о помощи, смешанные с дождем. Вероятно, это у меня воображение разыгралось. Хотя я не мог… Как глупо… Другие ничего не слышали. Я их потом спрашивал. Они сказали «нет». А я даже тогда продолжал слышать. Как будто я знал, но я не мог знать, я даже не думал. Мне просто слышались слабые крики день за днем. А когда мы высадились здесь, к нам подошел тот маленький полукровка и все рассказал. Дескать, французская канонерская лодка благополучно отбуксировала «Патну» в Аден… Расследование… Портовая контора… Гостиница для моряков – там я буду жить и столоваться… Я пошел за ним и только тогда насладился тишиной. Крики прекратились. Наверное, это было все-таки воображение. Я поверил ему и больше ничего не слышал. Не знаю, долго ли еще я смог бы терпеть. Становилось все хуже… То есть громче. – Джим задумался. – Допустим, на самом деле криков не было. Но огни! Они же погасли! Мы их не видели. Если бы они горели, я бы вернулся вплавь. Подплыл бы к кораблю и стал кричать. Просил бы, чтобы меня взяли обратно на борт. Я бы воспользовался этой возможностью. Не верите? Откуда вам знать, что я чувствовал? Какое вы имеете право сомневаться? Я ведь и так почти сделал это – понимаете? – Голос Джима поник. – Не было даже проблеска, ни малейшего, – продолжил он скорбно. – Если бы был, вы бы меня сейчас здесь не видели – неужели непонятно? А вы видите меня, но продолжаете сомневаться.
Я помотал головой. Почему люди, сидевшие в шлюпке, перестали видеть огни «Патны», хотя не могли удалиться от нее больше чем на четверть мили, – вопрос спорный. Джим уверял, что после первого дождя уже ничего не было видно. Его попутчики сказали экипажу «Эйвондейла» то же самое. Конечно, люди качали головами и улыбались. Один старый шкипер, сидевший рядом со мной в суде, прошептал, щекотнув мне ухо белой бородой: «Вранье!» – но на самом деле никто не врал. Даже старший механик со своей историей про то, как фонарь на мачте погас будто спичка. По крайней мере, это не было сознательным обманом. У человека с такой печенью да в таком состоянии вполне могла мелькнуть в глазу какая-нибудь искра, когда он поглядел через плечо. Они были недалеко от «Патны», но не видели ее огней, чему у них нашлось только одно объяснение: она затонула. Это казалось очевидным и успокаивало совесть. То, что ожидаемое случилось так быстро, оправдывало поспешность бегства. Поэтому искать другую причину никто не захотел. В действительности она была проста. Ее открыл Брайерли, и суд сразу же с ним согласился. Если помните, судно стояло на месте, носом по курсу, причем корма задралась вследствие затопления первого отсека. Нарушение баланса привело к тому, что, когда шквал слегка ударил сзади, «Патна» мотнула головой так резко, как если бы была на якоре. Ее огни оказались заслонены от лодки. Если бы этого не произошло, они, вероятно, производили бы впечатление немого призыва. Тусклый свет в густой мгле обладал бы загадочным воздействием на человеческий взгляд, пробуждая раскаяние и сострадание. Он говорил бы: «Я здесь! Я все еще здесь!» Что другое могут сказать глаза самых несчастных и беспомощных из людей? Но «Патна» отвернулась, как будто выражая презрительное безразличие к участи сидящих в шлюпке. Отягощенная, она предпочла смотреть в лицо новой угрозе открытого моря – опасности, которую она удивительным образом преодолела, чтобы окончить свои дни на свалке. Видно, это была ее судьба – бесславно погибнуть под ударами множества кувалд. Какая смерть ожидала каждого из паломников – этого я, разумеется, не знаю, но их ближайшее будущее определилось около девяти часов следующего утра, когда «Патну» взяла на буксир французская канонерская лодка, возвращавшаяся с острова Реюньон. Доклад ее командира был обнародован. Заметив судно, подозрительно застывшее с опущенной головой в дымке неподвижного моря, он, капитан, слегка отклонился от курса, чтобы узнать, в чем дело. На гафеле развевался перевернутый британский флаг (матросы-малайцы додумались, когда рассвело, вывесить сигнал бедствия), но коки, как обычно, готовили еду в прямоугольных чанах на носу. Люди теснились на палубах, точно овцы в стойле. Густо облепив все поручни и мостик, они сотнями глаз смотрели на приближавшуюся канонерку, однако не издавали при этом ни звука, как будто их губы были запечатаны каким-то проклятием.
Француз окликнул команду «Патны», но внятного ответа не получил и тогда, увидев в бинокль, что толпа вроде бы не поражена чумой, решил послать шлюпку. Два офицера поднялись на борт, выслушали старшину-малайца, попытались поговорить с арабом. Таким образом им ничего не удалось прояснить, однако суть проблемы была очевидна сама по себе. На мостике они обнаружили мертвого белого, который мирно свернулся клубком. Это неожиданное зрелище их поразило. Они были «fort intrigués par ce cadavre»[24]24
Очень заинтригованы этим трупом (фр.).
[Закрыть], как сказал мне много спустя пожилой французский лейтенант, которого я встретил однажды в Сиднее – совершенно случайно, в заведении наподобие кафе. Он прекрасно запомнил тот случай. История с «Патной», надо признать, вообще обладает удивительной способностью спорить с недолговечностью человеческой памяти и неумолимостью времени. Она проявляет сверхъестественную живучесть в умах и на языках людей. В последующие годы я много раз имел сомнительное удовольствие встречаться с нею за тысячи миль от места событий. Она часто возникала в разговорах, казалось бы, никак до нее не касавшихся. Вот и сегодня в нашем кругу зашла речь о ней, а ведь я здесь единственный моряк и единственный, кто может ее помнить. Если же два человека, которым она известна, вдруг встречаются в любом уголке мира, она всплывет между ними с неизбежностью судьбы. Мы с тем французом прежде не знали друг друга и через час после встречи расстались навсегда. Впечатления человека, любящего поговорить, он не производил. Тихий и грузный, в помятом мундире с потускневшими погонами, он вяло потягивал какую-то темную жидкость из бокала. Широкое чисто выбритое лицо имело желтоватый оттенок, как у любителей нюхательного табака. Может, он табака и не нюхал, но эта привычка соответствовала бы его внешности. Началось с того, что он передал мне через мраморный столик газету, которую я вовсе не хотел читать. Я сказал: «Merci», – и мы обменялись несколькими, на первый взгляд невинными, замечаниями, но вскоре (я и не заметил, как мы к этому пришли) он уже рассказывал мне о своем удивлении при виде того трупа. Оказалось, он был одним из двух офицеров, поднявшихся на борт «Патны».
Хозяин заведения, где мы сидели, держал для заезжих иностранных моряков самые разнообразные напитки. Мой собеседник пил что-то похожее на медицинское снадобье (вероятно, просто cassis à l’eau[25]25
Черносмородиновый ликер с водой (фр.).
[Закрыть]) и, заглядывая одним глазом в бокал, слегка покачивал головой. «Impossible de comprendre, vous concevez»[26]26
Невозможно понять, видите ли (фр.).
[Закрыть], – проговорил он тоном, в котором любопытным образом сочетались безразличие и вдумчивость. Я прекрасно понимал, насколько он был озадачен увиденным. Никто из экипажа канонерки не знал английского достаточно хорошо, чтобы разобрать, о чем толковал старшина-малаец. К тому же мешал поднявшийся гвалт.
– К нам сбежалась куча народу. Вокруг этого мертвеца (autour de ce mort) собралась толпа. Нужно было сперва заняться тем, что не терпело отлагательства. Люди начали волноваться… Parbleu![27]27
Ей-богу! (фр.)
[Закрыть] Несколько сот человек – вы понимаете? – произнес лейтенант с философской снисходительностью.
Что до переборки, то он посоветовал своему командиру не трогать ее от греха подальше. «Патну» зацепили двумя тросами (en toute hâte[28]28
Спешно, срочно (фр.).
[Закрыть]) и потащили задом наперед. Это было не так уж и глупо: во-первых, руль слишком сильно поднялся из воды, чтобы успешно управлять судном; во-вторых, при таком движении нагрузка на переборку уменьшалась. А она, эта переборка, требовала крайне осторожного обращения (éxigeait les plus grands ménagements) – невозмутимо пояснил мне мой новый знакомый. Насколько я понял, он играл во всем этом не последнюю роль. У меня создалось впечатление, что передо мной надежный морской офицер, хотя теперь он, видимо, вел не самую деятельную жизнь. У него был вид заправского моряка, несмотря на то что сейчас он сидел, сцепив толстые пальцы на животе, как какой-нибудь хмурый деревенский священник, чьи уши пропустили через себя грехи, страдания и терзания нескольких поколений крестьян. На лицах таких пастырей часто лежит покров спокойствия и простоты, наброшенный поверх тайной боли. Моему лейтенанту было бы очень к лицу сменить китель с погонами и латунными пуговицами на изношенную черную сутану, которая упиралась бы воротником в солидный подбородок. Мерно вздымая широкую грудь, он рассказал мне, что работенка была дьявольская, о чем я, несомненно (sans doute), и сам догадался в силу моего профессионального опыта (en votre qualité de marin[29]29
Букв. «по причине ваших качеств моряка» (фр.).
[Закрыть]). Договорив фразу, лейтенант слегка наклонился ко мне и, собрав в трубочку губы, кожа вокруг которых была тщательно выбрита, тихо присвистнул.
– К счастью, – продолжал он, – море было гладкое, как этот стол, и ветер дул не сильнее, чем здесь.
В кафе стояла невыносимая жара и духота. Лицо у меня горело, как у юнца, раскрасневшегося от смущения. Из дальнейшего рассказа лейтенанта я узнал, что канонерка направилась, naturellement[30]30
Естественно (фр.).
[Закрыть], в ближайший английский порт, где, Dieu merci[31]31
Слава богу (фр.).
[Закрыть], сняла с себя ответственность за судьбу «Патны».
– Ведь заметьте (notez bien), – лейтенант слегка раздул плоские щеки, – все время, пока мы ее тащили, двое наших старшин стояли с топорами, чтобы перерубить тросы, если она… – Остальное он договорил своими тяжелыми веками, которые, дрогнув, опустились. – А как бы вы поступили на нашем месте? Каждый делает что может (on fait ce qu’on peut). – На секунду он сумел преобразить свою тяжеловесную неподвижность в мудрое смирение. – Два старшины, тридцать часов, неотлучно! Два! – повторил лейтенант и, приподняв правую руку, показал два пальца.
Этот жест (первый за все время нашего разговора) позволил мне увидеть у него на ладони звездообразный шрам – очевидно, от пули, – отчего мое зрение как будто бы обострилось, и я заметил еще один след старой раны, начинавшийся чуть ниже виска и исчезавший под волосами, – следствие пореза копьем или саблей. Лейтенант, снова сцепив руки на животе, стал рассказывать дальше:
– Я остался на борту этой… Эх, память уходит (s’en va)… Ah! «Patt-nà». C’est bien ça. «Patt-nà». Merci[32]32
А! «Патна». Точно. «Патна». Спасибо (фр.).
[Закрыть]. Забавно, до чего забывчив становишься с годами. Итак, я пробыл на ее борту тридцать часов…
– Вот как? – воскликнул я.
Глядя на свои руки, лейтенант опять сжал губы, но на сей раз не издал свистящего звука.
– Мы правильно рассудили, – сказал он, бесстрастно поднимая брови, – что один из офицеров должен остаться и присматривать (ouvrir l’œil) за кораблем… – лениво зевнул он, – а еще обмениваться сообщениями с канонерской лодкой при помощи сигналов, понимаете? Ну и так далее. С остальными мерами я тоже был вполне согласен. Наши подготовили шлюпки к спуску, и я на «Патне» сделал на всякий случай кое-какие приготовления – что смог. Положение было, конечно, тревожное. Тридцать часов! Еду мне готовили, но вина – ищи-свищи! Ни капли! – Каким-то удивительным образом, без видимой перемены в расслабленной позе или спокойном лице, мой собеседник умудрился придать своим чертам выражение глубокого отвращения. – Я, знаете ли… Без бокала вина мне просто кусок в горло не лезет.
Я испугался, что лейтенант начнет распространяться об этой своей печали. Ведь при кажущейся неподвижности тела и физиономии ему удалось-таки выразить крайнее неудовольствие. Однако, по-видимому, он тут же отогнал от себя неприятное воспоминание. Канонерская лодка сдала свой груз «портовым чиновникам», как он выразился. Его поразило спокойствие, с каким была встречена «Патна». «Можно подумать, им каждый день привозили такую диковинную находку (drôle de trouvaille). Странные вы, – англичане», – заметил мой собеседник. При этом он сидел, прислонившись спиной к стене, и имел вид не более эмоциональный, чем у мешка с мукой. В тот день в порту оказались военный корабль и пароход индийского флота. Не скрывая своего восхищения, лейтенант рассказал о том, как быстро и слаженно шлюпки этих двух судов вывезли с «Патны» всех пассажиров. В самом деле удивительно, что его апатичная физиономия оказывалась способна столько всего выражать. Эта загадочная, почти чудесная способность производить сильный эффект незаметными средствами – последнее слово высокого искусства.
– Двадцать пять минут. Я по часам следил. Двадцать пять минут, не больше. – Лейтенант сцепил и расцепил пальцы, не убирая рук с живота. Это вышло у него гораздо выразительнее, чем если бы он изумленно воздел длани к небу. – Весь этот народ (tout ce monde) со своими мелкими заботами очутился на берегу. Никого не осталось. Только военные моряки (marins de l’Etat) и тот интересный труп (cet intéressant cadavre).
Опустив глаза и слегка склонив голову набок, мой собеседник как будто бы покатал во рту знакомый вкус хорошо сделанного дела. Не прибегая ни к каким особым словам или жестам, он ясно дал понять, что его одобрение – вещь бесконечно ценная, после чего вернулся к своей едва нарушенной неподвижности и завершил рассказ:
– Нам было приказано как можно скорее продолжить путь в Тулон. Через два часа мы отплыли, так что (de sorte que) многое в этом эпизоде моей жизни (dans cet épisode de ma vie) так и осталось для меня непонятным.
Глава 13
После этих слов мой собеседник, не меняя положения, пассивно перешел, так сказать, в состояние молчания. Я составил ему компанию. Наконец, внезапно, но не резко, как будто бы в назначенное время, его умеренно громкий хрипловатый голос опять пришел в действие. Он произнес: «Mon Dieu![33]33
Боже мой! (фр.)
[Закрыть] Как бежит время!» Ничто не могло быть банальнее этого замечания, однако для меня оно совпало с моментом прозрения. Удивительное дело: мы идем по жизни с полузакрытыми глазами, притупленным слухом и спящими мыслями. Может, так оно и лучше. Вероятно, именно эта притупленность делает существование терпимым и даже приятным для неисчислимого большинства людей. Тем не менее лишь очень немногим из нас незнакомы редкие моменты пробуждения, когда мы видим, слышим и понимаем так много. Они подобны вспышке, после которой мы вновь впадаем в приятную нам дремоту. При последних словах французского лейтенанта я поднял глаза и увидел его как будто впервые. Увидел подбородок, опустившийся на грудь, неуклюжие складки на кителе и сложенные руки. Я заметил, что он так своеобразно неподвижен, будто его здесь просто оставили, забыли. Время действительно бежит. И оно пробежало мимо этого старого моряка, наградив его более чем скромными дарами: железной сединой, тяжеловесной усталостью загорелого лица, двумя шрамами да парой потускневших погон. Это был устойчивый надежный человек – один из тех, чьи бесчисленные жизни служат сырьем для великих репутаций и кого хоронят без барабанов и труб под фундаментом грандиозного успеха.
– Сейчас я третий лейтенант на «Победоносной», – сказал он, дюйма на два отслонившись от стены, чтобы представиться.
«Победоносная» тогда была флагманом французской тихоокеанской эскадры. Я ответил легким кивком и сказал, в свою очередь, что командую торговым судном, которое сейчас стоит в Камышовой бухте. Лейтенант, как оказалось, «приметил» его – симпатичный пароходик. В своей обычной бесстрастной манере он отозвался о моем корабле весьма любезно. Сказал, заметно вздымая грудь при каждом вдохе: «Ах да. Маленькое судно черного цвета. Очень милое, очень милое (très coquet)», – и при этом, кажется, даже чуть склонил голову в знак одобрения. По прошествии какого-то времени мой знакомый медленно повернул туловище и посмотрел на стеклянную дверь справа от нас. «Унылый город (triste ville)», – заметил он, глядя на улицу. День был солнечный, дул порывистый южный ветер, едва не сносивший прохожих, мужчин и женщин, с тротуаров. Ярко освещенные фасады на той стороне дороги виднелись сквозь клубы пыли.
– Я сошел на берег, – сказал лейтенант, – чтобы немного размять ноги, но… – Не договорив, он погрузился в недра своего всегдашнего покоя. – Сделайте одолжение, скажите мне, – начал он, медленно всплывая, – в чем же именно (au just) заключалась суть той истории? Любопытно. Мертвый человек, к примеру, и все остальное…
– Живые там тоже были, – сказал я. – Причем еще более любопытные.
– Несомненно, несомненно, – согласился лейтенант еле слышно, после чего, как будто бы по зрелом размышлении, пробормотал: – Очевидно.
Я без колебаний сообщил ему все то, что казалось мне наиболее интересным в этом деле. По-моему, он имел право знать. Разве не провел он тридцать часов на борту «Патны», не занял место ее сбежавшего командования, не сделал «что мог»? Слушая меня, он еще больше, чем прежде, стал похож на священника. Вероятно, благодаря опущенным глазам его лицо приняло выражение набожной сосредоточенности. Пару раз он поднял брови, не поднимая век (когда другой на его месте воскликнул бы: «Дьявол!»), и только один раз тихо произнес: «Ба!» Дослушав мой рассказ до конца, лейтенант задумчиво сложил губы и печально присвистнул. У иного слушателя это могло бы быть признаком скуки или безразличия, но мой собеседник в присущей ему непостижимой манере сделал так, что его неподвижность произвела на меня впечатление глубокого отклика, несущего в себе множество ценных мыслей. На деле же я услышал всего два слова: «Очень интересно». Они были произнесены вежливо и почти шепотом. Прежде чем я успел преодолеть разочарование, лейтенант прибавил, как будто говоря сам с собой: «Вот так, значит. Вот так». Казалось, его подбородок опустился еще ниже, а тело стало давить на стул еще большей тяжестью. Я уже собирался спросить, что он имеет в виду, но тут по нему пробежала дрожь, похожая на рябь, которая пробегает по стоячей воде, перед тем как ветер начинает ощущаться.
– Стало быть, бедный молодой человек сбежал вместе с остальными, – сказал лейтенант с мрачной невозмутимостью.
Не знаю, что заставило меня улыбнуться, но это была, насколько я помню, единственная искренняя улыбка, которую вызвала у меня история Джима. Видимо, меня позабавило то, как констатация известного мне факта прозвучала на французском языке.
– S’est enfui avec les autres[34]34
Сбежал вместе с остальными (фр.).
[Закрыть], – сказал лейтенант, и я вдруг восхитился его проницательностью.
Он сразу поймал суть: уцепился за то единственное, что меня волновало. Я почувствовал себя как человек, пришедший за советом к знатоку. Благодаря своему нерушимому зрелому спокойствию он производил впечатление того, кто умеет распутывать факты с профессиональной легкостью и для кого мои затруднения – просто детская игра.
– Ах, молодость, молодость, – произнес лейтенант снисходительно. – От этого, однако, не умирают.
– От чего? – тут же спросил я.
– От страха, – пояснил он и сделал маленький глоток.
Я заметил, что три пальца на раненой руке у него как будто одеревенелые и не могут двигаться по отдельности. Поэтому он так неловко держал бокал всей пятерней.
– Человек всегда боится. Говорить можно всякое, но… – Мой новый знакомый неловко поставил бокал. – Страх, страх – он… Глядите! Он всегда здесь. – Лейтенант ткнул пальцем возле латунной пуговицы на груди – в то самое место, по которому Джим ударил себя кулаком, говоря, что у него здоровое сердце. Видимо, я выказал какой-то признак несогласия, и потому мой собеседник настойчиво продолжил: – Да, да! Люди говорят и говорят – это все прекрасно, только вот в конечном счете один оказывается ничуть не умней другого и не храбрей. Храбрость! Ее, разумеется, в мире немало. Куда я только не катал свой горб (roulé ma bosse), – он употребил это жаргонное выражение с невозмутимой серьезностью, – во все части света! Уж я-то повидал храбрецов! Знаменитых! Allez! – Лейтенант беззаботно выпил. – Понимаете, одно дело – быть храбрым на службе. Это нам приходится. Наше ремесло этого требует (le métier veut ça), разве не так? – рассудительно спросил он. – Eh bien![35]35
Итак, ну так вот! (фр.)
[Закрыть] Каждый из них – уверяю вас, каждый, – если он честный человек, bien entendu[36]36
Разумеется (фр.).
[Закрыть], признается, что даже у него бывают моменты… бывают моменты, когда он трусит. С этой правдой, видите ли, приходится жить. При определенных стечениях обстоятельств страх неизбежен. Жуткий страх (un trac épouvantable). И даже если человек отрицает эту правду, он все равно боится – за себя. Это так. Поверьте. Да-да. В моем возрасте знаешь, о чем говоришь. Que diable![37]37
Черт возьми! (фр.)
[Закрыть]
До сих пор мой новый знакомый говорил неподвижно, как рупор абстрактной мудрости, но сейчас начал медленно вертеть большими пальцами, чем только усилил эффект отвлеченности.
– Это же очевидно, parbleu! – продолжал он. – Ведь какой бы решимости вы ни были исполнены, достаточно простой головной боли или расстройства желудка (un dérangement d’estomac), чтобы… Взять, к примеру, меня. Я убедился на собственном опыте… Eh bien! Однажды я… – Лейтенант осушил бокал и опять принялся крутить большими пальцами. – Нет-нет, от этого не умирают, – заключил он.
Я испытал сильное разочарование, поняв, что собеседник не намерен поведать мне свою историю, а вытянуть ее из него не получится (анекдоты такого рода легко не выпытываются). Я молчал, он тоже – как будто ничего другого и пожелать не мог. Даже большие пальцы прекратили свое вращение. Вдруг его губы снова зашевелились.
– Это так, – сказал он мирно. – Человек рождается трусом (L’homme est né poltron). В этом-то и штука, parbleu! А иначе было бы чересчур просто. Но привычка… привычка, а еще необходимость – понимаете? Да чужой глаз, voilà. Приходится ко всему этому приноравливаться. Потом еще пример других – тех, кто не лучше тебя, но умеет сохранять хорошую мину…
Его голос умолк.
– У того молодого человека не было побудительных обстоятельств, которые вы перечислили. По крайней мере в тот самый момент, – заметил я.
Лейтенант прощающе поднял брови и сипловато произнес:
– А я и не говорю, я не говорю… От природы он, вероятно, имел прекрасные задатки. Прекрасные.
– Я рад, что вы приняли благосклонную точку зрения, – сказал я. – Сам он смотрел на это… ах!.. с надеждой, и…
Меня прервал звук, который издали под столом ноги лейтенанта, переменив положение. Он поднял тяжелые веки, как поднимают забрало или решетку ворот – ровным целенаправленным движением. Только теперь мой собеседник вполне открылся передо мной: на меня в упор посмотрели два узких серых кружка, похожих на крошечные стальные кольца вокруг глубокой черноты зрачков. Острый взгляд такого массивного человека произвел на меня весьма сильное действие – как лезвие бритвы на боевом топоре.
– Pardon, – проговорил лейтенант педантично и поднял правую руку, а сам подался вперед. – Позвольте… Я сказал, что человек может неплохо жить, зная, что храбрость не приходит сама по себе (ne vient pas tout seul). Из-за этого огорчаться не стоит. Такие правды не должны делать жизнь невыносимой. Но честь – честь, мсье! Честь это не выдумка! Нет! И чего стоит жизнь, если… – Лейтенант поднял свое тяжелое тело с порывистым усилием испуганного быка, встающего с травы. – …если честь потеряна? Ah ça![38]38
Вот как! (фр.)
[Закрыть] На этот счет я не могу предложить вам никакого мнения. У меня не может быть никакого мнения, мсье… потому что мне об этом ничего не известно.
Я тоже поднялся. Стараясь придать нашим позам как можно больше учтивости, мы безмолвно стояли друг против друга точно две фарфоровые собачки на каминной полке. Чертов вояка! Он проколол этот мыльный пузырь! Тля тщетности, вечно подстерегающая человеческую речь, напала и на наш разговор, внезапно превратив его в набор пустых звуков.
– Очень хорошо, – сказал я, смущенно улыбнувшись. – Но не сводится ли дело к тому, чтобы просто не попадаться?
Лейтенант, по-видимому, хотел дать какой-то хлесткий ответ, который был у него уже наготове, но в последний момент передумал и произнес:
– Это, мсье, слишком тонко для меня. Выше моего понимания. Я о таких вещах не думаю.
Он тяжело поклонился, держа фуражку перед грудью – за козырек, большим и указательным пальцами раненой руки. Я тоже поклонился. Мы сделали это одновременно и притом церемонно расшаркались. Замызганный представитель официантской братии, стоявший неподалеку, смотрел на нас критически, как будто перед ним разыгрывался спектакль, за который он заплатил.
– Serviteur![39]39
Ваш покорный слуга! (фр.)
[Закрыть] – произнес француз и еще раз шаркнул ногой.
– Monsieur…
– Monsieur…
Стеклянная дверь размашисто захлопнулась за широкой спиной лейтенанта. На улице на него тут же напал южный ветер. Еще некоторое время я видел его руку, прижавшую фуражку к голове, напряженные плечи и словно прилипшие к ногам полы кителя.
Я снова сел, огорченный и обескураженный. Вы, вероятно, удивлены тем, что история Джима по прошествии трех с лишним лет не утратила для меня своей остроты. Причина вот в чем: я встретил его совсем незадолго до этого эпизода с французским лейтенантом. В Сидней я прибыл прямиком из Семаранга, откуда доставил груз. Ничего интересного, как сказал бы Чарли об этом моем сугубо практическом предприятии. Так вот там, в Семаранге, я и видел Джима. В ту пору он служил клерком у Де Джонга. В свое время я рекомендовал его на это место, и теперь Де Джонг говорил о нем: «Он мой представитель на воде». Едва ли можно вообразить себе жизнь более чуждую всякого утешения и очарования. В этом отношении соперничать с клерком судового поставщика способен разве только страховой агент. Малыш Боб Стэнтон (Чарли хорошо его знал) вкусил такого существования. А потом он утонул при крушении «Сефоры», спасая какую-то горничную. Если помните, столкновение произошло туманным утром недалеко от испанского берега. Всех пассажиров благополучно усадили в шлюпки, шлюпки спустили на воду. А Боб влез обратно на палубу, увидав ту девушку. Ума не приложу, как так получилось, что ее оставили на борту. Ясно одно: она совершенно лишилась рассудка. Вцепившись мертвой хваткой в перила, не хотела покидать судно. Люди из лодок наблюдали этот бой. Бедный Боб был самым низкорослым помощником капитана во всем нашем торговом флоте, а девица попалась крупная: пять футов десять дюймов в обуви, – да еще сильная как лошадь. Они сцепились, словно черт с булочником в ярмарочном театре. Горничная без конца вопила, Чарли время от времени кричал гребцам своей лодки, чтобы не подплывали слишком близко к кораблю. Один человек из команды сказал мне, спрятав улыбку: «Честное слово, сэр, он бился с ней, прямо как разбушевавшийся ребенок с мамашей». От этого же матроса я узнал о последних секундах жизни Боба: «Под конец мистер Стэнтон перестал тягать ту бабу. Просто стоял и глядел на нее во все глаза. Потом мы подумали, что он, верно, надеялся, что вода заставит эту сумасшедшую отцепиться от перил, и тогда он сможет ее спасти. Подняться на борт никто из нас не решился – нам всем жить хотелось. Скоро старая посудина ушла на дно. Резко накренилась вправо – хлоп и все. Вмиг ее засосало. Никто не всплыл ни живой, ни мертвый». То, что несчастный Боб довольно долго прожил на берегу, было, думаю, связано с женщиной. Он решил попрощаться с морем, чтобы вкусить все радости сухопутной жизни, но в итоге сделался страховым агентом. На это его надоумил кто-то из ливерпульской родни. Когда он рассказывал нам о своей тогдашней жизни, мы смеялись до слез. Крошечный и бородатый, как гном, Боб поднимался на цыпочки и не без затаенного удовольствия говорил: «Хорошо вам смеяться, черти! А моя бессмертная душа за неделю такой работы скукожилась до размера высохшей горошины». Приспособилась ли к новым условиям душа Джима – этого я не знаю. Мне слишком много приходилось хлопотать о том, чтобы она не отделилась от тела из-за отсутствия средств к существованию. Однако я уверен, что его фантазия, жадная до приключений, страдала от голода. Огорчительно было видеть Джима за новой работой, хотя он и выполнял ее с упрямым спокойствием, делавшим ему честь. Наблюдая за его тяжелым трудом, я думал, что это расплата за героические грезы, наказание за стремление к непосильному. Бедняге слишком нравилось воображать себя славным скаковым конем, и вот теперь он обречен на жалкое существование осла, который тащит телегу уличного торговца, причем тащит очень усердно. Джим замкнулся в себе и опустил голову, не говоря ни слова. Он в самом деле хорошо, очень хорошо справлялся, если не считать невероятных, диких всплесков, которые случались, когда вездесущее дело «Патны» в очередной раз всплывало. К несчастью, этот скандал, всколыхнувший восточные моря, все не желал окончательно угаснуть. По той же причине я, сколько бы времени ни проходило, никак не мог распрощаться с Джимом навсегда.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































