Текст книги "Карлейль"
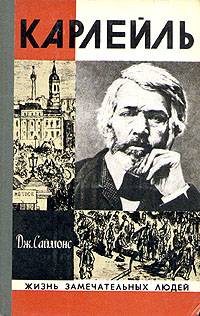
Автор книги: Джулиан Саймонс
Жанр: Зарубежная публицистика, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 24 страниц)
Глава восьмая. Крэгенпутток
Здесь, в гористой местности, которую пересекает река Нит на своем пути к морю, недалеко от города Дамфриса, на хуторе под названием Крэгенпутток, он поселился в простом деревенском доме вместе со своей красивой и образованной женой. Гете. Предисловие к немецкому изданию «Жизни Шиллера» Т. Карлейля
Обстоятельства жизни Карлейля, пожалуй, освещены лучше, чем жизнь любого другого английского писателя. И Карлейль и Джейн были многословны в своих письмах: если уж они садились, чтобы написать, как они говорили, «наспех несколько строк», то из-под их пера, как правило, выходило достаточно, чтобы заполнить три-четыре печатные страницы. Причем многие из их адресатов сохраняли письма. Сами супруги также бережно хранили переписку. Вместо обычных для биографий более или менее достоверных предположений и подчас полного отсутствия сведений о герое в сложные моменты его жизни, здесь мы располагаем изобилием материала, подчас до неловкости подробного. Ради полного представления о той или иной стороне биографии Карлейля иной раз стоит пренебречь хронологической точностью: нам удобней рассмотреть вместе переписку Карлейля с Гете и с братом Джоном, которая растянулась на многие годы и проливает свет на его характер и его стремления.
Переписка между Карлейлем и Гете началась, когда первому было двадцать девять, а второму – семьдесят пять. Немецкий мыслитель пользовался прочной всенародной славой; в течение полувека он состоял при Веймарском дворе министром, придворным моралистом и поэтом. Однако он по-прежнему оставался знаменитостью лишь национального масштаба, и ему лестно было получить из-за границы от незнакомого молодого почитателя перевод своего «Вильгельма Мейстера» вместе с письмом, полным благоговения, кончающимся такими словами: «Да будет жизнь Ваша долгой, долгой ради утешения и поучения нынешнего и будущих поколений». Ответ Гете был выдержан в любезном, но сдержанно-снисходительном тоне мастера, принимающего заслуженное поклонение; он прислал Карлейлю в подарок несколько своих стихотворений. Карлейль писал Джейн Уэлш, что письмо это было «почти как послание из Страны Фей, я не мог поверить, что вижу в действительности руку и подпись этого таинственного человека, чье имя витало в моем воображении, подобно заклинанию, с самого детства»; заклинание еще продолжало действовать два года спустя, судя по самоуничижительному и благоговейному тону надписи, сделанной им на следующем подарке: он посылал «Жизнь Шиллера» и «Сборник немецких романтиков» с чувством, которое испытывает, по его словам, «Ученик перед своим Учителем, или нет – Сын перед своим Духовным Отцом».
Гете не остался равнодушным к высокой оценке, выраженной в этих словах, и дальнейшая переписка изобилует подробностями, как поучительными, так и нередко комическими. Вместе с «Жизнью Шиллера» Карлейль послал кошелек, сделанный Джейн, «прелестными руками и с искренней любовью». Гете ответил письмом на имя сэра Томаса Карлейля, за которым вскоре последовала «прелестная шкатулочка, какую только приходилось видеть». В шкатулке было пять томиков со стихами Гете с надписью «Глубоко ценимой чете Карлейлей»; записная книжка для Карлейля и черная металлическая цепочка для Джейн с головой Гете, вырезанной из цветного стекла и оправленной в золото; медаль с портретом Гете и другая медаль – с изображениями его отца и матери, наконец, там было еще несколько карточек со стихами Гете. Эти подарки украсили гостиную Карлейлей на Комли Бэнк, где уже висел один большой портрет Гете, а несколько других хранилось в папках. Медали расположились на каминной полке, книги заняли почетные моста, а «из укромных тайников для ближайших друзей извлекаются Ваши письма». Со следующим письмом Гете прислал еще пять томов своих сочинений, маленькую шкатулку, календарь для Джейн и шесть бронзовых медалей. Две из них он просил передать Вальтеру Скотту, а остальные четыре – поклонникам Гете по усмотрению самого Карлейля. Эта задача требовала внимания: Карлейль обещал раздать медали «без поспешности, но по достоинству», и он долго размышлял, взвешивая достоинства подходящих кандидатов, прежде чем сделал окончательный выбор. Теперь следовало послать ответный дар: в Веймар отправился портфель работы Джейн, в котором был томик стихов Каупера, шотландский национальный головной убор и прядь черных волос Джейн. «Она просит... и надеется, – писал Карлейль, – что Вы пришлете ей взамен прядь Ваших волос, которую она сохранит как самое дорогое свое достояние и оставит после себя это драгоценное наследство только наиболее достойным».
В такой просьбе, обращенной к почти восьмидесятилетнему человеку, была некоторая доля бестактности: Гете был весьма огорчен своей неспособностью удовлетворить просьбу: «Во-первых, о несравненном локоне, который, правда, хотелось бы видеть вместе с милой головкой, но который, представ здесь моим глазам, испугал меня. Столь разителен был контраст; ибо мне не нужно было ощупывать мой череп, чтобы удостовериться, что на нем сохранилась лишь жалкая щетина, не нужно было и зеркала, чтобы узнать, сколь обесцветил ее долгий натиск времени».
Далее Гете оставляет вопрос о локоне и обращается к более безопасному предмету – шотландскому головному убору, который показался ему «вместе с цветком чертополоха очень приятным украшением». Однако вся эта история его явно тревожила, и в постскриптуме письма, написанного два месяца спустя, он снова возвращается к ней. «Бесподобный локон черных волос заставляет меня прибавить еще страничку, чтобы выразить искреннее огорчение тем, что желаемый обмен, увы, невозможен. Скудная, бесцветная и лишенная всякой прелести старость вынуждена довольствоваться тем, что хоть какое-то цветение еще возможно внутри человека, когда внешнее давно уж прекратилось. Я стараюсь придумать какую-нибудь замену, но пока мне не посчастливилось ее найти».
На этом с вопросом о локонах было покончено. Однако обмен подарками и письмами продолжался. Последним был подарок к восьмидесятилетию Гете от «пятнадцати английских друзей», включая Уилсона, Скотта, Локартэ, Саути, Вордсворта, Проктора и Карлейля: это была печатка, на которой «среди превосходной резьбы и различных символов» на золотой ленте, обвитой змеей – символ вечности – стояли слова: «Немецкому Мастеру от друзей из Англии» – и дата. Идея принадлежала Карлейлю, и подарок понравился Гете, хоть он и не преминул заметить, что слова были написаны старинными немецкими заглавными буквами, «которые не помогают прочтению». Ответ на подарок был последним письмом, которое Карлейль получил от Гете: окруженный почетом, без каких-либо явных страданий, Гете скончался.
В некрологе, написанном для «Нового ежемесячника», Карлейль славил великого писателя, которого звал раньше своим духовным отцом, говоря о нем, как говорят о старых поэтах, что он был провидцем, подлинным властителем дум, мудрецом, подвинувшим мир вперед к «Постижению, Духовному Прозрению и Решимости». Венцом заслуг Гете, по мнению Карлейля, было провозглашение «Новой Эры», которая должна прийти на смену эпохе беспорядка и безверия. «Эта, наивысшая похвала книге, относится к его книгам: в них Новое Время: прорицание и начало Нового Времени. Здесь заложен краеугольный камень нового общественного здания, заложен прочно, на твердой основе. Мы видим здесь и наметки будущего здания, которые будут расширены последующими веками, поправлены и воплощены в реальность».
Вот что превозносил Карлейль, но ведь этим далеко не ограничивается роль Гете, многие же стороны в мировоззрении этого мастера казались его ученику темными или нелепыми. Их переписка ясно показывает поклонение Карлейля идеальному Гете, частично им же придуманному, и уважение Гете к оригинальности и нравственной силе ученика; но она также указывает на разногласия, которые скорее всего омрачили бы встречу с духовным отцом, которой так желал Карлейль.
Еще в начале переписки Гете высказал идею, владевшую им в старости, о взаимоуважительных человеческих отношениях, достичь которых можно было бы при помощи всесильного искусства. То, что в искусстве одной какой-либо нации способствовало спокойствию мыслей и мягкосердечию, должно заимствоваться другими нациями. Национальные черты, разумеется, не должны при этом утрачиваться, ибо они, по мысли Гете, составляли соль того общения, о каком думал Гете: и все же «все истинно великое принадлежит всему человечеству».
Такой расплывчатости Карлейль вовсе не понял: его мысль шла более радикальными, но и более произвольными путями. Он осторожно отвечал, что, «насколько мог охватить значение» этой идеи, он с ней согласен. Однако, по существу, это был лишь вежливый отпор. Именно эти идеи Карлейль и считал у Гете нелепыми, эту идеалистическую веру в преобразующую силу искусства, о которой Карлейль писал: «Временами я мог бы пасть перед ним на колени и молиться на него, иногда же мне хотелось вытолкать его из комнаты». Кроме того, на протяжении переписки становится ясно, что Карлейлю надоело переводить сочинения других людей, какими бы великими они ни были. Предложение Эккермана, друга и биографа Гете, перевести «Фауста» Карлейль оставил без ответа; когда же Эккерман повторил его, говоря: «Если б я был на Вашем месте, я несомненно постарался бы заслужить благодарность моей страны тем, что посвятил бы лучшие часы досуга тщательному переводу „Фауста“, – Карлейль вяло согласился, но не стал ничего делать.
Гете, со своей стороны, не испытывал ни интереса, ни сочувствия к постепенно утвердившейся у Карлейля мысли о том, что мир возможно спасти лишь какой-либо новой религией, включающей новую идею о социальной справедливости. Почтенный служитель при Веймарском дворе ужаснулся бы от мысли Карлейля, что французская революция была великим и необходимым актом свержения растленных и прогнивших институтов. Напрасно пытался Карлейль добиться от Гете осуждения английского утилитаризма и бентамизма, напрасно расспрашивал его о влиянии этих тлетворных учений в Германии: на его вопросы мудрец не дал ответа. Когда Карлейль получил письмо от революционеров-сенсимонистов я спросил мнение Гете о них, тот ответил предостережением: «От сенсимонистов держитесь подальше».
Свое официальное мнение о Гете Карлейль выразил в некрологе, наиболее сокровенные мысли он доверил лишь брату Джону в письме: «В моем сердце еретика с каждым годом все укрепляется странная, упрямая, однобокая мысль, что всякое Искусство в наше время – лишь воспоминание, что нам нынче нужна не Поэзия, а Идея (правильно понятая) ; как можем мы петь и рисовать, когда мы еще не научились верить и видеть!.. И что такое все наше искусство и все наши понятия о нем, если смотреть с такой точки зрения? Что такое сам великий Гете? Величайший из современников, которому, однако, не суждено иметь последователей, да и не следует их иметь».
* * *
Отношения отца и сына несколько раз и в разных вариантах воспроизводились в жизни Карлейля. Им, несомненно, руководило стремление компенсировать неудачу его отношений с отцом. Ирвинг, Джеффри и Гете в различной степени заменяли ему отца в их отношении к Карлейлю как старших к младшему. С другой стороны, и Карлейль бывал добрее и благожелательнее тогда, когда оказывался в положении старшего. Джейн Уэлш, как мы помним, он напоминал своим влиянием на нее и превосходством над ней ее горячо любимого отца. Да и его отношения с братом Джоном, который был моложе его всего на пять с небольшим лет, скорее походили па отношения отца с сыном.
К сожалению, мы не располагаем жизнеописаниями остальных родственников Карлейля, а отзывы современников весьма скудны. Из того, что известно, поражает прежде всего их грамотность, особенно при их скромном происхождении. Большая часть семьи прочла «Вильгельма Мейстера» и «Жизнь Шиллера»; хотя, когда Карлейль надписал «Сборник немецких романтиков» для своего отца, он говорил, что знает точно: Джеймс Карлейль не прочтет ни слова в этой книге.
Если Алек был, как утверждает один из биографов Карлейля, наиболее талантливым из братьев, то Джон, несомненно, проявлял наибольший интерес к литературе. На фотографии мы видим как бы уменьшенную копию самого Томаса Карлейля, с таким же, как у Томаса, вопросительным взглядом и такой же упрямо оттопыренной нижней губой, но без той пламенной – вплоть до саморазрушения, – одержимости во взгляде, которая с юности была характерна для Томаса. Да и по сути своей Джон Карлейль был более сглаженным слепком со старшего брата; с интересом к литературе и склонностью к прямолинейной логике, которой он подчас доводил друзей до бешенства... На этого-то добродушного и несколько легкомысленного молодого человека, которого в семье звали «его сиятельством Луной» за круглое лоснящееся красное лицо, Карлейль и расходовал щедро свои огромные запасы нежности и значительную часть весьма скудных средств. Он частично платил за его образование и занятия медициной, когда они жили вместе в Эдинбурге; а когда, закончив свое медицинское образование, Джон получил приглашение в Мюнхен от барона д'Ейхталя, дяди двух молодых сенсимонистов, большую часть расходов опять-таки взял на себя Томас.
Чтобы ясно представить себе ту щедрость, с которой он всегда помогал семье – а он также посылал деньги отцу и матери, – нужно вспомнить, что он жил тогда на гонорары за рецензии (то есть на 250 фунтов в год), что недостаток денег помешал ему повидать Гете в Веймаре и что главным преимуществом Крэгенпуттока было именно то, что там можно было прожить на 100 фунтов в год – вполовину меньше того, что понадобилось бы в Эдинбурге. На протяжении всей своей жизни Карлейль не ценил ни денег, ни удобств, которые они могли доставить. Такого же отношения к деньгам он ожидал и от жены. Оно было, однако, другим; но ни тогда, ни позднее Джейн как будто не жаловалась на бедность. Она также никогда не ожидала от него, что он изменит себе и возьмется за какую-нибудь ненужную работу ради того скромного, но прочного дохода, который казался ей столь необходимым до свадьбы. Более того, наотрез отказавшись жить в одном доме с миссис Уэлш, Карлейль тем не менее ожидал, что Джейн поселится в Крэгенпуттоке вместе с его братом Алеком и будет принимать его мать и сестер и, разумеется, брата Джона, на Комли Бэнк. Против всего этого у его жены не находилось возражений – настолько изменилась Джейн Уэлш Карлейль по сравнению с Джейн Бейли Уэлш. Не жаловалась она и тогда, когда Джон на весь вечер уходил наверх наблюдать за звездами, а потом возвращался часов в десять и просил овсянки – «с посиневшим носом и красный как рак».
Уезжая в Мюнхен, Джон Карлейль оправдывался тем, что ему необходимо совершенствоваться в хирургии, без чего нельзя открывать собственной практики. Однако уехав, он не обнаруживал никакого желания возвратиться. Он добродушно принимал наставления брата, даже, возможно, вел дневник, как ему советовали; однако сомнительно, чтобы он послушался Карлейля и попытался вникнуть в политическую обстановку в Баварии и определить природу общественного уклада и степень личной свободы, дозволенную там. Четыре месяца его семья вообще не имела никаких известий 6т «его сиятельства», а когда он наконец подал о себе знать, то лишь с тем, чтобы сообщить, что он желал бы еще год провести в Германии, если бы имел на это средства. В Германии он не остался, но и домой не возвратился. Полгода он пожил в Вене на средства Томаса, который изо всех сил старался уговорить его вернуться домой и начать по крайней мере практиковать в качестве врача. «Мне представляется совершенно ясным... что человек, обладающий положительным нравом и талантом врача, не может не добиться немедленного значительного успеха в наше время во многих частях Шотландии, из которых, впрочем, немногим уступит наше графство, наш город Дамфрис».
Наконец Джон возвратился на родину, но не с целью стать врачом в Дамфрисе. Да и в любом другом месте он не стремился к этому: после нескольких недель, проведенных в размышлениях в Скотсбриге и Крэгенпуттоке, он наконец сообщил свое твердое решение: он будет жить статьями. Он задумал две статьи – одну о магнетизме у животных, другую о немецкой медицине, – и Карлейль поддержал его словами, в которых слышится нотка отчаяния. «В тысячный раз повторяю, что тебе нечего бояться, так что налегай покрепче плечом на колесо. Пиши свои статьи, самые лучшие, на какие ты способен, обдумай наедине с собой, спроси совета добрых друзей – и не бойся дурного результата». С самыми лучшими намерениями и самой твердой решимостью Джон Карлейль отбыл в Лондон.
* * *
Что же происходило в это время в Крэгенпуттоке, в этой глуши, куда почту привозили раз в неделю, а единственными соседями на шесть миль кругом были крестьяне? Где зимой в течение трех месяцев ни одна живая душа не стучалась в двери, ни даже нищий, просящий подаяния? Дни, недели, месяцы текли здесь, следуя по кругу неизменной чередой. Карлейль ездил верхом по пустошам, размышлял о грядущей судьбе человечества, старался понять французскую революцию, которая все больше занимала его мысли, писал новые похвалы немецким романтикам и нападал на модных немецких драматургов, работал над критико-биографическими исследованиями о Вернее и Вольтере. О Вернее он писал для «Эдинбургского обозрения», но Джеффри, хоть и получил одну из медалей Гете, все же решил наконец, что в Карлейле слишком много этого «тевтонского огня» и что его высокое мнение о Гете и других было «ошибочным». Пригласив Карлейля писать о Вернее, он предупредил, что не позволит ему открыто поносить величайших поэтов века. «Фелиция Хеманс приводит меня в восторг, а Муром я глубоко восхищаюсь... Я приведу вам бесчисленные места у Мура, с которыми сравните, если можете, что-нибудь у Гете или его последователей».
С этого времени Джеффри, которому это самовольное изгнание в Крэгенпутток казалось предосудительным чудачеством, старался заставить Карлейля изменить отношение к жизни и к литературе и вернуться в Эдинбург – эти шотландские Афины. Одержимость и подвижнические настроения Карлейля не нравились ему, он подозревал, что Джейн страдает, позабытая в этой погоне за химерами, как он считал. «Веселитесь, играйте и дурачьтесь с ней по крайней мере столь же часто, как ей приходится быть мудрой и стойкой с Вами, – писал он. – Нет у Вас на земле призвания, что бы Вы ни воображали, хотя бы вполовину столь же важного, как – попросту быть счастливым».
Эти опасения за благополучие Карлейлей были неоправданными: в целом жизнь их была достаточно счастливой. На конюшне имелись две лошади, и по утрам они отправлялись часок прогуляться верхом перед завтраком. Затем Карлейль писал у себя в уютном кабинете с зелеными шторами, в то время как Джейн осматривала хозяйство – дом, сад и живность, обрезала цветы и собирала яйца; после обеда Карлейль читал, а она лежала на диване и спала, читала или мечтала. Вечерами они иногда читали вдвоем «Дон-Кихота», изучая испанский язык. «В целом я никогда не была более довольна своей жизнью, – писала Джейн Бэсс Стодарт. – Здесь наслаждаешься такой свободой и спокойствием». Она с радостью замечала в себе дар приспосабливаться равно и к шумной эдинбургской жизни, и к «прелестным бескрайним мхам» Крэгенпуттока.
Так было в лучшие дни. Но бывали и плохие. Карлейль окреп от спокойной жизни, размеренной работы и упражнений, но здоровье Джейн ухудшилось. Она с юности была хрупкой, подверженной таинственным мигреням и приступам уныния; теперь же ей стало еще хуже, она страдала от простуд, мучилась горлом и желудком. Как и Карлейль, она верила в могущество касторки. Природная веселость в те дни еще не изменяла ей, но по утрам, когда нельзя было открыть двери, заваленной снаружи снегом, она с сожалением думала о жизни в Эдинбурге и ей страстно хотелось «увидеть снова зеленые поля или хоть черный мох – что угодно, только не эту огромную пустыню слепящего снега».
Жизнь в Крэгенпуттоке представляла некоторые неудобства, но настоящих трудностей было немного. Из Эдинбурга с Карлейлями приехала служанка, кроме того, имелась еще молочница, и, как Карлейль называл ее, «скотница – нерадивая, непоседливая веселая баба». Здесь у Джейн вряд ли было больше грубой работы, чем в Комли Бэнк; но много лет спустя, вспоминая эту жизнь среди болот, она усиливала ее драматизм и, глядя из сумрака своей унылой старости, приписывала ей воображаемые лишения и печали. В письме, написанном ею тридцать лет спустя, уже будучи женой знаменитого человека, она вспоминала Крэгенпутток и особенно один случай в самом мрачном свете: «Я поселилась с мужем на маленьком хуторке посреди мшистых болот, который перешел ко мне по наследству через много поколений от самого Джона Уэлша, женатого на дочери Джона Нокса. Все это, к моему стыду, не заставило меня смотреть на Крэгенпутток иначе, чем на унылое болото, негодное для жизни... Более того, мы были очень бедны, а хуже всего было то, что я, единственный ребенок у родителей, которого они всю жизнь готовили к „блестящему будущему“, не имела ни одного полезного навыка, зато отменно знала латынь и совсем неплохо – математику! В таких невыносимых условиях мне надлежало еще научиться шить! С ужасом узнала я, что мужчины, оказывается, до дыр снашивают носки и беспрестанно теряют пуговицы, а от меня требовалось „следить за всем этим“; к тому же мне надлежало научиться готовить! Ни один хороший слуга не соглашался жить в этом глухом углу, а у мужа больной желудок, и это страшно осложняло жизнь. Более того, хлеб, который возили из Дамфриса, „плохо действовал на его желудок“ (боже праведный!), и мой долг как доброй и преданной жены явным образом состоял в том, чтобы печь хлеб дома. Я заказала „Ведение загородного хозяйства“ Коббетта и принялась за свой первый хлеб. Но поскольку я не имела никакого понятия ни о действии дрожжей, ни об устройстве печи, хлеб попал в печь уже в то время, когда мне самой пора было идти спать. И осталась я одна в спящем доме, посреди безлюдной тишины. Пробило час, затем два, три, а я все сидела в полном одиночестве, все тело мое ныло от усталости, а сердце разрывалось от чувства потерянности и обиды. Тогда и вспомнился мне Бенвенуто Челлини, – как он сидел всю ночь, глядя, как закаляется в огне его Персей. И вдруг я спросила себя, с точки зрения Высшей Силы – так ли уж велика разница между караваем хлеба и статуей Персея? Не все ли равно, какое именно применение ты нашел своим рукам? Воля человека, его энергия, терпение, его талант – вот что заслуживает восхищения, а статуя Персея – всего лишь их случайное воплощение».
Сказано хорошо, но рассказ Карлейля о тех же событиях звучит достовернее. Он записал в своих «Воспоминаниях» в то время, когда никак не мог знать о письме Джейн: «Я хорошо помню, как однажды вечером она вошла ко мне поздно, часов в одиннадцать, с торжествующим и одновременно загадочным выражением лица и показала мне первый испеченный ею хлеб: „Взгляни-ка!“ Хлеб и вправду был превосходный, только корочка слегка подгорела; она сравнивала себя с Челлини и его Персеем, о котором мы до этого читали».
* * *
Посетители были редки в Крэгенпуттоке. Джеффри гостил здесь три дня вместе с женой, ребенком и болонкой, которую они повсюду возили с собой. Визитом все остались очень довольны. Карлейль позднее с гордостью вспоминал, что Джейн, несмотря на их сравнительную бедность, сумела создать впечатление изящества и изобилия. Очень повеселил всех Джеффри, который с блеском пародировал известных политических деятелей, расхаживал взад и вперед «полный электрического огня», меняя манеру, так что подчас «его маленькая фигура казалась огромной, если этого требовал воплощаемый им образ», пока наконец он не свалился под взрывы всеобщего хохота и не застыл в изнеможении, словно заколдованный, без движения, без звука, уставившись блестящими глазами в пространство».
Следующим посетителем был Ирвинг, который приехал восемь месяцев спустя, проездом, совершая очередную триумфальную поездку по Шотландии, и провел у них три дня. В один и тот же день он успел прочесть трехчасовую проповедь в Дамфрисе в присутствии 10 тысяч слушателей и вторую, четырехчасовую проповедь здесь же поблизости, в Голливуде. О нем шептались, что у него странные, крамольные взгляды на происхождение Библии; однако пока это был всего лишь шепот.
В следующем году приезжала на несколько недель мать Карлейля и на две недели его отец. Иногда молодая чета Карлейлей отправлялась верхом за четырнадцать миль навестить миссис Уэлш в Темпленде, сорокамильные поездки в Скотсбриг предпринимались реже. Они и в самом деле жили очень уединенно, и если Джейн стойко сносила такую жизнь, то лишь потому, что не только любила своего мужа, но и преклонялась перед ним. Написанное Карлейлем в Крэгенпуттоке убеждало Джейн в том, что его величие непременно будет когда-нибудь всеми признано.
Здесь, в глуши, посреди этих мрачных болот, из-под пера Карлейля начали наконец выходить работы глубоко, истинно оригинальные. Статьи о немецкой литературе стали теперь всего лишь доходным побочным результатом его собственных размышлений: защищая немецкий вкус, он отстаивал теперь собственную позицию, преклоняясь перед мудростью Гете и мистицизмом Новалиса, он на самом деле искал в них противоядия против французского рационализма. Тем не менее его работы о Вернее и Вольтере и статья под названием «Знамения времени» отчасти выражают и его позитивную программу.
В наше время трудно понять, чем могла не понравиться Джеффри статья Карлейля о Вернее. В ней лишь намечен будущий собственный слог зрелого Карлейля, хотя стиль, заимствованный у Джонсона, здесь уже начинает преображаться и заменяться более сжатой, почти лишенной нарочитости прозой. Местами она спрессована до афоризма: «Сказано, что в глазах собственного слуги никто не герой, и, должно быть, это верно, но обвинить в этом можно с равным основанием и героя, и слугу». Том Мур и Фелиция Хеманс так и не удостаиваются здесь упоминания, зато критикуется Байрон за некоторую выспренность, заметную особенно в сравнении с простотой Бернса, критикуется, впрочем, весьма сдержанно и убедительно. Вся статья пронизана теплым чувством, которым отмечены далеко не все из более знаменитых работ Карлейля.
Такой представляется статья нам, но Джеффри судил о ней иначе. Он возражал против тона и слога статья: некоторые мысли, например, что поэты, «подобно миссионерам, посланы своему поколению», не встречали у него никакого сочувствия. Джеффри настаивал на сокращениях. По его мнению, и статья от них не проиграет, да и автор не пожалеет. Весьма оптимистическая точка зрения, если учесть, что выбросить он предполагал примерно пятую часть всей статьи. В корректуре Карлейль восстановил почти все сокращения, вызвав гнев Джеффри. Его упреки предвосхищали те обвинения, которые Карлейлю не раз предъявлялись в будущем: «Думается, что не следует впредь давать вам читать корректуру. Вас это только огорчает, а пользы никакой, так как правите вы дурно... Боюсь, что вы больше восхищаетесь собою, нежели приличествует философу, раз считаете необходимым цепляться за эти ничтожные обрывки красноречия – и отвергать мои безобидные исправления в вашем боговдохновенном труде. Как могло вам прийти в голову восстанавливать слово „фрагментарный“ или эту простенькую, избитую шутку о том, что платье делает человека и что портной поэтому – его создатель?» Однако «обрывки красноречия» появлялись впоследствии даже чаще, да и шуткой о портном он еще воспользовался, причем весьма примечательно.
Берне привлекал Карлейля отчасти своим типично шотландским характером, неприязнь же к Вольтеру в большой степени основывалась на том, что тот представлял (как казалось Карлейлю) «врожденную легковесность натуры, полное отсутствие серьезности», отличавшие французов. На первый взгляд здесь выражен самый обыкновенный, пресный пуританизм. Однако в руках Карлейля эта мысль вырастала и приобретала драматический смысл, знаменуя собой противостояние рационального ума, смотрящего на историю «не глазами благоговейного очевидца или даже критика, но всего лишь через пару антикатолических очков», – более цельному уму (такому, в сущности, как у самого Карлейля), ценившему и силу и остроту рационализма, но способному заглянуть дальше этого рационализма и поставить свои гениальные достижения на службу той Новой Эре, в наступление которой так верил Карлейль.
Противостояние заметно и в другом: яркая жизнь Вольтера и маркизы де Шатле, с их огромным духовным влиянием на современную им эпоху, была во многом похожа на то, чего Карлейль желал для себя и Джейн – и что было недостижимо в Крэгенпуттоке. Читая его рассказ о последней триумфальной поездке Вольтера в Париж, нельзя не прочесть сокровенной мысли самого автора: и он мог бы совершить такую же поездку и даже с большей пользой. Признавая в Вольтере «несокрушимый гуманизм, душу, которая никогда не оставалась глухой к крику обездоленных, не была слепой к свету истины, красоты, добра», Карлейль-моралист тем не менее считал его не более чем шутником, пусть и блестящим: «Если признать его величайшим из насмешников, то следует добавить, что в нравственном отношении он к тому же и лучший из них». Если нам такая похвала не покажется очень уж щедрой, вспомним, что эту статью Карлейль даже не стал показывать Джеффри, так как столь решительное одобрение крамольных религиозных взглядов Вольтера вызвало бы бурю протеста. В этих словах – человек, борющийся с собственной неприязнью ради того, чтобы понять. Пусть назовут ее недостаточно щедрой те, кто сделал равное усилие, чтобы понять Карлейля.
Идеи Вольтера возвестили французскую революцию; о каких революционных переменах в английском обществе возвещал наш новый пророк? «Придет время, – писал Карлейль, – когда сам Наполеон будет лучше известен своими законами, нежели своими битвами, а победа при Ватерлоо окажется менее значительным событием, чем открытие Института механики». В статье «Знамения времени» он впервые прямо говорит о «Машинном Веке», когда ремесленник оказывается изгнанным из мастерской, челнок покидает руки ткача, а моряк оставляет весла. Он высказывает мысль – и она до сих пор владеет умами людей – о том, что механика духа важнее для современного общества, чем даже этот замечательный стремительный рост сил, вызванный машинным производством, как бы неотвратимо – и быстро – он ни видоизменял старые отношения между богатыми и бедными. Утилитаристам, представителям наиболее распространенного передового течения эпохи, казалось очевидным, что развитие машинной техники приведет человечество к благоденствию. Противоположную точку зрения отстаивали на практике луддиты, ломая все машины, до которых они могли добраться. Карлейль приветствовал век машин, но доказывал, что он потребует переустройства общества: «Противоборство заложено глубоко в самой ткани общества; это бесконечная жестокая схватка Нового со Старым. Французская революция, как теперь легко понять, не породила это мощное движение, но сама была его детищем. ...Пока все усилия были направлены на достижение политической свободы, но на этом они не должны и не могут остановиться. Человек безотчетно стремится к свободе более высокого порядка, нежели простое избавление от гнета со стороны своих ближних. Все его благородные начинания, все его упорные попытки, все величайшие достижения суть лишь отражение, приблизительный образ этой высшей, небесной свободы, которая и есть „справедливый удел человека“.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































