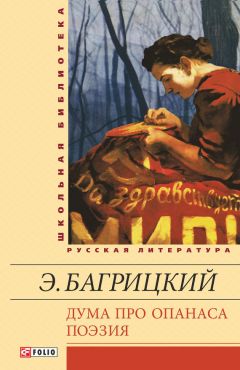Читать книгу "Дума про Опанаса; Поэзия"
Весенний ветер лезет вон из кожи,
Калиткой щелкает, кусты корежит,
Сырой забор подталкивает в бок
Сосна, как деревянное проклятье,
Железный флюгер, вырезанный ятью
(Смотри мой «Папиросный коробок»),
А критик за библейским самоваром,
Винтообразным окружен угаром,
Глядит на чайник, бровью шевеля.
Он тянет с блюдца, – в сторону мизинец, —
Кальсоны хлопают на мезонине,
Как вымпел пожилого корабля,
И самовар на скатерти бумажной
Протодиаконом трубит протяжно.
Сосед откушал, обругал жену
И благодушествует:
«Ах! Погода!
Какая подмосковная природа!
Сюда бы Фофанова да луну!»
Через дорогу в хвойном окруженье
Я двигаюсь взлохмаченною тенью,
Ловлю пером случайные слова.
Благословляю кляксами бумагу.
Сырые сосны отряхают влагу,
И в хвое просыпается сова.
Сопит река.
Земля раздражена
(Смотри стихотворение «Весна»).
Слова как ящерицы – не наступишь;
Размеры – выгоднее воду в ступе
Толочь; а композиция встает
Шестиугольником или квадратом;
И каждый образ кажется проклятым,
И каждый звук топырится вперед.
И с этой бандой символов и знаков
Я, как биндюжник, выхожу на драку
(Я к зуботычинам привык давно).
А критик мой недавно чай откушал.
Статью закончил, радио прослушал
И на террасу распахнул окно.
Меня он видит – он доволен миром —
И тенорком, политым легким жиром,
Пугает галок на кусте сыром.
Он возглашает:
«Прорычите басом,
Чем кончилась волынка с Опанасом,
С бандитом, украинским босяком,
Ваш взгляд от несварения неистов.
Прошу, скажите за контрабандистов,
Чтоб были страсти, чтоб огонь, чтоб гром,
Чтоб жеребец, чтоб кровь, чтоб клубы дыма, —
Ах, для здоровья мне необходимы
Романтика, слабительное, бром!
Не в этом ли удача из удач?
Я говорю как критик и как врач».
Но время движется. И на дороге
Гниют доисторические дроги,
Булыжником разъедена трава,
Электротехник на столбы вылазит, —
И вот ползет по укрощенной грязи,
Покачивая бедрами, трамвай.
(Сосед мой недоволен:
«Эт-то проза!»)
Но плимутрок из ближнего совхоза
Орет на солнце, выкатив кадык.
«Как мне работать!
Голова в тумане».
И бытием прижатое сознанье
Упорствует и выжимает крик.
Я вижу, как взволнованные воды
Зажаты в тесные водопроводы,
Как захлестнула молнию струна.
Механики, чекисты, рыбоводы,
Я ваш товарищ, мы одной породы, —
Побоями нас нянчила страна!
Приходит время зрелости суровой,
Я пух теряю, как петух здоровый.
Разносит ветер пестрые клочки.
Неумолимо, с болью напряженья,
Вылазят кровянистые стручки,
Колючие ошметки и крючки —
Начало будущего оперенья.
«Ау, сосед!»
Он стонет и ворчит:
«Невыносимо плимутрок кричит,
Невыносимо дребезжат трамваи!
Да вы линяете, милейший мой!
Вы погибаете, милейший мой!
Да, вы в тупик уперлись головой,
И, как вам выбраться, не понимаю!»
Молчи, папаша! Пестрое перо —
Топорщится, как новая рубаха.
Петуший гребень дыбится остро;
Я, словно исполинский плимутрок,
Закидываю шею. Кличет рог, —
Крылами раз! – и на забор с размаха.
О, злобное петушье бытие!
Я вылинял! Да здравствует победа!
И лишь перо погибшее мое
Кружится над становищем соседа.
1929
ТВС
Пыль по ноздрям – лошади ржут.
Акации сыплются на дрова.
Треплется по ветру рыжий джут.
Солнце стоит посреди двора.
Рычаньем и чадом воздух прорыв,
Приходит обеденный перерыв.
Домой до вечера. Тишина.
Солнце кипит в каждом кремне.
Но глухо, от сердца, из глубины,
Предчувствие кашля идет ко мне.
И сызнова мир колюч и наг:
Камни – углы, и дома – углы;
Трава до оскомины зелена;
Дороги до скрежета белы.
Надсаживаясь и спеша донельзя,
Лезут под солнце ростки и Цельсий.
(Значит: в гортани просохла слизь,
Воздух, прожарясь, стекает вниз,
А снизу, цепляясь по веткам лоз,
Плесенью лезет туберкулез.)
Земля надрывается от жары.
Термометр взорван. И на меня,
Грохоча, осыпаются миры
Каплями ртутного огня,
Обжигают темя, текут ко рту.
И вся дорога бежит, как ртуть.
А вечером в клуб (доклад и кино,
Собрание рабкоровского кружка).
Дома же сонно и полутемно:
О, скромная заповедь молока!
Под окнами тот же скопческий вид,
Тот же кошачий и детский мир,
Который удушьем ползет в крови,
Который до отвращенья мил,
Чадом которого ноздри, рот,
Бронхи и легкие – всё полно,
Которому голосом сковород
Напоминать о себе дано.
Напоминать: «Подремли, пока
Правильно в мире. Усни, сынок».
Тягостно коченеет рука,
Жилка колотится о висок.
(Значит: упорней бронхи сосут
Воздух по капле в каждый сосуд;
Значит: на ткани полезла ржа;
Значит: озноб, духота, жар.)
Жилка колотится у виска,
Судорожно дрожит у век.
Будто постукивает слегка
Остроугольный палец в дверь.
Надо открыть в конце концов!
«Войдите». – И он идет сюда:
Остроугольное лицо,
Остроугольная борода.
(Прямо с простенка не он ли, не он
Выплыл из воспаленных знамен?
Выпятив бороду, щурясь слегка
Едким глазом из-под козырька.)
Я говорю ему: «Вы ко мне,
Феликс Эдмундович? Я нездоров»,
…Солнце спускается по стене.
Кошкам на ужин в помойный ров
Заря разливает компотный сок.
Идет знаменитая тишина.
И вот над уборной из досок
Вылазит неприбранная луна.
«Нет, я попросту – потолковать».
И опускается на кровать.
Как бы продолжая давнишний спор,
Он говорит: «Под окошком двор
В колючих кошках, в мертвой траве,
Не разберешься, который век.
А век поджидает на мостовой,
Сосредоточен, как часовой.
Иди – и не бойся с ним рядом встать.
Твое одиночество веку под стать.
Оглянешься – а вокруг враги;
Руки протянешь – и нет друзей;
Но если он скажет: «Солги», – солги.
Но если он скажет: «Убей», – убей.
Я тоже почувствовал тяжкий груз
Опущенной на плечо руки.
Подстриженный по-солдатски ус
Касался тоже моей щеки.
И стол мой раскидывался, как страна,
В крови и чернилах квадрат сукна,
Ржавчина перьев, бумаги клок —
Всё друга и недруга стерегло.
Враги приходили – на тот же стул
Садились и рушились в пустоту.
Их нежные кости сосала грязь.
Над ними захлопывались рвы.
И подпись на приговоре вилась
Струей из простреленной головы.
О мать революция! Не легка
Трехгранная откровенность штыка;
Он вздыбился из гущины кровей,
Матерый желудочный быт земли.
Трави его трактором. Песней бей.
Лопатой взнуздай, киркой проколи!
Он вздыбился над головой твоей —
Прими на рогатину и повали.
Да будет почетной участь твоя;
Умри, побеждая, как умер я».
Смолкает. Жилка о висок
Глуше и осторожней бьет.
(Значит: из пор, как студеный сок,
Медленный проступает пот.)
И ветер в лицо, как вода из ведра.
Как вестник победы, как снег, как стынь.
Луна лейкоцитом над кругом двора,
Звезды круглы, и круглы кусты.
Скатываются девять часов
В огромную бочку возле окна.
Я выхожу. За спиной засов
Защелкивается. И тишина.
Земля, наплывающая из мглы,
Легла, как неструганая доска,
Готовая к легкой пляске пилы,
К тяжелой походке молотка.
И я ухожу (а вокруг темно)
В клуб, где нынче доклад и кино,
Собранье рабкоровского кружка.
1929
Веселые нищие(Р. Бернс)
Листва набегом ржавых звезд
Летит на землю, и норд-ост
Свистит и стонет меж стволами;
Траву задела седина,
Морозных полдней вышина
Встает над сизыми лесами.
Кто в эту пору изнемог
От грязи нищенских дорог,
Кому проклятья шлют деревни:
Он задремал у очага,
Где бычья варится нога,
В дорожной воровской харчевне;
Здесь Нэнси нищенский приют,
Где пиво за тряпье дают.
Здесь краж проверяется опыт
В горячем чаду ночников.
Харчевня трещит: это топот
Обрушенных в пол башмаков.
К огню очага придвигается ближе
Безрукий солдат, горбоносый и рыжий,
В клочки изодрался багровый мундир.
Своей одинокой рукою
Он гладит красотку, добытую с бою,
И что ему холодом пахнущий мир.
Красотка не очень красива,
Но хмелем по горло полна,
Как кружку прокисшего пива,
Свой рот подставляет она.
И, словно удары хлыста,
Смыкаются дружно уста.
Смыкаются и размыкаются громко.
Прыщавые лбы освещает очаг.
Меж тем под столом отдыхает котомка —
Знак ордена Нищих,
Знак братства Бродяг.
И кружку подняв над собою
Как знамя, готовое к бою,
Солодом жарким объят,
Так запевает солдат:
«Ах! Я Марсом порожден, в перестрелках окрещен,
Поцарапано лицо, шрам над верхнею губою.
Оцарапан – страсти знак! – этот шрам врубил тесак
В час, как бил я в барабан перед французскою толпою.
В первый раз услышал я заклинание ружья,
Где упал наш генерал в тень Абрамского кургана,
А когда военный рог пел о гибели Моро,
Служба кончилась моя под раскаты барабана.
Куртис вел меня с собой к батареям над водой,
Где рука и где нога? Только смерч огня и пыли.
Но безрукого вперед в бой уводит Эллиот;
Я пошел, а впереди барабаны битву били…
Пусть погибла жизнь моя, пусть костыль взамен ружья,
Ветер гнезда свил свои, ветер дует по карманам,
Но любовь верна всегда – путеводная звезда,
Будто снова я спешу за веселым барабаном.
Рви, метель, и, ветер, бей. Волос мой снегов белей.
Разворачивайся, путь! Вой, утроба океана!
Я доволен – я хлебнул! Пусть выводит Вельзевул
На меня полки чертей под раскаты барабана!»
Охрип или слов недостало,
И сызнова топот и гам,
И крысы, покрытые салом,
Скрываются по тайникам.
И та, что сидела с солдатом,
Над сборищем встала проклятым.
«Encore![2]2
Еще! (фр.)
[Закрыть]» – восклицает скрипач.
Косматый вздымается волос;
Скажи мне: то женский ли голос,
Шипение пива, иль плач?
«И я была девушкой юной,
Сама не припомню когда;
Я дочь молодого драгуна,
И этим родством я горда.
Трубили горнисты беспечно,
И лошади строились в ряд,
И мне полюбился, конечно,
С барсучьим султаном солдат.
И первым любовным туманом
Меня он покрыл, как плащом,
Недаром он шел с барабаном
Пред целым драгунским полком;
Мундир полыхает пожаром,
Усы палашами торчат…
Недаром, недаром, недаром
Тебя я любила, солдат.
Но прежнего счастья не жалко,
Не стоит о нем вспоминать,
И мне барабанную палку
На рясу пришлось променять.
Я телом рискнула, – а душу
Священник пустил напрокат.
Ну что же! Я клятву нарушу,
Тебе изменю я, солдат!
Что может, что может быть хуже
Слюнявого рта старика!
Мой норов с военщиной дружен, —
Я стала женою полка!
Мне всё равно: юный иль старый,
Командует, трубит ли в лад,
Играла бы сбруя пожаром,
Кивал бы султаном солдат.
Но миром кончаются войны,
И по миру я побрела.
Голодная, с дрожью запойной,
В харчевне под лавкой спала.
На рынке, у самой дороги,
Где нищие рядом сидят,
С тобой я столкнулась, безногий,
Безрукий и рыжий солдат.
Я вольных годов не считала,
Любовь раздавая свою;
За рюмкой, за кружкой удалой
Я прежние песни пою.
Пока еще глотка глотает,
Пока еще зубы скрипят,
Мой голос тебя прославляет,
С барсучьим султаном солдат!»
И снова женщина встает,
Знакомы ей туман и лед,
В горах случайные дороги,
Косуля, тетерев и лис,
Игла сосны и дуба лист,
Разбойничий двупалый свист,
Непроходимые берлоги.
Ее приятель горцем был,
Он пиво пил, он в рог трубил,
Норд-ост трепал его отрепья,
Он чуял ветер неудач,
Но вот его пеньковой цепью
Почетно обвязал палач.
И нынче пьяная подруга
Над пивом вспоминает друга:
«Под елью Шотландии горец рожден.
Да здравствует клан! Да погибнет закон!
Он знает равнину, и камень, и лог,
Мой Джон легконогий, мой горный стрелок.
В тартановом пледе, расшитом пестро,
На шапке болотного гуся перо,
Рука на кинжале, и взведен курок,
Мой Джон легконогий, мой горный стрелок!
Мы шли по дороге от Твида до Спей,
Под выход волынки, под пляску ветвей,
Мы пели вдвоем, мы не чуяли ног,
Мой Джон легконогий, мой горный стрелок!
Его осудили – и выгнали вон,
Но вереск цветет – появляется он;
Рука на кинжале, и взведен курок,
Мой Джон легконогий, мой горный стрелок.
Погоня! Погоня! Исполнился день —
Захвачен Шотландии вольный олень.
Палач. И веревка намылена в срок.
Мой Джон легконогий, мой горный стрелок!
Прощайте, веселые реки мои,
Волынка, попутчица нашей любви.
За ветер, за песни последний глоток!
Мой Джон легконогий, мой горный стрелок!»
Хор
Надо выпить за Джона!
Надо выпить за Джона!
Нет на земле шотландца
Доблестней горца Джона!
Перед шотландскою красоткой
Огромной, рыжей, как кумач,
Стоит влюбившийся скрипач,
Разбитый временем и водкой.
Не достигая до плеча,
Он ей бормочет сгоряча:
«Я джентльмен, и должен я, мой друг, утешить тебя.
Ты можешь очень весело жить, лишь скрипача любя.
Я в жертву тебе принести готов и музыку и себя.
На остальное плевать!
По свадьбам начнем мы ходить с тобой – что может быть веселей?
О, пляски на фермерском дворе среди золотых полей,
Когда скрипач кричит жениху: «Жених! наливай полней!»
На остальное плевать!
И солнце покажется нам тогда как донце кружки пивной,
И ветер подушкою будет нам, покрывалом – июльский зной,
Любовь и музыка по бокам, котомка – за спиной!
На остальное плевать!
Довольно!» – и скрипку пунцовым платком
С веселою нежностью кутает гном;
Глаза подымает – и видит старик
Огромной возлюбленной пламенный лик…
Но к черту ломаются стулья и стол,
Кузнец подымается, груб и тяжел,
Моргая глазами, сопя и ворча,
Он в зубы, по правилам, бьет скрипача.
Огромен кузнец. Огневой, кровяной,
Шибает в лицо ему выпивки зной;
Свои бакенбарды из шерсти овечьей
Кладет он шотландке на жирные плечи.
Любви музыканта приходит конец;
Как два монумента – она и кузнец.
Он щиплет ее, запевая спьяна,
И в лад его песне икает она.
«Из Лондона в Глазго стучат мои шаги,
Паяльник мой шипит, и молоток стрекочет,
Распорот мой жилет, и в дырьях сапоги,
Но коль кузнец влюблен – он пляшет и хохочет…
В солдаты я иду, когда работы нет:
Бесплатная жратва и пиво даровое.
Но, деньги получив, я заметаю след,
Паяльник мой в руках, жаровня за спиною».
Хор
О, что тебе скрипач, – он жертва неудач!
Сыграет и споет – и песня позабыта.
Твой новый господин – железа властелин:
Он подкует любви веселые копыта!
Пускай горят сердца во славу кузнеца!
Назавтра снова путь, работа спозаранку.
Гремят среди лугов две пары каблуков;
Друг под руку ведет веселую шотландку.
Скрипач не зевает. Долой кузнеца!
Жена хороша у бродяги-певца,
Подобно коту, подошедшему к пище.
Скрипач осторожно мурлычет и свищет,
Нечаянно ногу коленкой прижмет,
Нечаянно плечи рукой обоймет,
Покуда кузнец неуклюже, без правил,
Его не побил и под стол не отправил,
Совсем неудачная ночь!
Как дрозд веселится бродяга-певец.
Дорогам и песням не скоро конец.
Он пышет румянцем, зубами блестит,
Деревьям смеется и птицам свистит.
Для бренного ж тела он должен иметь
Литровую кружку и добрую снедь.
И в ночь запевает певец:
«Веселого певца
Не услыхать вельможам,
Недаром я пою
В лесах, по бездорожьям…
Уродлив посох мой,
Кафтан мой в прахе сером,
Но пчел веселый рой,
Крутясь, летит за мной,
Как прежде за Гомером.
Увы! Кастальский ключ
Не вычерпать стаканом.
От греческой воды
Не быть вовеки пьяным.
В передвечерний час
Меня приносят ноги
К тебе в приют не строгий,
Мой нищенский Парнас,
Открытый при дороге.
Дыхание любви
Нежней, чем ветер с юга.
Зови меня, зови,
Бездомная подруга.
Цветет ночная высь,
Травою пруд волнуем,
Чтоб мы, внимая струям,
Сошлись и разошлись
С веселым поцелуем.
Встречайте ж день за днем
Свободой и вином…»
Над языками фитилей
Кружится сажа жирным пухом,
И нищие единым духом
Вопят: «Давай! Прими! Налей!»
И черной жаждою полно
Их сердце. Едкое вино
Не утоляет их, а дразнит.
Ах, скоро ли настанет праздник,
И воздух горечью сухой
Их напоит. И с головой
Они нырнут в траву поляны,
В цветочный мир, в пчелиный гуд,
Где, на кирку склоняясь, Труд
Стоит в рубахе полотняной
И отирает лоб. Но вот
Столкнулись кружки, и фагот
Заверещал. И черной жаждой
Пылает и томится каждый.
И в исступленном свете свеч
Они тряпье срывают с плеч;
Густая сажа жирным пухом
Плывет над пьяною толпой…
И нищие единым духом
Орут: «Еще, приятель, пой!»
И в крик и в запах дрожжевой
Певец бросает голос свой:
«Плещет жижей пивною
В щеки выпивки зной!
Начинайте за мною,
Запевайте за мной!
Королевским законам
Нам голов не свернуть.
По равнинам зеленым
Залегает наш путь
Мы проходим в безлюдье
С крепкой палкой в руках,
Мимо чопорных судей
В завитых париках;
Мимо пасторов чинных,
Наводящих тоску!
Мимо… Мимо…
В равнинах
Воронье начеку.
Мы довольны! Вельможе
Не придется заснуть,
Если в ночь, в бездорожье
Залегает наш путь.
И ханже не придется
Похваляться собой,
Если ночь раздается
Перед нашей клюкой…
Встанет полдень суровый
Над раздольями тьмы,
Горечь пива иного
Уж попробуем мы!..
Братья! Звезды погасли,
Что им в небе торчать?
Надо в теплые ясли
Завалиться – и спать.
Но и пьяным и сонным
Затверди, не забудь:
– Королевским законам
Нам голов не свернуть!»
1928
Последняя ночь
Последняя ночь
Весна еще в намеке
Холодноватых звезд.
На явор кривобокий
Взлетает черный дрозд.
Фазан взорвался, как фейерверк.
Дробь вырвала хвою. Он
Пернатой кометой рванулся вниз,
В сумятицу вешних трав.
Эрцгерцог вернулся к себе домой.
Разделся. Выпил вина.
И шелковый сеттер у ног его
Расположился, как сфинкс.
Револьвер, которым он был убит
(Системы не вспомнить мне),
В охотничьей лавке еще лежал
Меж спиннингом и ножом.
Грядущий убийца дремал пока,
Голову положив
На юношески твердый кулак
В коричневых волосках.
. . . . . . . . .
В Одессе каштаны оделись в дым,
И море по вечерам,
Хрипя, поворачивалось на оси,
Подобное колесу.
Мое окно выходило в сад,
И в сумерки, сквозь листву,
Синели газовые рожки
Над вывесками пивных.
И вот на этот шипучий свет,
Гремя миллионом крыл,
Летели скворцы, расшибаясь вдрызг
О стекла и провода.
Весна их гнала из-за черных скал
Бичами морских ветров.
Я вышел…
За мной затворилась дверь…
И ночь, окружив меня
Движением крыльев, цветов и звезд,
Возникла на всех углах.
Еврейские домики я прошел.
Я слышал свирепый храп
Биндюжников, спавших на биндюгах,
И в окнах была видна
Суббота в пурпуровом парике,
Идущая со свечой.
Еврейские домики я прошел.
Я вышел к сиянью рельс.
На трамвайной станции млел фонарь,
Окруженный большой весной.
Мне было только семнадцать лет,
Поэтому эта ночь
Клубилась во мне и дышала мной,
Шагала плечом к плечу.
Я был ее зеркалом, двойником,
Второю вселенной был.
Планеты пронизывали меня
Насквозь, как стакан воды,
И мне казалось, что легкий свет
Сочится из пор, как пот.
Трамвайную станцию я прошел.
За ней невесом, как дым,
Асфальтовый путь улетал, клубясь,
На запад – к морским волнам.
И вдруг я услышал протяжный звук:
Над миром плыла труба,
Изнывая от страсти. И я сказал:
«Вот первые журавли!»
Над пылью, над молодостью моей
Раскатывалась труба,
И звезды шарахались, трепеща,
От взмаха широких крыл.
Еще один крутой поворот —
И море пошло ко мне,
Неся на себе обломки планет
И тени пролетных птиц.
Была такая голубизна,
Такая прозрачность шла,
Что повториться в мире опять
Не может такая ночь.
Она поселилась в каждом кремне
Гнездом голубых лучей;
Она превратила сухой бурьян
В студеные хрустали;
Она постаралась вложить себя
В травинку, в песок, во всё —
От самой отдаленной звезды
До бутылки на берегу.
За неводом, у зеленых свай,
Где днем рыбаки сидят,
Я человека увидел вдруг,
Недвижного, как валун,
Он молод был, этот человек,
Он юношей был еще, —
В гимназической шапке с большим гербом,
В тужурке, сшитой на рост.
Я пригляделся:
Мне странен был
Этот человек:
Старчески согнутая спина
И молодое лицо.
Лоб, придавивший собой глаза,
Был не по-детски груб,
И подбородок торчал вперед,
Сработанный из кремня.
Вот тут я понял, что это он
И есть душа тишины,
Что тяжестью погасших звезд
Согнуты плечи его,
Что, сам не сознавая того,
Он совместил в себе
Крик журавлей и цветенье трав
В последнюю ночь весны.
Вот тут я понял:
Погибнет ночь,
И вместе с ней отпадет
Обломок мира, в котором он
Родился, ходил, дышал.
И только пузырик взовьется вверх,
Взовьется и пропадет.
И снова звезда. И вода рябит.
И парус уходит в сон.
Меж тем подымается рассвет.
И вот, грохоча ведром,
Прошел рыболов и, сев на скалу,
Поплавками истыкал гладь.
Меж тем подымается рассвет.
И вот на кривой сосне
Воздел свою флейту черный дрозд,
Встречая цветенье дня.
А нам что делать?
Мы побрели
На станцию, мимо дач…
Уже дребезжал трамвайный звонок
За поворотом рельс,
И бледной немочью млел фонарь,
Не погашенный поутру.
Итак, всё кончено! Два пути!
Два пыльных маршрута в даль!
Два разных трамвая в два конца
Должны нас теперь умчать!
Но низенький юноша с грубым лбом
К солнцу поднял глаза
И вымолвил:
«В грозную эту ночь
Вы были вдвоем со мной.
Миру не выдумать никогда
Больше таких ночей…
Это последняя… Вот и всё!
Прощайте!»
И он ушел.
Тогда, растворив в зеркалах рассвет,
Весь в молниях и звонках,
Пылая лаковой желтизной,
Ко мне подлетел трамвай.
Револьвер вынут из кобуры,
Школяр обойму вложил.
Из-за угла, где навес кафе,
Эрцгерцог едет домой.
. . . . . . .
Печальные дети, что знали мы,
Когда у больших столов
Врачи, постучав по впалой груди,
«Годен!» – кричали нам…
Печальные дети, что знали мы,
Когда, прошагав весь день
В портянках, потных до черноты,
Мы падали на матрац.
Дремота и та избегала нас.
Уже ни свет ни заря
Врывалась казарменная труба
В отроческий покой.
Не досыпая, не долюбя,
Молодость наша шла.
Я спутника своего искал:
Быть может, он скажет мне,
О чем мечтать и в кого стрелять,
Что думать и говорить?
И вот неожиданно у ларька
Я повстречал его.
Он выпрямился… Военный френч
Как панцирь сидел на нем,
Плечи, которые тяжесть звезд
Упрямо сгибала вниз,
Чиновничий украшал погон;
И лоб, на который пал
Недавно предсмертный огонь планет,
Чистейший и грубый лоб,
Истыкан был тысячами угрей
И жилами рассечен.
О, где же твой блеск, последняя ночь,
И свист твоего дрозда!
Лужайка – да посредине сапог
У пушечной колеи.
Консервная банка раздроблена
Прикладом. Зеленый суп
Сочится из дырки. Бродячий пес
Облизывает траву.
Деревни скончались.
Потоптан хлеб
И вечером – прямо в пыль
Планеты стекают в крови густой
Да смутно трубит горнист.
Дымятся костры у больших дорог.
Солдаты колотят вшей.
Над Францией дым.
Над Пруссией вихрь.
И над Россией туман.
Мы плакали над телами друзей;
Любовь погребали мы;
Погибших товарищей имена
Доселе не сходят с губ.
Их честную память хранят холмы
В обветренных будяках,
Крестьянские лошади мнут полынь,
Проросшую из сердец,
Да изредка выгребает плуг
Пуговицу с орлом…
Но мы – мы живы наверняка!
Осыпался, отболев,
Скарлатинозною шелухой
Мир, окружавший нас.
И вечер наш трудолюбив и тих.
И слово, с которым мы
Боролись всю жизнь, – оно теперь
Подвластно нашей руке.
Мы навык воинов приобрели,
Терпенье и меткость глаз,
Уменье хитрить, уменье молчать,
Уменье смотреть в глаза.
Но если, строчки не дописав,
Бессильно падет рука,
И взгляд остановится, и губа
Отвалится к бороде,
И наши товарищи, поплевав
На руки, стащат нас
В клуб, чтоб мы прокисали там
Средь лампочек и цветов, —
Пусть юноша (вузовец, иль поэт,
Иль слесарь – мне все равно)
Придет и встанет на караул,
Не вытирая слезы.
1932