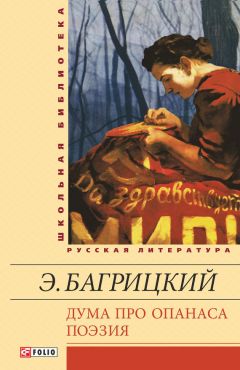Читать книгу "Дума про Опанаса; Поэзия"
I Ночь
Ежами в глаза налезала хвоя,
Прели стволы, от натуги воя.
Дятлы стучали, и совы стыли;
Мы челноки по реке пустили.
Трясина кругом да камыш кудлатый,
На черной воде кувшинок заплаты.
А под кувшинками в жидком сале
Черные сомы месяц сосали;
Месяц сосали, хвостом плескали,
На жирную воду зыбь напускали.
Комар начинал. И с комарьим стоном
Трясучая полночь шла по затонам.
Шла в зыбуны по сухому краю,
На каждый камыш звезду натыкая…
И вот поползли, грызясь и калечась,
И гад, и червяк, и другая нечисть…
Шли, раздвигая камыш боками,
Волки с булыжными головами.
Видели мы – и поглядка прибыль! —
Узких лисиц, золотых, как рыбы…
Пар оседал малярийным зноем,
След наливался болотным гноем.
Прямо в глаза им, сквозь синий студень
Месяц глядел, непонятный людям…
Тогда-то в болотном нутре гудело:
Он выходил на ночное дело…
С треском ломали его колена
Жесткий тростник, как сухое сено.
Жира и мышц жиляная сила
Вверх не давала поднять затылок.
В маленьких глазках – в болотной мути
Месяц кружился, как капля ртути.
Он проходил, как меха вздыхая,
Сизую грязь на гачах вздымая.
Мерно покачиваем трясиной, —
Рылом в траву, шевеля щетиной,
На водопой, по нарывам кочек,
Он продвигался – обломок ночи,
Не замечая, как на востоке
Мокрой зари проступают соки;
Как над стеной камышовых щеток
Утро восходит из птичьих глоток;
Как в очерете, тайно и сладко,
Ноет болотная лихорадка…
. . . . . . . .
Время пришло стволам вороненым
Правду свою показать затонам,
Время настало в клыкастый камень
Грянуть свинцовыми кругляками.
. . . . . . . . .
А между тем по его щетине
Солнце легло, как багровый иней, —
Солнце, распухшее, водяное,
Встало над каменною спиною.
Так и стоял он в огнях без счета,
Памятником, что воздвигли болота.
Памятник – только вздыхает глухо
Да поворачивается ухо…
Я говорю с ним понятной речью:
Самою крупною картечью.
Раз!
Только ухом повел – и разом
Грудью мотнулся и дрогнул глазом.
Два!
Закружились камыш с кугою,
Ахнул зыбун под его ногою…
В солнце, встающее над трясиной,
Он устремился, горя щетиной.
Медью налитый, с кривой губою,
Он, убегая, храпел трубою.
Вплавь по воде, вперебежку сушей,
В самое пекло вливаясь тушей, —
Он улетал, уплывал в туманы,
В княжество солнца, в дневные страны.
А с челнока два пустых патрона
Кинул я в черный тайник затона.
2 День
Жадное солнце вставало дыбом,
Жабры сушило в полоях рыбам;
В жарком песке у речных излучий
Разогревало яйца гадючьи;
Сыпало уголь в берлогу волчью,
Птиц умывало горючей желчью;
И, расправляя перо и жало,
Мокрая нечисть солнце встречала.
. . . . . . . . .
Тропка в трясине, в лесу просека
Ждали пришествия человека.
. . . . . . . . .
Он надвигался, плечистый, рыжий,
Весь обдаваемый медной жижей.
Он надвигался – и под ногами
Брызгало и дробилось пламя.
И отливало пудовым зноем
Ружье за каменною спиною.
Через овраги и буераки
Прыгали огненные собаки.
В сумерки, где над травой зыбучей
Зверь надвигался косматой тучей,
Где в камышах, в земноводной прели,
Сердце стучало в огромном теле.
И по ноздрям всё чаще и чаще
Воздух врывался струей свистящей.
Через болотную гниль и одурь
Передвигалась башки колода
Кряжистым лбом, что порос щетиной,
В солнце, встающее над трясиной.
Мутью налитый болотяною,
Черный, истыканный сединою, —
Вот он и вылез над зыбунами
Перед убийцей, одетый в пламя.
И на него, просверкав во мраке,
Ринулись огненные собаки.
Задом в кочкарник упершись твердо,
Зверь превратился в крутую морду,
Тело исчезло, и ребра сжались,
Только глаза да клыки остались,
Только собаки перед клыками
Вертятся огненными языками.
«Побереги!» – и, взлетая криво,
Псы низвергаются на загривок.
И закачалось и загудело
В огненных пьявках черное тело.
Каждая быстрая капля крози,
Каждая кость теперь наготове.
Пот оседает на травы ржою,
Едкие слюни текут вожжою.
Дыбом клыки, и дыханье суше, —
Только бы дернуться ржавой туше…
Дернулась!
И, как листье сухое,
Псы облетают, скребясь и воя.
И перед зверем открылись крýгом
Медные рощи и топь за лугом.
И, обдаваемый красной жижей,
Прямо под солнцем убийца рыжий.
И побежал, ветерком катимый,
Громкий сухой одуванчик дыма.
В брюхо клыком – не найдешь дороги,
Двинулся – но подвернулись ноги,
И заскулил, и упал, и вольно
Грянула псиная колокольня:
И над косматыми тростниками
Вырос убийца, одетый в пламя…
1927
Раскуренный дочиста коробок,
Окурки под лампою шаткой.
Он гость – я хозяин. Плывет в уголок
Студеная лодка-кроватка.
– Довольно! Пред нами другие пути,
Другая повадка и хватка! —
Но гость не встает. Он не хочет уйти;
Он пальцами, чище слоновой кости,
Терзает и вертит перчатку…
Столетняя палка застыла в углу,
Столетний цилиндр вверх дном на полу,
Вихры над веснушками взреяли, —
Из гроба, с обложки ли от папирос —
Он в кресла влетел и к пружинам прирос,
Перчатку терзая, – Рылеев…
– Ты наш навсегда! Мы повсюду с тобой,
Взгляни! —
И рукой на окно:
Голубой
Сад ерзал костями пустыми,
Сад в ночь подымал допотопный костяк,
Вдыхая луну, от бронхита свистя,
Шепча непонятное имя…
– Содружество наше навек заодно! —
Из пруда, прижатого к иве,
Из круглой смородины лезет в окно
Промокший Каховского кивер…
Поручик! Он рвет каблуками траву,
Он бредит убийством и родиной,
Приклеилась к рыжему рукаву
Лягушечья лапка смородины…
Вы тени от лампы!
Вы мокрая дрожь
Деревьев под звездами робкими…
Меня разговорами не проведешь,
Портрет с папиросной коробки…
Я выключил свет – и видения прочь!
На стекла, с предательской ленью,
В гербах и султанах надвинулась ночь,
Ночь Третьего отделенья…
Пять сосен тогда выступают вперед,
Пять виселиц, скрытых вначале;
И сизая плесень блестит и течет
По мокрой и мыльной мочале…
В калитку врывается ветер шальной,
Отчаянный и бесприютный, —
И ветви над крышей и надо мной
Заносятся, как шпицрутены…
Крылатые ставни колотятся в дом,
Скрежещут зубами шарниров,
Как выкрик:
«Четвертая рота – кругом!» —
Упрятанных в ночь командиров…
И я пробегаю сквозь строй без конца
В поляны, в леса, в бездорожья…
…И каждая палка хочет мясца,
И каждая палка пляшет по коже…
В ослиную шкуру стучит кантонист
(Иль ставни хрипят в отдаленье?)…
А ночь за окном как шпицрутенов свист,
Как Третье отделенье,
Как сосен качанье, как флюгера вой…
И вдруг поворачивается ключ световой.
Безвредною синькой покрылось окно,
Окурки под лампою шаткой.
В пустой уголок, где от печки темно,
Как лодка, вплывает кроватка…
И я подхожу к ней под гомон и лай
Собак, зараженных бессонницей:
– Вставай же, Всеволод, и всем володай,
Вставай под осеннее солнце!
Я знаю: ты с чистою кровью рожден,
Ты встал на пороге веселых времен!
Прими ж завещанье:
Когда я уйду
От песен, от ветра, от родины —
Ты начисто выруби сосны в саду,
Ты выкорчуй куст смородины!
1927
Победители
Происхождение
Я не запомнил – на каком ночлеге
Пробрал меня грядущей жизни зуд.
Качнулся мир.
Звезда споткнулась в беге
И заплескалась в голубом тазу.
Я к ней тянулся… Но, сквозь пальцы рея,
Она рванулась – краснобокий язь.
Над колыбелью ржавые евреи
Косых бород скрестили лезвия.
И всё навыворот.
Всё как не надо.
Стучал сазан в оконное стекло;
Конь щебетал; в ладони ястреб падал;
Плясало дерево.
И детство шло.
Его опресноками иссушали.
Его свечой пытались обмануть.
К нему в упор придвинули скрижали,
Врата, которые не распахнуть.
Еврейские павлины на обивке,
Еврейские скисающие сливки,
Костыль отца и матери чепец —
Всё бормотало мне:
«Подлец! Подлец!»
И только ночью, только на подушке
Мой мир не рассекала борода;
И медленно, как медные полушки,
Из крана в кухне падала вода.
Сворачивалась. Набегала тучей.
Струистое точила лезвие…
– Ну как, скажи, поверит в мир текучий
Еврейское неверие мое?
Меня учили: крыша – это крыша.
Груб табурет. Убит подошвой пол,
Ты должен видеть, понимать и слышать,
На мир облокотиться, как на стол.
А древоточца часовая точность
Уже долбит подпорок бытие.
…Ну как, скажи, поверит в эту прочность
Еврейское неверие мое?
Любовь?
Но съеденные вшами косы;
Ключица, выпирающая косо;
Прыщи; обмазанный селедкой рот
Да шеи лошадиный поворот.
Родители?
Но в сумраке старея,
Горбаты, узловаты и дики,
В меня кидают ржавые евреи
Обросшие щетиной кулаки.
Дверь! Настежь дверь!
Качается снаружи
Обглоданная звездами листва,
Дымится месяц посредине лужи,
Грач вопиет, не помнящий родства.
И вся любовь,
Бегущая навстречу,
И всё кликушество
Моих отцов,
И все светила,
Строящие вечер,
И все деревья,
Рвущие лицо, —
Всё это встало поперек дороги,
Больными бронхами свистя в груди:
– Отверженный! Возьми свой скарб убогий,
Проклятье и презренье!
Уходи! —
Я покидаю старую кровать:
– Уйти?
Уйду!
Тем лучше!
Наплевать!
1930
Cyprinus caprio[1]1Карп, сазан (лат.).
[Закрыть]
После дождей на Зеленом озере потоп. Рыбоводная станция залита водой. Рыбовод и рабочие заболели. Мальки ценных пород в опасности.
Письмо рабкора
Закованный в бронзу с боков,
Он плыл в темноте колеи,
Мигая в лесах тростников
Копейками чешуи.
Зеленый огонь на щеке,
Обвисли косые усы,
Зрачок в золотом ободке
Вращается, как на оси.
Он плыл, огибая пруды,
Сражаясь с безумным ручьем,
Поборник проточной воды —
Он пойман и приручен.
Лягушника легкий кружок
Откинув усатой губой,
Плывет на знакомый рожок
За крошками в полдень и зной.
Он бросил студеную глубь,
Кустарник, звезду на зыбях,
С пушистой петрушкой в зубах,
Дымясь, проплывая к столу.
Настали времена, чтоб оде
Потолковать о рыбоводе.
Пруды он продвинул болотам в тыл,
Советский водяной.
Самцов он молоками налил
И самок набил икрой.
Жуки на березах.
Туман. Жара.
На журавлей урожай.
Он пробует воду:
«Теперь пора!
Плывите и размножайтесь!»
(Ворот скрипит: стопорит ржа;
Шлюзы разъезжаются визжа.)
Тогда запевает во все концы
Вода, наступая упрямо,
И в свадебной злости
Плывут самцы
На стадо беременных самок…
О ты – человек такой же, как я,
Болезненный и небритый,
Которому жить не дает семья,
Пеленки, тарелки, плиты,
Ты сделался нынче самим собой —
Начальник столпотворенья.
Выходят самцы на бесшумный бой.
На бой за оплодотворенье.
Распахнуты жабры;
Плавник зубчат;
Обложены медью спины…
В любви молчат.
В смерти молчат.
Молча падают в тину.
Идет молчаливая игра;
Подкрадыванье и пляски.
…И звездами от взмаха пера
Взлетает и путается икра
В зеленой и клейкой ряске.
Тогда, закурив, говорит рыбовод:
«Довольно сражаться! Получен приплод!»
Он трудится не покладая рук,
Сачком выгребая икру.
Он видит, как в студне точка растет:
Жабры, глаза и рот.
Он видит, как начинается рост;
Как возникает хвост;
Как первым движением плывет малек
На водяной цветок.
И эта крупинка любви дневной,
Этот скупой осколок
В потемки кровей, в допотопный строй
Вводит тебя, ихтиолог.
Над жирными водами встал туман,
Звезда над кустом косматым —
И этот малек, как левиафан,
Плывет по морским закатам.
И первые ветры, и первый прибой,
И первые звезды над головой.
До ближней деревни пятнадцать верст,
До ближней станции тридцать…
Утиные стойбища (гнойный ворс).
От комарья не укрыться.
Голодные щуки жрут мальков,
Линяет кустарник хилый,
Болотная жижа промежду швов
Въедается в бахилы.
Ползет на пруды с кормовых болот
Душительница-тина,
В расстроенных бронхах
Бронхит поет,
В ушах завывает хина.
Рабочий в жару.
Помощник пьян.
В рыборазводне холод.
По заболоченным полям
Рассыпалась рыбья молодь.
«На помощь!» —
Летит телеграфный зуд
Сквозь морок болот и тленье,
Но филином гукает УЗУ
Над ящиком заявлений.
Из черной куги,
Из прокисших вод
Луна вылезает дыбом.
…Луной открывается ночь. Плывет
Чудовищная Главрыба.
Крылатый плавник и сазаний хвост;
Шальных рыбоводов ересь.
И тысячи студенистых звезд
Ее небывалый нерест.
О, сколько ножей и сколько багров
Ее ударят под ребро!
В каких витринах, под звон и вой,
Она повиснет вниз головой?
Ее окружает зеленый лед,
Над ней огонек белесый.
Перед ней остановится рыбовод,
Пожевывая папиросу.
И в улиц булыжное бытие
Она проплывет в тумане.
Он вывел ее.
Он вскормил ее.
И отдал на растерзанье.
1928, 1929
Весна, ветеринар и я
Над вывеской лечебницы синий пар.
Щупает корову ветеринар.
Марганцем окрашенная рука
Обхаживает вымя и репицы плеть,
Нынче корове из-под быка
Мычать и, вытягиваясь, млеть.
Расчищен лопатами брачный круг,
Венчальную песню поет скворец,
Знаки Зодиака сошли на луг:
Рыбы в пруду и в траве Телец.
(Вселенная в мокрых ветках
Топорщится в небеса.
Шаманит в сырых беседках
Оранжевая оса,
И жаворонки в клетках
Пробуют голоса.)
Над вывеской лечебницы синий пар.
Умывает руки ветеринар.
Топот за воротами.
Поглядим.
И вот, выпячивая бока,
Коровы плывут, как пятнистый дым,
Пропитанный сыростью молока.
И памятью о кормовых лугах
Роса, как бубенчики, на рогах,
Из-под мерных ног
Голубой угар.
О чем же ты думаешь, ветеринар?
На этих животных должно тебе
Теперь возложить ладони свои,
Благословляя покой, и бег,
И смерть, и мучительный вой любви.
(Апрельского мира челядь,
Ящерицы, жуки,
Они эту землю делят
На крохотные куски;
Ах, мальчики на качелях,
Как вздрагивают суки!)
Над вывеской лечебницы синий пар…
Я здесь! Я около! Ветеринар!
Как совесть твоя, я встал над тобой,
Как смерть, обхожу твои страдные дни!
Надрывайся!
Работай!
Ругайся с женой!
Напивайся!
Но только не измени…
Видишь: падает в крынки парная звезда.
Мир лежит без межей,
Разутюжен и чист.
Обрастает зеленым,
Блестит, как вода,
Как промытый дождями
Кленовый лист.
Он здесь! Он трепещет невдалеке!
Ухвати и, как птицу, сожми в руке!
Звезда стоит на пороге —
Не испугай ее!
Овраги, леса, дороги:
Неведомое житье!
Звезда стоит на пороге —
Смотри – не вспугни ее!;
Над вывеской лечебницы синий пар.
Мне издали кланяется ветеринар.
Скворец распинается на шесте.
Земля – как из бани. И ветра нет.
Над мелкими птицами
В пустоте
Постукиванье булыжных планет.
И гуси летят к водяной стране;
И в город уходят служителя5,
С громадными звездами наедине
Семенем истекает земля.
(Вставай же, дитя работы,
Взволнованный и босой,
Чтоб взять этот мир, как соты,
Обрызганные росой.
Ах! Вешних солнц повороты,
Морей молодой прибой.)
1930
Стихи о себе1 Дом
Хотя бы потому, что потрясен ветрами
Мой дом от половиц до потолка;
И старая сосна трет по оконной раме
Куском селедочного костяка;
И глохнет самовар, и запевают вещи,
И женщиной пропахла тишина,
И над кроватью кружится и плещет
Дымок ребяческого сна,
Мне хочется шагнуть через порог знакомый
В звероподобные кусты,
Где ветер осени, шурша снопом соломы,
Взрывает ржавые листы,
Где дождь пронзительный (как леденеют щеки!),
Где гнойники на сваленных стволах,
И ронжи скрежет и отзыв далекий
Гусиных стойбищ на лугах…
И всё болотное, ночное, колдовское,
Проклятое – всё лезет на меня:
Кустом морошки, вкусом зверобоя,
Дымком ночлежного огня,
Мглой зыбунов, где не расслышишь шага.
…И вдруг – ладонью по лицу —
Реки расхристанная влага,
И в небе лебединый цуг.
Хотя бы потому, что туловища сосен
Стоят, как прадедов ряды,
Хотя бы потому, что мне в ночах несносен
Огонь олонецкой звезды, —
Мне хочется шагнуть через порог знакомый
(С дороги, беспризорная сосна!)
В распахнутую дверь,
В добротный запах дома,
В дымок младенческого сна…
2 Читатель в моем представлении
Во первых строках
Моего письма
Путь открывается
Длинный, как тесьма.
Вот, строки раскидывая,
Лезет на меня
Драконоподобная
Морда коня.
Вот скачет по равнине,
Довольный собой,
Молодой гидрограф —
Читатель мой.
Он опережает
Овечий гурт,
Его подстерегает
Каракурт,
Его сопровождает
Шакалий плач,
И пулю посылает
Ему басмач.
Но скачет по равнине,
Довольный собой,
Молодой гидрограф —
Читатель мой.
Он тянет из кармана
Сухой урюк,
Он курит папиросы,
Что я курю;
Как я – он любопытен:
В траве степей
Выслеживает тропы
Зверей и змей.
Полдень придет —
Он слезет с коня,
Добрым словом
Вспомнит меня;
Сдвинет картуз
И зевнет слегка,
Книжку мою
Возьмет из мешка;
Прочтет стишок,
Оторвет листок,
Скинет пояс —
И под кусток.
Чего ж мне надо!
Мгновенье, стой!
Да здравствует гидрограф —
Читатель мой!
3 Так будет
Черт знает где,
На станции ночной.
Читатель мой,
Ты встретишься со мной.
Сутуловат,
Обветрен,
Запылен,
А мне казалось,
Что моложе он…
И скажет он,
Стряхая пыль травы:
«А мне казалось,
Что моложе вы!»
Так, вытерев ладони о штаны,
Встречаются работники страны.
У коновязи
Конь его храпит,
За сотни верст
Мой самовар кипит, —
И этот вечер,
Встреченный в пути,
Нам с глазу на глаз
Трудно провести.
Рассядемся,
Начнем табак курить.
Как невозможно
Нам заговорить.
Но вот по взгляду,
По движенью рук
Я в нем охотника
Признаю вдруг —
И я скажу:
«Уже на реках лед,
Как запоздал
Утиный перелет».
И скажет он,
Не подымая глаз:
«Нет времени
Охотиться сейчас!»
И замолчит.
И только смутный взор
Глухонемой продолжит разговор,
Пока за дверью
Не затрубит конь,
Пока из лампы
Не уйдет огонь,
Пока часы
Не скажут, как всегда:
«Довольно бреда,
Время для труда!»
1929
Встреча
Меня еда арканом окружила,
Она встает эпической угрозой,
И круг ее неразрушим и страшен,
Испарина подернула ее…
И в этот день в Одессе на базаре
Я заблудился в грудах помидоров,
Я средь арбузов не нашел дороги,
Черешни завели меня в тупик,
Меня стена творожная обстала,
Стекая сывороткой на булыжник,
И ноздреватые обрывы сыра
Грозят меня обвалом раздавить.
Еще – на градус выше – и ударит
Из бочек масло раскаленной жижей
И, набухая желтыми прыщами,
Обдаст каменья – и зальет меня.
И синемордая тупая брюква,
И крысья, узкорылая морковь,
Капуста в буклях, репа, над которой
Султаном подымается ботва,
Вокруг меня, кругом, неумолимо
Навалены в корзины и телеги,
Раскиданы по грязи и мешкам.
И как вожди съедобных батальонов.
Как памятники пьянству и обжорству,
Обмазанные сукровицей солнца,
Поставлены хозяева еды.
И я один среди враждебной стаи
Людей, забронированных едою,
Потеющих под солнцем Хаджи-бея
Чистейшим жиром, жарким, как смола.
И я мечусь средь животов огромных,
Среди грудей, округлых, как бочонки,
Среди зрачков, в которых отразились
Капуста, брюква, репа и морковь.
Я одинок. Одесское, густое,
Большое солнце надо мною встало,
Вгоняя в землю, в травы и телеги
Колючие отвесные лучи.
И я свищу в отчаянье, и песня
В три россыпи и в два удара вьется
Бездомным жаворонком над толпой.
И вдруг петух, неистовый и звонкий,
Мне отвечает из-за груды пищи,
Петух – неисправимый горлопан,
Орущий в дни восстаний и сражений.
Оглядываюсь – это он, конечно,
Мой старый друг, мой Ламме, мой товарищ,
Он здесь, он выведет меня отсюда
К моим давно потерянным друзьям!
Он толще всех, он больше всех потеет;
Промокла полосатая рубаха,
И брюхо, выпирающее грозно,
Колышется над пыльной мостовой.
Его лицо, багровое, как солнце,
Расцвечено румянами духовки,
И молодость древнейшая играет
На неумело выбритых щеках.
Мой старый друг, мой неуклюжий Ламме,
Ты так же толст и так же беззаботен,
И тот же подбородок четверной
Твое лицо, как прежде, украшает.
Мы переходим рыночную площадь,
Мы огибаем рыбные ряды,
Мы к погребу идем, где на дверях
Отбита надпись кистью и линейкой:
«Пивная госзаводов Пищетрест».
Так мы сидим над мраморным квадратом,
Над пивом и над раками – и каждый
Пунцовый рак, как рыцарь в красных латах,
Как Дон-Кихот, бессилен и усат.
Я говорю, я жалуюсь. А Ламме
Качает головой, выламывает
Клешни у рака, чмокает губами,
Прихлебывает пиво и глядит
В окно, где проплывает по стеклу
Одесское просоленное солнце,
И ветер с моря подымает мусор
И столбики кружит по мостовой.
Всё выпито, всё съедено. На блюде
Лежит опустошенная броня
И кардинальская тиара рака.
И Ламме говорит: «Давно пора
С тобой потолковать! Ты ослабел,
И желчь твоя разлилась от безделья,
И взгляд гвой мрачен, и язык остер.
Ты ищешь нас, – а мы везде и всюду,
Нас множество, мы бродим по лесам,
Мы направляем лошадь селянина,
Мы раздуваем в кузницах горнило,
Мы с школярами заодно зубрим.
Нас много, мы раскиданы повсюду,
И если не певцу, кому ж еще
Рассказывать о радости минувшей
И к радости грядущей призывать?
Пока плывет над этой мостовой
Тяжелое просоленное солнце,
Пока вода прохладна по утрам,
И кровь свежа, и птицы не умолкли, —
Тиль Уленшпигель бродит по земле».
И вдруг за дверью раздается свист
И россыпь жаворонка полевого.
И Ламме опрокидывает стол,
Вытягивает шею – и протяжно
Выкрикивает песню петуха.
И дверь приотворяется слегка,
Лицо выглядывает молодое,
Покрытое веснушками, и губы
В улыбку раздвигаются, и нас
Оглядывают с хитрою усмешкой
Лукавые и ясные глаза.
. . . . . . . . .
Я Тиля Уленшпигеля пою!
1923, 1928
Можайское шоссе(Автобус)
В тучу, в гулкие потемки,
Губы выкатил рожок,
С губ свисает на тесемке
Звука сдавленный кружок.
Оборвется, пропыленный, —
И покатится дрожа
На Поклонную, с Поклонной,
Выше. Выше. На Можайск.
Выше. Круглый и неловкий,
Он стремится наугад,
У случайной остановки
Покачнется – и назад.
Через лужи, через озимь,
Прорезиненный, живой,
Обрастающий навозом,
Бабочками и травой —
Он летит, грозы предтеча,
В деревенском блеске бус,
Он кусты и звезды мечет
В одичалый автобус;
Он хрипит неудержимо
(Захлебнулся сгоряча!),
Он обдаст гремучим дымом
Вороненого грача.
Молния ударит мимо
Переплетом калача.
Матершинничает всуе,
Ввинчивает в пыль кусты,
Я за приступ голосую!
Я за взятие! А ты?
И выносит нас кривая,
Раскачнувшись широко!
Над шофером шаровая
Молния, как яблоко.
Всё открыто и промыто,
Камни в звездах и росе,
Извиваясь, в тучи влито
Дыбом вставшее шоссе.
Над последним косогором
Никого.
Лишь он один —
Тот аквариум, в котором
Люди, воздух и бензин.
И, взывая, как оратор,
В сорок лошадиных сил,
Входит равным радиатор
В сочетание светил.
За стеклом орбиты, хорды,
И, пригнувшись, сед и сер,
Кривобокий, косомордый,
Давит молнию шофер.
1928