Текст книги "Последние дни Помпей. Пелэм, или Приключения джентльмена"
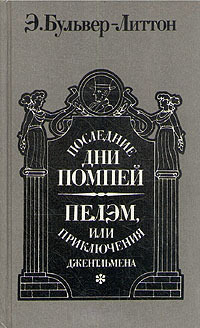
Автор книги: Эдвард Бульвер-Литтон
Жанр: Исторические любовные романы, Любовные романы
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 48 (всего у книги 60 страниц) [доступный отрывок для чтения: 20 страниц]
– Мне нравится, – сказал Кларендон, – энтузиазм, черпающий утешение в столь благородном источнике. Но не кажется ли вам, что тщеславие – не менее могущественный двигатель, чем любовь к человечеству? Разве не стремление блистать перед людьми побуждает нас усердствовать во всем, что этому способствует? А раз подобное чувство может творить, то разве оно не в состоянии укреплять силы? Я имею в виду следующее: раз вы допускаете, что желание блистать, ослеплять, наслаждаться славословиями – не редкая побудительная причина к тому, чтобы начать какое-нибудь великое дело, то и уверенность обрести в будущем награду за подобное желание сама по себе есть уже большая награда. Допустим, например, что именно такое стремление привело к созданию «Потерянного рая», разве мы вправе тогда отрицать, что оно же могло поддерживать поэта в его несчастьях? Или вы полагаете, что он больше думал об удовольствии, которое его поэма доставит потомству, чем о хвалах, которые потомство станет расточать его поэме? Цицерона мы все считаем великим патриотом и человеколюбцем, но ведь оставил же он нам самые чистосердечные признания такого рода! Теперь, когда мы знаем, что и побудительной причиной и желанной наградой было для него тщеславие, разве нам не дано право распространить также и на других то, что мы по поводу него узнали о человеческой природе? Что до меня, я не хотел бы задумываться над тем, как велика была доля тщеславия в возвышенном патриотизме Сиднея и непоколебимости Катонова духа.
Гленвил одобрительно кивнул головой.
– Но, – иронически заметил я, – почему же вы так немилостивы к этому злосчастному и всеми порицаемому чувству, раз никто из вас не отрицает, что оно дает начало великим и благотворным деяниям? Зачем клеймить тщеславие как порок, когда оно порождает столько доблести или во всяком случае содействует ее порождению? Меня удивляет, почему древние не воздвигали ему самых великолепных храмов. Quant á moi, отныне я стану говорить о нем только как о primum mobile[757]757
Первоначальном побуждении (лат.).
[Закрыть] всего вызывающего в нас уважение и восхищение и буду считать, что делаю человеку величайший комплимент, объявляя его до крайности тщеславным!
– Я готов с вами согласиться, – смеясь, воскликнул Винсент. – В других мы не одобряем тщеславия лишь потому, что оно наносит ущерб нашему собственному. Из всех человеческих страстей (если сейчас я позволю себе назвать его так) эта – самая нескромная: оно все время выбалтывает свою тайну. Умей оно помалкивать, его принимали бы в обществе так же любезно, как любого другого незваного гостя, если он хорошо одет и хорошо воспитан. Но за болтливость его все презирают. Однако, говоря по правде, надо признать, что тщеславие само по себе ни порок, ни добродетель, так же как, например, этот нож сам по себе ни опасен, ни полезен. То или иное качество придает им человек, которому они служат. Так, например, великий ум стремится блистать или проявляет тщеславие в великих деяниях, легковесный – в пустяках и так далее, в зависимости от многоразличия человеческих умов. Но я не могу согласиться с мистером Кларендоном, что мое восхищение Олджерноном Сиднеем (Катоном я никогда не восхищался) должно хоть сколько-нибудь уменьшиться, если я обнаружу, что его сопротивление тирании, пусть даже в немалой степени, происходило от тщеславия или что это же тщеславие утешало его, когда он пал жертвой своего сопротивления тирании. Ибо здесь мы найдем всего-навсего доказательство того, что среди множества чувств, обуревавших его душу, – возмущения угнетением (обычного для всех людей), восторженной любви к свободе (возобладавшей в нем над всеми прочими чувствами), желания облагодетельствовать других, благородной гордости от сознания, что и умирая он остается верен себе, – что среди всего этого и среди множества иных чувств, столь же достойных и чистых, имелось и еще одно, может быть, тоже достаточно могучее, – желание, чтобы жизнь его и смерть получили у потомства справедливую оценку. Пренебрежение мнением людей есть презрение к добродетели. Нельзя считать пороком тщеславие, состоящее в стремлении получить от благородных людей одобрение своим благородным делам: «заслужив уважение у самого себя, – говорит величайший из римских философов, – ты проявишь добродетель, стремясь к тому, чтобы тебя уважали другие».
– Подчеркивая слово уважение, – заметила леди Розвил, – вы, я полагаю, придаете ему особое значение?
– Да, – ответил Винсент. – Я употребляю его для того, чтобы противопоставить восхищению. Всеобщее восхищение может вызвать и дурной поступок (ибо многие дурные дела сопровождаются звоном, благодаря которому они сходят за настоящее золото), но всеобщее уважение может заслужить только доброе дело.
– А нельзя ли, – скромно заметила Эллен, – сделать из этого противопоставления вывод, который очень поможет нам в оценке тщеславия: не вправе ли мы рассудить, что тщеславие, стремящееся только к тому, чтобы завоевать уважение других, это всегда добродетель, а тщеславие, ставящее себе целью всеобщее восхищение, очень часто является пороком?
– Ваш вывод можно принять, – сказал Винсент. – Но прежде чем оставить эту тему, я хотел бы отметить, как нелепа точка зрения поверхностных людей, считающих, что философы, изучая человеческие побуждения, стремятся опорочить поступки людей. Привлечь наше внимание к наиболее существенному вовсе не означает отнять у нас возможность восхищаться чем-либо. И, однако, как раздражаются неосмысленно-восторженные люди, когда мы обнаруживаем реальные чувства там, где ожидались выспренние! Так, сторонники учения о пользе – самой доброжелательной, ибо самой снисходительной философии, – клеймятся как себялюбцы и корыстолюбцы, хулители нравственного совершенства, не верящие в бескорыстное деяние. Самые лучшие друзья порока – это предрассудки, именующие себя добродетелью. Le pretexte ordinaire de ceux qui font le malheur des autres est qu'ils veulent leur bien[758]758
Чаще всего люди делают других несчастными именно под тем предлогом, что желали им добра (фр.).
[Закрыть].
Когда Винсент умолк, взгляд мой случайно упал на Гленвила. Он поднял глаза и слегка покраснел, когда они встретились с моими. Но он не отвел взгляда: упорно, пристально смотрели мы друг на друга, пока Эллен, внезапно обернувшись, не заметила странного выражения наших глаз и не положила, словно охваченная каким-то страхом, свою руку на руку брата.
Было уже поздно. Он встал, собираясь уходить, и, пройдя мимо меня, тихо сказал:
– Еще немного, и ты узнаешь все.
Я не ответил, и он вместе с Эллен вышел из комнаты.
– Боюсь, что леди Розвил провела очень скучный вечер, выслушивая наши нелепые разговоры и примеры из древних времен, – сказал Винсент.
Взгляд той, к кому он обращался, был неотрывно устремлен на дверь. Я стоял подле нее. Когда слова Винсента дошли до ее слуха, она внезапно повернулась; на руку мне упала слеза. Она заметила это, и, хотя я нарочно не смотрел ей в лицо, я увидел, что даже шея у нее покраснела. Но и поддавшись чувству, она, подобно мне, слишком многому научилась в свете, чтобы легко потерять самообладание. Она шутливо побранила Винсента за его недоброе мнение о нас всех и попрощалась с нами, любезная, как всегда, и притворяясь более веселой, чем обычно.
Глава LXIV
Ах, сэр, если бы я приложил к изучению какого-нибудь полезного дела хоть половину того усердия, с которым обучался быть мошенником, то был бы теперь богачом. Но хоть я отъявленный негодяй, я все же могу оказаться вам другом, и, может быть, как раз тогда, когда вы меньше всего будете этого ожидать.
«Векфилдский священник»
Среди всех волнений, связанных с неопределенностью моих политических расчетов, в том постоянном водовороте, в котором я жил, и прежде всего от неблагоприятных для моей belle passion[759]759
Страстной любви (фр.).
[Закрыть] обстоятельств, здоровье мое опять сдало: я потерял аппетит, утратил сон, под левым глазом у меня залегла глубокая морщинка, и матушка заявила мне, что таким я ни у какой богатой наследницы успеха иметь не буду. Все это вместе взятое возымело свое действие, и однажды утром я отправился в Хэмптон-корт подышать деревенским воздухом. Порою бывает очень приятно повернуться спиной к большому городу именно тогда, когда там самый разгар веселья. На короткое время мизантропия – если она продолжается недолго – просто пленительное чувство: вдыхаешь полной грудью сельскую жизнь и поносишь городскую, ощущая при этом некое меланхолическое удовлетворение. Я обосновался в хорошеньком маленьком домике на расстоянии мили от города. Из окна гостиной я мог упиваться роскошным зрелищем, созерцая трех свиней, одну корову и солому под навесом. До Темзы можно было добраться за пять минут напрямик по тропке мимо печи для обжига извести. Не часто мы получаем сразу столько приятных возможностей наслаждаться красотами природы, поэтому можете быть уверены, что я извлек из них все. Я вставал рано, гулял перед завтраком pour ma santé[760]760
Для здоровья (фр.).
[Закрыть] и возвращался домой с основательной головной болью pour mes peines[761]761
За мои труды (фр.).
[Закрыть]. Я читал часа три, гулял еще два и до обеда думал об Эбернети, диспепсии, синих пилюлях, совершенно забыв о лорде Доутоне, честолюбивых мечтаниях, Гьюлостоне, эпикурействе, да обо всем, кроме… конечно, читатель догадывается, кого я намереваюсь исключить, – кроме властительницы моего сердца.
В один прекрасный день, когда все кругом сияло и смеялось, я отбросил книгу на час раньше обычного и вышел на прогулку такой легкой походкой и в таком восхитительном настроении, каких у меня давно уже не было. Едва успел я перескочить через невысокий забор и очутиться на одной из тех зеленеющих затененных тропинок, которые заставляют нас верить старым поэтам, любившим природу и жившим ради нее, когда они именуют наш остров «веселой Англией», – как меня поразил раздавшийся за изгородью короткий и громкий лай. Я резко обернулся и увидел сидящего на траве человека, по всей видимости – коробейника. Перед ним лежал открытый ящик с товарами: кругом валялись несколько штук белья, женское платье, а торговец, казалось, был всецело погружен в осмотр самых потайных закоулков своего переносного магазина. Небольшой черный терьер бросился ко мне с явно недружелюбным рычаньем.
– Стой, – произнес я, – не все чужие – враги, хотя большей частью англичане думают именно так.
Сидевший на земле человек тотчас же поднял глаза. Может быть, его поразило мое не совсем обычное обращение к его спутнику собачьей породы, ибо, учтиво дотронувшись до шляпы, он сказал:
– Собака, сэр, совсем не злая: она хотела испугать вас только для того, чтобы предупредить меня о вашем появлении. Ибо псы, по-видимому, неплохо знают человеческую природы и отлично понимают, что даже самый лучший из нас может быть застигнут врасплох.
– Да вы моралист, – сказал я, в свою очередь немало удивленный подобной речью в устах подобного человека. – Я и не ожидал, что вдруг наткнусь на философа. Нет ли у вас в ящике подходящего для меня товара? Я был бы рад приобрести что-нибудь у продавца, столь глубоко рассуждающего о человеческой природе.
– Нет, сэр, – ответил предполагаемый коробейник, улыбаясь, но в то же время поспешно засовывая товары в ящик и тщательно запирая его на ключ. – Тут у меня добро, принадлежащее другим людям. Мне лично принадлежат только мои рассуждения, и я охотно продам их по назначенной вами самими цене.
– Вы, друг мой, человек откровенный, – заметил я, – и ваша прямота поистине неоценима в наш век, когда все обманывают друг друга, и в стране, где царит лицемерие.
– Ах, сэр! – возразил мой новый знакомый. – Вы я вижу, из тех людей, которые во всем склонны видеть дурное. Я же полагаю, что времени лучше нашего не бывало и страны добродетельней нашей в Европе нет.
– Поздравляю вас, мистер Оптимист, с подобными воззрениями, – произнес я. – Однако, судя по вашим замечаниям, вы не только путешественник, но и историк. Или я не прав?
– Что ж, – ответил человек с ящиком, – я кой-чего на своем веку почитал и, кроме того, немало побродил среди людей. Сейчас я только что вернулся из Германии и направляюсь в Лондон к друзьям. Я должен доставить туда этот ящик со всяким добром: дал бы мне бог благополучно выполнить поручение.
– Аминь, – произнес я. – Разрешите, помимо этого пожелания, снабдить вас кое-какой мелочью и пожелать вам доброго пути.
– Тысяча благодарностей, сэр, и за то и за другое, – ответил он. – Но присовокупите уж к вашим благодеяниям и еще одно – скажите, как мне добраться до города***.
– Я сам иду в том же направлении; если вы соблаговолите пройти со мною часть дороги, то могу вас заверить, что в дальнейшем вы с пути не собьетесь.
– Слишком много чести для меня! – ответил человек с ящиком, вставая и перекидывая через плечо свою ношу. – Редко джентльмен вашего звания соизволит хоть три шага пройти рядом с джентльменом моего. Вы улыбаетесь, сэр. Может быть, вы считаете, что я не должен был бы причислять себя к джентльменам. Однако у меня на это не меньше права, чем у большинства лиц вашего сословия. Я не занимаюсь никаким делом, не имею никакой профессии: бреду, куда захочется, отдыхаю, где мне заблагорассудится. Словом, единственное мое занятие – безделье, а единственный для меня закон – моя воля. Ну, как, сэр, – разве я не могу назваться джентльменом?
– Разумеется! – изрек я. – Вы, как я погляжу, нечто среднее между отставным капитаном и цыганским королем.
– Вы попали в самую точку, сэр, – ответил мой спутник с легким смешком.
Теперь он шел бок о бок со мной, и я имел полную возможность разглядеть его более внимательно. Это был довольно крепко сложенный человек среднего роста, около тридцати восьми лет, одетый в темно-синий длиннополый сюртук, не слишком новый, но и не обтрепанный, а попросту плохо сшитый, слишком просторный и длинный для нынешнего своего владельца. Под сюртуком виднелся изношенный бархатный жилет, который некогда, подобно одеянию персидского посла, «багрянцем пламенел и золотом сиял», теперь же его можно было бы не без выгоды сбыть на Монмаут-стрит за законную сумму в два шиллинга и девять пенсов; под жилетом была фуфайка из кашемировой ткани, как будто слишком новой по сравнению с прочей одеждой. Хотя нательная рубашка моего спутника не отличалась чистотой, мне показалась несколько подозрительной тонкость полотна, из которого она была сшита. Из-под потертого и обтрепанного черного галстука сверкала булавка с фальшивым, а может быть, и настоящим бриллиантом, словно глаз цыганки из-под черных ее кудрей.
Брюки у него были светло-серые и волею провидения или же портного являлись как бы справедливым возмездием за чрезмерную длину своего злополучного коллеги – сюртука, ибо, слишком узкие для прикрываемых ими мускулистых конечностей, они, не доходя до лодыжек, открывали взору мощные веллингтоновские сапоги, очень напоминавшие изображение Италии на географической карте.
Лицо у этого человека было самое обыкновенное, ничем не замечательное, такие ежедневно сотнями видишь на Флит-стрит или у Биржи: плосковатое, с мелкими, неправильными чертами. Но вторично посмотрев на это лицо, в выражении его легко было обнаружить нечто особенное, необычное, полностью искупавшее недостаток своеобразия в чертах. Правый глаз его смотрел не туда, куда левый, и косоглазие моего приятеля, когда он пристально вглядывался во что-нибудь, казалось устроенным с какой-то определенной целью, напоминая ирландские ружья, специально рассчитанные на то, чтобы стрелять из-за угла. Широкие косматые брови сильно смахивали на кустики куманики, в которых прятались хитрые, как у лисы, глаза. Вокруг каждой такой лисьей норы располагался целый лабиринт морщин, в просторечии именуемых гусиными лапками, и таких глубоких, изломанных, взаимопересекающихся, что их можно было сравнить с той зловещей паутиной, в которую у нас превращаются судебные дела. Как ни странно, все прочее в его лице было мелким и словно сглаженным: даже линии, идущие от ноздрей к уголкам рта, обычно уже резко обозначавшиеся в его возрасте, тут не были заметнее, чем у восемнадцатилетнего юноши.
Улыбка его светилась искренностью, голос звучал ясно и сердечно, в обращении не было ни малейшей принужденности, совсем как у людей более, казалось бы, высокого положения, чем его собственное, – он словно притязал на равенство с вами, будучи в то же время готовым оказать вам должное уважение. Однако, несмотря на все эти несомненно положительные черты, в его внимательно следящем за вами косом взгляде таились лукавство и хитрость а вокруг собирались эти подозрительные морщинки, так что я не мог испытывать полного доверия к моему спутнику, хотя вообще он мне нравился. И правда, он, пожалуй, был слишком уж прямодушен, непосредствен, слишком dégagé[762]762
Непринужден (фр.).
[Закрыть], чтобы казаться вполне естественным. Честные люди очень скоро на своем горьком опыте приучаются проявлять сдержанность. Мошенники общительны и ведут себя непринужденно, ибо доверчивость и прямодушие им ничего не стоят. Чтобы покончить с описанием моего нового приятеля, замечу еще, что в лице его было что-то, показавшееся мне не совсем незнакомым: это было одно из тех лиц, которые мы, хотя и не имели никакой возможности видеть раньше, тем не менее (может быть, как раз из-за их обыденности) узнаем, словно встречали их уже сотни раз.
Мы шли быстрым шагом, хотя день выдался жаркий. Воздух был так чист, трава такая зеленая, в сиянии полдня жужжало, трепетало, жило столько мельчайших существ, что все это не расслабляло, не вызывало истомы, а, наоборот, придавало бодрость и силу.
– Чудесная у нас страна, сэр, – сказал мой приятель с ящиком, – здесь как будто гуляешь по цветущему саду, а на континенте природа как-то суше и унылее. Чистым душам, сэр, в сельской местности хорошо. Что до меня, то я всегда готов воздавать хвалу господу, созерцая его творения, и, подобно долинам в псалме, петь и веселиться.
– Вы не только философ, – сказал я, – вы энтузиаст! Может быть (я считал это вполне возможным), я имею честь беседовать также и с поэтом?
– Что ж, сэр, – ответил он, – случалось мне и стихи писать. Словом, мало чего я в жизни не делал, ибо всегда питал склонность к разнообразию. Но не разрешит ли мне ваша милость высказать то же подозрение относительно вас? А вы-то сами не любимец муз?
– Не могу этого сказать, – молвил я. – Единственная во мне примечательная черта – здравый смысл, а ведь он, согласно общему мнению, антипод гения.
– Здравый смысл! – повторил мой спутник, с какой-то странной и многозначительной улыбкой подмигнув левым глазом. – Здравый смысл! Это у меня не самая сильная сторона, сэр. Вы, я полагаю, из тех джентльменов, которых не так-то легко провести или обмануть поступками или показным видом? Ну, а я-то всю жизнь попадался на удочку – меня и ребенок окрутит вокруг пальца! Я из самых легковерных людей на свете.
«Что-то он уж чересчур простодушен, – подумал я. – Он, безусловно, мошенник, но мне-то что? Ведь я его никогда больше не увижу». И, верный своей склонности никогда не упускать случая изучить новый для меня человеческий характер, я тут же заявил, что каждое такое знакомство считаю очень ценным, особенно если имею дело с представителем какой-нибудь профессии, и поэтому даже несколько огорчился, узнав, что мой спутник не имеет никакого определенного занятия.
– Да нет, сэр, – сказал он, – иногда я бываю при деле. Числюсь я торговцем подержанными вещами: покупаю у бедных графинь шали и носовые платки, перепродаю их богатым простолюдинам, снабжаю новобрачных бельем по более умеренным ценам, чем в лавках, и поставляю жениху драгоценности для подарка невесте со скидкой до сорока процентов. Если же мне не удается продать драгоценности, то я предлагаю посреднические услуги. Такой интересный молодой джентльмен, как ваша милость, уж наверно завел интрижку: если так, то вы можете рассчитывать и на мое ревностное содействие и на мою скромность. Словом, я незлобивый, доброжелательный человек; худого никому не сделаю и притом совершенно задаром, а если кто меня чем-нибудь ублажит, то охотно сделаю хорошее.
– Вполне одобряю ваши правила, – произнес я. – И если мне понадобится когда-нибудь посредник между мною и Венерой, то я обязательно обращусь к вам. А что, вы всегда занимались своей теперешней, не требующей особых усилий профессией или готовились к какой-нибудь другой?
– Я обучался на серебряных дел мастера, – ответил мой приятель, – но провидение судило иначе. С детства меня учили повторять «Отче наш». Небо услышало мои молитвы и избавило меня от лукавого, – ведь даже серебряная ложка такой соблазнительный предмет!
– Право же, – сказал я, – вы честнейший плут, какого я когда-либо видел, и вам можно доверить кошелек хотя бы за прямодушие, с которым вы признаете, что стащили бы его. А скажите, возможно ли, что я уже имел счастье встречаться с вами? Эта мысль неотвязно преследует меня, но так как я никогда не попадал в караулку или в Олд Бэйли, рассудок в то же время твердит мне, что я ошибаюсь.
– Нисколько, сэр, – возразил мой достойный собеседник, – я вас очень хорошо помню, ибо никогда не могу забыть такого лица, как ваше, если хоть раз увижу его. Однажды вечером я имел честь потягивать кое-какие отечественные напитки в одной комнате с вами: вы были в обществе моего приятеля мистера Гордона.
– А! – вскричал я. – Спасибо за то, что вы мне напомнили. Теперь я сам еще кое-что припоминаю: он сказал мне, что вы самый изобретательный джентльмен в Англии и обладаете счастливой склонностью принимать по ошибке чужую собственность за свою. Я бесконечно рад столь завидному знакомству.
Мой приятель, который действительно был не кто иной, как мистер Джоб Джонсон, изобразил на своем лице обычную для него сердечную улыбку, поклонился в знак полного со мною согласия и затем сказал:
– Не сомневайтесь, сэр, мистер Гордон дал вам самые верные сведения. Могу похвалиться, что немногие джентльмены владеют так же хорошо, как я, искусством присвоения; хотя и не подобает мне говорить так о самом себе – я заслуживаю приобретенную мною репутацию. Сэр, я всегда принужден был бороться со злой судьбой, и помогали мне в этом две добродетели – упорство и изобретательность. Чтобы дать вам верное представление о моих злоключениях, могу сообщить, что двадцать три раза меня задерживали по одному лишь подозрению. Чтобы вы могли убедиться в моем упорстве, знайте, что двадцать три раза меня задерживали за дело, а чтобы вы не сомневались в моей изобретательности, примите во внимание, что двадцать три раза меня выпускали на свободу ввиду совершенного отсутствия законных улик!
– Преклоняюсь перед вашими талантами, мистер Джонсон, – ответил я, – если вам благоугодно называться Джонсоном, хотя я полагаю, что, подобно языческим божествам, вы имеете множество имен, из коих некоторые ласкают слух ваш больше, нежели другие.
– Нет, – ответствовал обладатель двух добродетелей, – я отнюдь не стыжусь своего имени, да и ничего порочащего меня никогда не сделал. Я не вращался в обществе недостойных людей и не погрязал в распутстве; все, что я совершал как представитель своей профессии, делалось с подлинным искусством, артистически, а не грубо, по-ремесленному, как зачастую работают другие искатели приключений. Более того, у меня всегда был вкус к изящной литературе, и я даже поступил в подмастерья к одному издателю-книгопродавцу, с единственной целью – знакомиться с новыми произведениями до того, как они выйдут в свет. Наконец, я никогда не упускал возможности усовершенствоваться духовно, и самое худое, что про меня можно сказать, это то, что я твердо запомнил правила катехизиса и употреблял все усилия на то, чтобы как следует учиться и трудиться, зарабатывать себе на жизнь и исполнять долг свой на том поприще, для которого предназначен был волею провидения.
– Мне часто приходилось слышать, – ответил я, – что у воров есть своя честь, и я счастлив узнать от вас, что им свойственно также и религиозное чувство. Ваши восприемники должны бы гордиться таким крестным сыном.
– Без сомнения, должны бы, – ответил мистер Джонсон, – ибо именно им дал я первые доказательства своей ловкости; это длинная история, но я охотно расскажу вам ее, если когда-нибудь вы предоставите мне такую возможность.
– Спасибо, – сказал я. – Пока же должен с вами проститься, вам теперь направо. В свою очередь примите от меня изъявления благодарности за то, что вы удостоили сопровождать такую ничем не выдающуюся личность, как я.
– О, не стоит, ваша милость, – ответил мистер Джонсон. – Для меня всегда величайшее счастье прогуляться с джентльменом, обладающим таким «здравым смыслом», как вы. Всего наилучшего, сэр. Надеюсь, мы еще встретимся.
Сказав это, мистер Джонсон свернул, куда ему нужно было, и мы расстались [763]763
Того, кто счел бы эту зарисовку с натуры преувеличенной, я отсылаю к «Мемуарам Джеймса Харди Во». (Прим. автора.)
[Закрыть].
Я направился к дому, размышляя о своем приключении и восхищаясь этим авантюристом. В трех шагах от двери ко мне самым жалостным голосом обратился старик нищий – видимо, больной и дошедший до пределов нужды. Невзирая на мои политико-экономические воззрения, столь печальное зрелище не могло не расположить меня к подаче милостыни. Я сунул руку в один карман – кошелька там не оказалось. Я стал рыться в другом и обнаружил, что носовой платок, записная книжка и золотой медальон, принадлежавший раньше мадам д'Анвиль, тоже исчезли.
Задаром ведь не водят компании с обладателями двух добродетелей и не получают от них комплиментов за свой здравый смысл.
Нищий продолжал приставать ко мне.
– Дайте ему чего-нибудь поесть и полкроны, – сказал я своей хозяйке. Через два часа она явилась ко мне.
– О сэр, мой серебряный чайник! Ах, этот негодяй нищий!
Тут меня словно озарило:
– Ах, мистер Джоб Джонсон, мистер Джоб Джонсон! – вскричал я в неописуемой ярости. – Прочь с глаз моих, женщина, прочь с глаз моих! – Я внезапно умолк, у меня не хватало слов. Пусть мне никогда не говорят, что стыд – неизменный спутник вины: преступный мошенник никогда не стыдится за себя так, как ни в чем не повинный дурак, которого он обчистил.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































