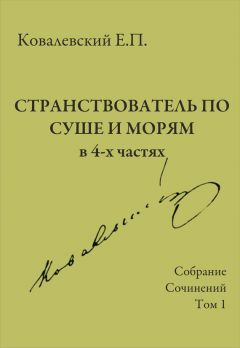
Автор книги: Егор Ковалевский
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Пленный персиянин
(Хива)
Поле, усеянное трупами и костями, после кровавой сечи, поражает и сокрушает даже людей, привыкших к подобного рода зрелищам; вид мертвого человека, среди пустынной и безграничной степи, одного, о бок с верным конем своим, вид этого странника, застигнутого на пути или голодом или жаждой, с рукою, простертою к стороне своей родины и с выражением страданий, замерших на лице его, – грустнее и тяжелее для того, кто встретит этот одинокий труп, кто такой же странник среди бесприютных степей, кто испытал и кому суждено часто испытывать зной и стужу, голод и жажду, буран песчаный и снежный и все терпеть и все страдать… Но для меня было еще больнее, еще грустнее, после того состояния одиночества, с которым совершенно свыкаешься во время долгого странствования в степи, вдруг перенестись в азиатский город, шумный и грязный; возвратиться к жизни, исполненной тревог и страстей; вступить в борьбу с людьми… льстить визирю и окружающим его… и быть вечно настороже, на каждом шагу остерегаться удара ножом из-за угла или доброго приема яда в присланном в подарок плове…
* * *
Сеть каналов, опутывающих Хиву, представить гораздо более затруднений для военного отряда, который бы желал в нее проникнуть, чем горы Усть-урт с Севера, и отроги Гиндо-Куша с Юго-Востока, которые считали важными преградами в этом случае, пока Русская военная экспедиция 1839 года не убедилась на месте, что Усть-урт имеет несколько весьма удобных всходов, а английские офицеры не исследовали Гиндо-Куша, проникнув через него на Север и на Северо-Запад. Стены, окружающие Хиву, ничтожны для европейской артиллерии. Из-за них возвышается бирюзовый купол главной мечети и верхушки тополей… Русский легко обживется в Хиве; климат, и особенно вода, в ней несравненно лучше, чем в Бухаре; небо всегда ясно, ночи очаровательны, сады изобилуют всякого рода фруктами, излишнее употребление которых едва ли даже вредно здесь; по крайней мере, на нас не имело никакого дурного действия; а дыни, – вы не можете иметь о них и понятия по европейским дыням: они тают во рту, душисты как ананас и вкусны вне сравнения; недаром они пользуются известностью во всей почти Азии.
Бухарцы отзываются о хивинцах, как о варварах. Правда, хивинцы мало чему учатся; не слишком строго соблюдают религиозные обряды, грубы в обращении; зато характер их открытый, хитрость и обман не доведены до той утонченности, как в Бухаре; более склонны к общественной жизни и гостеприимны, а потому с ними легче ужиться, чем с другими среднеазийскими народами.
Хива занимает второстепенное место в системе среднеазийских ханств; тем не менее, покойный хан бивал часто бухарцев, и не далее как года два тому назад, привел из похода своего к границам Бухарии множество пленных. Он значительно увеличил свое ханство переселением некоторых покоренных им племен туркменов и пленных персиян и бухарцев; с коканцами Аллах-Кули-хан жил большею частью в дружбе и состоял в родстве с ханом; киргизов – тех, которые признают власть Хивы – держал в страхе. С персиянами почти всегда враждовал и часто опустошал их границы. Но я еще буду говорить о хане в другом месте…
Дни текли обычною чередой, длинно и скучно. Я рвался в путь, на свободу; но дела здесь ведутся медленно: надобно было выжидать и терпеть. Я находился постоянно в каком-то напряженном положении; кроме того, с некоторого времени меня мучило сновидение, которое повторялось чрезвычайно часто: оно не имело в себе ничего ужасного, но ложилось на чувства, на душу, каким-то тяжким камнем, каким-то злым кошмаром. Если я закрывал глаза, ко мне являлся человек, которого я никогда не видел наяву, унылый, бледный, высокого роста, с окладистой черной бородой, и, сложив накрест руки, потупив глаза, становился передо мною, и я в томлении ожидал, чтобы он начал говорить, но он молчал; я силился спросить, что ему было нужно, старался оттолкнуть от себя! Но все усилия мои были тщетны, и мне было невыносимо тяжело, пока, напрягшись, я не исторгался, наконец, от злого сна. Так прошло несколько времени; я приписывал это действию летних жаров или желудка, принимал прохладительные средства: все напрасно. – Мне, наконец, казалось, что если бы я увидел этого человека наяву, то он бы меня не тревожил более во сне, и вскоре, действительно, увидел его…
Я вас предупреждаю, что в рассказе моем вы встретите некоторые непонятные вещи, что лицо, о котором я говорил слишком странно; его знают двое бывших моих спутников в Хиву и о нем теперь еще многие вспоминают там. Надобно же было случиться, чтобы и сама встреча моя с ним представляла в себе нечто романтическое. Вот как это было: хан, желая оказать мне особенную свою благосклонность, пригласил меня на охоту с соколами и беркутами, которую он страстно любил; охота была удачная, и хан был очень весел; сам спустил он с рук своего сокола и любовался, как тот сначала залетал в высь, выглядывая добычу, и потом стремглав из-за небес кинулся на жертву; но вдруг, у самой земли, всполохнулся, взмахнул крылами и поднялся вверх; ясно было, что он испугался чего-то необыкновенного; думали, что в камышах, над которыми он взвился, скрывался дикий кабан и радовались нежданной встрече; но посланные на разведки объявители, что нашли человека. К указанному месту подъехал хан, а за ним и я; вообразите же мое удивление – этот человек был мое ночное видение, мой кошмар! Он стоял перед ханом, бледный, с потупленными глазами, со сложенными на груди руками, и ожидал смерти, но не молил о прощении.
– Мустафа, – сказал хан, без труда узнав своего пленника, персиянина, которого он любил и отличал, – разве тебе худо у меня; зачем ты бежал?
– Дома жена… двое детей: им нечего есть, – отвечал отрывисто пленник.
Хан обратился к Дестерханджи:
– Дать ему жену и десять тилл[15]15
Тилла почти равняется четырем рублям сер.
[Закрыть]; пускай пять из них отошлет детям, а на остальные обзаведется сам, – и не слушая благодарности Мустафы, отправился далее. Никто из бывших тут не ожидал такого милостивого окончания дела. Желал ли хан выказать свое великодушие передо мною, пощадил ли он пленника потому, что считал его необходимым человеком для своей артиллерии, боялся ли его чародейства, или просто он в этом деле руководствовался движением собственного чувства, – я не знаю; но к чести Аллах-Кули-хана скажу, что примеры подобного великодушия были не редки в его жизни.
С этих пор, я действительно избавился от тяжкого сновидения, зато часто встречал Мустафу наяву; он, вместе с нашим русским пленным, который некогда торговал пряниками в Астрахани, заведывал всей артиллерией хана, если можно назвать артиллерией несколько пушченок на тележных колесах, или вовсе без колес.
О Мустафе рассказывали чудеса в Хиве: говорили, что он проникал тайные мысли другого, вызывал по произволу тени давно умерших, предсказывал будущее. Сам хан веровал в его сверхъестественный дар и уважал его. Я избегал вообще сношений с посторонними людьми, но с Мустафой как-то невольно сошелся. Это было несчастнейшее существо на свете, находившееся в постоянной борьбе с самим собой и с внешним миром; его нравственное начало, не укрощенное образованием, преобладало в нем, и тело, изнеможенное, не выдерживало порывов души пылкой и сильной. – Вот история его жизни: Мустафа родился в какой-то персидской провинции и был в детстве пастухом; тут уже заметили его странную власть над окружающими предметами; чтобы собрать свое стадо, рассеянное на далеком пространстве, ему стоило только обвести взором своим вокруг, и овцы его сбегались к нему, в какую бы пору дня это не было, и следовали за ним с покорностью непонятной. Никогда ни одна овца не отлучалась от него и не пропадала; кроме того, его взор охранял стадо от нашествия волков и шакалов надежнее целой стаи собак. – Вскоре молва стала привлекать к нему людей суеверных, и особенно больных, испрашивавших выздоровления, и нередко одного его прикосновения, одного взгляда, было достаточно, чтобы облегчить мучения страждущего. Слава его распространилась далеко, но он не искал, а убегал ее; удалялся по целым неделям в горы или леса, и проводил там время в молитве, в посте, предаваясь размышлениям; но тщетно старался он найти ответ в своем уме на те вопросы, те сомнения, которые потрясали его, тщетно старался найти разгадку своей жизни. Предавшийся совершенно религии, он встречал одни сомнения и горько каялся в том, и не мог отогнать от себя разочарования; он было хотел принять правила Суннитов[16]16
Персияне – шииты
[Закрыть], считая один закон Магоммета непреложным, но и тут встречал повсюду заблуждения. Приписывая это соблазну дьявола, а не собственному убеждению, он каялся, и опять сомневался, и терзаниям его не было конца. Тело его ослабело, зато зрение и слух утончились до невероятности; он безошибочно предсказывал приход каравана дня за два; но всего замечательней в нем были сила и влияние его мысли, которые не раз служили ему на пагубу. Вот, каким образом, он попал в плен. Живя в пограничной провинции, он должен был часто встречаться, с оружием в руках, с туркменами; был храбр и презирал опасность. Однажды напали на него несколько человек: аргамак Мустафы был свеж и силен, и одним взмахом оставил далеко за собой нападающих, которых лошади были уже изморены продолжительной ездой; как вдруг у Мустафы родилась мысль, что его могут настигнуть, что конь может изменить ему, и эта мысль не покидала его наперекор всей силы желания изгнать ее; он предвидел ее пагубное влияние; отчаяние овладело им; он опустил поводья, его аргамак сбавил шаг… настигнутый неприятелем, Мустафа, беззащитный, отдался в плен.
Он сам рассказывал мне последние приключения свои: давно уже он затеял оставить Хиву и хана; но первая мысль его была обратиться ко мне и молить, чтобы я выкупил или выпросил его у хана, или, наконец, тайно взял с собою: эта мысль не покидала его несколько дней и была так сильна, что вполне отразилась, как я уже сказал, в ночных моих сновидениях: «Я предугадывал это, – прибавил Мустафа, – но не мог пособить, а люди приписывают мне такую всемощную силу. Не решившись просить тебя, – я бежал; но всю дорогу думал о хане, думал о том, что бы было, если бы он настиг меня, и, знаю, своей постоянной мыслью, которую никак не мог отогнать, я привлек к себе хана…»
Мустафа был постоянно печален; едва улыбка касалась уст его, он спешил согнать ее, предвидя в ней, по какому-то непонятному предубеждению, знамение будущих бедствий. Недоверчивый к себе, он был недоверчив и к людям, и только увлекаясь порывом чувств, он иногда высказывал вполне свою душу, и потом раскаивался в этой невольной измене самому себе.
Мустафа первоначально был куплен Магмет-Рахимом, который в то время еще не был ханом и усыплял лестью своего старшего брата, Кутли Мурата, кроткого, слабого, утратившего звание и достоинство хана и довольствовавшегося названием инаха. Магмет-Рахим был не укротим в страстях, воли железной и непреклонного сердца. Последствия мнимой дружбы двух братьев легко было предсказать, но не в том ужасающем виде, как они случились и как предсказал их, говорят, Мустафа. Он представил Магмет-Рахиму его самого, по колено в крови… окруженного трупами казненных им братьев… попирающего ногами самые непреложные статьи Корана, терзающего народ свой… представил его ханом… и Магмет-Рахим обнял его, и осыпал милостями, когда пророчество сбылось; а пророчество сбылось, как известно, во всей своей силе! Время ханства Магмет-Рахима, предшествовавшего Аллах-Кули-хану, народ твердо помнит, как страшную кару суда Божия. – За милостями хана, последовал его гнев, и вот по какому случаю, как гласит предание, – сам Мустафа ничего об этом не говорил.
Магмет-Рахим, которого не трогали, не щекотили более никакие казни, искал новых побуждений, чтобы расшевелить свои утомленные чувства, новых средств, чтобы испытать терпение народа и, в случае его волнения, накинуться на него опять голодным волком; он вспомнил, что отец его, Ельтезер, был женат на дочери потомков Сеидов[17]17
Сеиды ведут свое происхождение от самого Магомета.
[Закрыть], что у мусульман почитается в высшей степени нарушением закона, и решился последовать его примеру; Мустафа, пользуясь милостями хана, осмелился ему высказать весь ужас такого преступления, напомнил гибель его отца, который, вскоре, после такого брака, утонул, переправляясь через Амудерью, что явно свидетельствовало небесный гнев за оскорбление Корана, – все было напрасно: Магмет-Рахим хотел показать, что он выше закона пророка, и брак совершился; но в первую ночь, последовавшую за ним, хан заснул сном крепким и продолжительным, а его девственная супруга исчезла с брачного ложа… Разъяренный хан рвался и метался во все стороны; поражал все, что ему ни попадалось под руку; он призвал к себе Мустафу и требовал, чтобы тот возвратил ему жену, не то клялся казнить его немедленно.
– Твою жену может возвратить тебе один пророк, исторгший ее от греха; казнить же ты меня можешь сию минуту: я готов. – Равнодушие Мустафы устрашило хана, который веровал в его чародейственную силу; он довольствовался тем, что отправил его в дальние свои владения, где Мустафа провел несколько лет в рабстве и пытке, пока новый хан, Аллах-Кули, не исторг его оттуда[18]18
Аллах-Кули-хан умер в прошлом году; нынче ханствует старший сын его Рахим-Кули-хан.
[Закрыть].
Конец Мустафы был самый печальный. Случилось как-то, что он был необыкновенно весел; ему заметили это, и он вдруг изменился, побледнел и замолк; бывшие тут мусульмане с благоговением глядели на его суеверный страх, и некоторые решились спросить, что он предзнаменует?
– Меня ожидает большое несчастье!
– Более смерти ничего случиться не может, – отвечали ему в утешение, – а смерть только возрождение к жизни: все в воле Аллаха!
– Хуже смерти, – сказал Мустафа, и распорядился своим небольшим достоянием. На другой день он встал с постели, пошатываясь, с какими-то судорожными движениями, в состоянии совершенно для него непонятном; он не узнавал ни людей, ни предметов, окружавших его; слова его и поступки показывали детское незнание… он сошел с ума…
Часть вторая
(1843)
Рассказ сипая
(Авганистан)
В знойный летний полдень, в Тегеране, у консульского дома постучался человек, весь в ранах, едва покрытый рубищем одежды, и в изнеможении прислонился к стене, ожидая, с терпением страдальца, пока отопрут дверь; но он недолго ждал, дверь отворилась и приняла странника под надежный, гостеприимный кров консульского дома. И только по истечении некоторого времени, и только по обязанности, спросил почтенный консул об имени пришельца. «Я сипай, – отвечал тот, – чудом спасся от общего истребления индийско-британского войска в Авганистане и, проданный, вместе с несколькими другими, в отдаленные провинции, не мог быть выручен своими соотечественниками. Предпочитая смерть вечному рабству, я решился бежать, – и вот я перед вами; но много, много тяжких дней прошло, пока я достиг до Тегерана». И странник рассказал длинный ряд лишений, пыток, всякого рода терзаний, которые испытал он, частью разделяя участь несчастной армии, частью во время своего рабства и бегства из плена. Я передам вам этот рассказ. Вы видите, я поведу вас опять путем мрачным, заваленным трупами людей и верблюдов: картина уже вам знакомая; что делать! Такова эта картина, и я не отступлю от истины. На востоке только и светлого, что небо.
Прежде, однако, чем приступим к рассказу сипая, мы должны окинуть, хотя быстрым взглядом, место действия; иначе этот рассказ будет для нас темен и непонятен.
Авганистан, или империя Дураниев, как обыкновенно, хотя и не совсем правильно, его называют в Европе, воздвигнут в своем величии и блеске Ахмат-шахом в половине прошедшего столетия, и вместе с кончиной его уже частью утратил свое политическое значение, хотя еще и держался несколько времени в прежних границах. Он касался на юге моря, обнимая провинцию Белуджистан, на севере – Туркменских степей; на западе далеко вторгался в персидские владения; а на востоке простирался за Инд, владея Кашемиром, справедливо названным перлом империи. В Авганистане считалось до 20 миллионов жителей: народонаселение довольно малочисленное по пространству, но мощное по своему воинственному духу, который умел вдохнуть в него Ахмет-шах, и потому можно было безошибочно назвать Авганистан сильнейшим государством в Азии, не считая Британской Индии. Преемники Ахмет-шаха, Тимур, слабый, женоподобный, Земан, грубый и жестокий, Махмут и, наконец, Шуджа, игравший такую жалкую роль почти в течение целого последнего полустолетия, приготовили Авганистан к той страшной катастрофе, которая совершилась на наших глазах.
Шах Шуджа-уль-мульк в первый раз потерял свое царство, – а он терял его часто, – в 1809 году, на равнинах Нимли, очень скоро после того, как британское посольство Эльфинстона воздало ему все царственные почести. С тех пор шах Шуджа явил собой редкий пример несчастий. Как судьба не устала бичевать так долго одну и ту же жертву! То нищий скиталец, то наемный царь, без власти и без царства, побуждаемый советами своей умной и смелой жены, или посторонней силой. Шуджа иногда порывался к отважным подвигам, к борьбе с судьбой, но это был порыв к полету старого лебедя, у которого обрублены крылья. Изнеможенный, он падал. Всего более силы духа проявил он, защищая свое сокровище, свой драгоценный алмаз, ког-и-нор, гору света, от алчности покойного магараджи Реджит-Синга.
Последние события, сопровождавшие смерть шаха Шуджи и совершенное истребление двадцатитысячной индийско-британской армии, всем известны.
Героем Нимльской победы был Фет-хан, глава поколения Барикзеев, самого сильного по числу и нравственному влиянию в Авганистане. Жизнь его вновь, хотя ненадолго, озарила славой Авганистан, а смерть повлекла за собой раздробление государства, которое было причиной торжества англичан, и восстановления новой царствующей династии в лице Дост-Мухаммета, брата Фет-хана и соперника англичан.
Надобно прежде пояснить, что Фет-хан, посадив на трон Махмута, брата шаха-Шуджи, сам стал первым визирем и безусловным распорядителем царства, предоставив распутному Махмуту один титул и гарем. Авганистан отдохнул и окреп. Кашемир опять вступил в его владения. Фет-хан управлял Авганистаном очень благоразумно. Его упрекают в излишней жестокости: это правда, он не щадил крови; но нужны были меры сильные, чтобы прекратить возникавшие повсюду раздоры и скрепить распадавшееся царство. К чести его должно также отнести то, что он с презрением отверг советы братьев своих, которые во время экспедиции в Кашемир вызывались убить Реджит-Синга, злейшего врага его.
Фет-хан имел завистников и врагов, это было неизбежно, и в числе их первое место занимал Камран, старший сын Махмута, который не раз убеждал отца освободиться от власти визиря и взять самому бразды правления. «Ты хочешь превратить меня в лошака, – сказал ему однажды Махмут, – и навьючить всем бременем правления. Ты молод, мой сын!» Но советы приближенных к нему, наконец, восторжествовали. Слабый шах согласился на погибель своего визиря. Камран захватил его в Герате, выколол ему глаза, и, радостный, привлек свою жертву к отцу (1818 года). Фет-хан был истерзан на части в глазах Махмута, обязанного ему и царством, и славой, и своей безопасностью, которою он всего более ценил. Но перед смертью визирь явил редкий пример воли железной и непреклонной. В продолжение всей пытки, он не переставал издеваться над своими палачами, осыпая их насмешками и ругательствами, и не испустил ни одного стона, ни одной жалобы. Когда у него отрубили правую руку, он с твердостью произнес, обращаясь к Махмуту: так отпадет от тебя Кабул, так Пейшавер, когда левая рука отделилась от туловища, и будешь проклят ты народом и потомством…
Месть яростно закипела. – Восстали братья казненного Фет-хана, и его родственники, и все племя, и весь народ, и закипела народная война со всем ужасом и опустошением: пророчество Фет-хана сбылось. Авганистан распался на части. Явилось индийско-британское войско.
Теперь нам остается сказать несколько слов о том, в каком положении оно застало бывшую империю Дураниев, и в каком оставило ее. Нам, собственно, до англичан дела нет, и мы бы не упомянули о них, если бы то мог допустить наш рассказ. Не хотим знать, зачем пришли они в Авганистан! Пусть их пришли затем, чтобы восстановить законную династию на трон, или чтобы обеспечить предполагаемое плаванье по Инду или, наконец, затем, чтобы восстановить порядок в стране, – пожалуй, я и этому верю.
Город Кабул уже не составлял столицы огромной империи Дураниев. Владение его ограничивалось только собственным его округом и городом Гизни, впоследствии к нему присоединенном. В нем сидел и властвовал (с 1826 года) брат Фет-хана, Дост-Мухаммет-хан, сильнейший между всеми владетелями, составлявшими по родству как бы одну конфедерацию в Авганистане. У него было всегда наготове до 10.000 человек кавалерии и 14 артиллерийских орудий, расположенных в самом городе. Кроме того, горы составляли природное укрепление его небольших владений, а положение в центре Авганистана и личное влияние Дост-Мухаммета невольно ставили его во главе этой страны. Мы выпишем о нем мнение англичанина; согласитесь, что тут уже никакого пристрастия быть не может, тем более, что этот англичанин Александр Бюрнс.
«Слава о Дост-Мухаммете достигает путешественника в Авганистане еще гораздо прежде, чем он вступит в его владения, и эта слава вполне заслужена владетелем. Он неутомим в занятиях, каждый день заседает с казием и муллами для решения споров и тяжб в своем народе; всячески заботится о развитии торговли и довел до того безопасность дорог в своих владениях, что купец может путешествовать совершенно покойно без всякого конвоя, – вещь неслыханная в прежние времена… Нынче он трезв в высшей степени, и тем подает пример своему народу к сохранению заповеди Корана. Его справедливость и беспристрастие выше всяких похвал. – Невольно поражаешься его разнородными познаниями и тем стремлением, которое он оказывает к приобретению этих знаний. Обращение его и все манеры чрезвычайно привлекательны», и проч.
О правосудии Дост-Мухаммета ходит множество рассказов в народе. Вот образчик его остроумного решения: какой-то богатый купец принес жалобу на неверность жены; казий и муллы недолго толковали в этом случае, и так как приноситель жалобы не принимал выкупа от обвиненного, то приговорили, как водится, предполагаемого обольстителя и неверную жену сбросить с башни; но Дост-Мухаммет призадумался и спросил, не являлся ли прежде в суд с подобными жалобами обвинитель? Да, отвечал ему казий, это уже третью жену отправляет он на тот свет с восьми саженной высоты. Тогда Дост-Мухаммет потребовал более точных свидетельств, и обвинитель сказал, что жена соседа видела с крыши, как соблазнитель обнимал его жену. «А когда тебе объявила об этом соседка?» – спросил Дост-Муххамет. – «Вчера ночью». – «Кто еще слышал это?» – «Никто, но она сама подтвердит». – «В каких же ты с ней отношениях, когда видишься с глазу на глаз, и еще ночью?» – Обвинитель смешался. Сделали строгий розыск и оказалось, что он был в преступной связи со своей соседкой, которая, чтобы избавиться от своих соперниц, клеветала на них и приносила их в жертву своей ревности. С виновными поступили как следует.
Кандагар составлял отдельное владение; в нем властвовал племянник Фет-хана, Коган-Диль-хан, сын Шир-Диль-хана, который, по своей железной воле, всех более походил на брата своего Фет-хана. Известен анекдот, рассказанный о нем Бюрнсом: Шир-хан, чтобы испытать характер одного из сыновей своих, десятилетнего мальчика, отрезал у него палец и сказал, что он будет не достоин называться его сыном, ни Баракзеем, если заплачет: ребенок вынес с твердостью это испытание. Военная сила Кандагара не многим уступала Кабулу, а положение у самого центра племени Баракзеев увеличивало его нравственное влияние, но владетель был не любим народом и находился во вражде с Дост-Мухаммет-ханом.
Пешавер составлял незначительное владение и переходил из рук в руки, большей частью как дань посторонней власти, и при вступлении англичан находился под правлением слабого Магоммет-хана.
Наконец, Герат, единственная область, оставшаяся в руках владетеля из прежнего царского дома. Камран властвует и нынче;[19]19
По последним известиям, требующим подтверждения, он умер (1843).
[Закрыть] он жесток и несправедлив, не любим своим народом, нетерпим прочими владетелями Авганистана, которые глядят на него, как на жертву еще не вполне насыщенного мщения за кровь Фет-хана. Герат, при вступлении англичан в Авганистан, находился под некоторым влиянием персиян.
В таком раздробленном виде застали англичане Авганистан… и, изгнав местные власти, засели в крепостях, в городах посадили своих людей, а в Кабуле, главой всего Авганистана, шаха Шуджу – и образовались три разнородные власти: английская, народная и шаха Шуджи, из которых одна не признавала другой и не имела сознания в собственном своем влиянии; всякая действовала отдельно, сама по себе.
Сипай наш принадлежал к той части главной англо-индийской армии, которая была расположена в Кабуле, или правильнее в его окрестностях.
Император Бабер, любимый сын Азии и ее историограф, справедливо сказал: «нет города в мире краше Кабула», если это выражение отнести к его природе, а не к тому, что произвели в нем люди. Далее Бабер говорит: «Кабул представляет собой гору, озеро, город и пустыню», последний эпитет особенно пристал к нему в настоящее время, после того как англичане очистили Авганистан, а потому не должно смешивать того Кабула, о котором говорит наш сипай, с нынешним Кабулом.
Не знаю, с которого бы пункта указать вам на этот город: отовсюду он прелестен, кроме его внутренней стороны. Хорош он с полпути между ним и царским садом, когда взорам вашим представляется с одной стороны амфитеатр зданий, утопающих в садах; с другой, густая масса деревьев, рисующихся на ясном горизонте, как баснословная краса-царица востока; но еще лучше Кабул, если на него смотреть со стороны кладбища Бабера.
Вам, конечно, очень хорошо известно, что кладбища на востоке составляют предмет особенных забот правительства и благочестивых людей; они осенены садами, украшены цветниками и часто фонтанами и представляют любимое место для гуляний и для временного отдыха от дневных трудов мусульман. И действительно, где скорее можно забыться от суеты, от трудов мирских, как не на кладбище? Где более можно предаться мечтам сладостного самозабвения, утешить скорбь и тоску, грызущую вас, как не здесь, в юдоли самозабвения вечного. Отсюда происходит то величавое спокойствие, которое составляет лучшую часть характера мусульманина.
Гробница Бабера обозначена двумя плитами белого мрамора с надписью и глубоко иссеченными цифрами, означающими год смерти императора (1530 нашей эры); насупротив возвышается небольшая, но прекрасная мечеть, построенная в 1640 году шахом-Джиганом.[20]20
Не знаю, уцелели ли эти прекрасные памятники нынче, от всеобщего разрушения и истребления.
[Закрыть]
Кладбище расположено у подножья холма, на который я поведу вас. Здесь стоит хорошенький павильон, сделанный, кажется, по приказанию шаха Шуджи, или Земана, и из него наслаждаетесь вы видами невыразимо восхитительными. Перед вами стелется обширная равнина, покрытая деревеньками, нивами и садами; между ними змеей извивается ручей, то пропадая в зелени дерев, то вновь показываясь игривей и прекрасней прежнего. На северном горизонте рисуется грозная Пюман, которой вершина покрыта снегами, а отклоны красуются роскошными садами и виноградниками. Город виден в беспорядочной массе; над ней господствует цитадель Бала-Гисар, с полуразвалившимися башнями и стенами, представляющими издали нечто дикое и романическое, особенно если воображение ваше перенесет вас в прежние времена, когда эти башни и подземелья их служили темницами для царственного рода, а сам Бала-Гисар дворцом для царей, когда стоны отца и радостные пирования сына сливались в одно и под одним кровом. – Гробница Тимур-шаха, высокое в восточном вкусе, находящееся также вне города, не видно за деревьями. Гробница Тимура и Бабера! Сколько воспоминаний… И вы видите вокруг себя безмолвные и неподвижные группы мусульман, пораженные красотой зрелища и величием предмета, и вполне преданные внутреннему созерцанию.
Собственно Кабул представляет одно поразительное здание, – я хотел сказать представлял два года тому назад: от него остались одни развалины. Это Чауча, базар, великолепнее которого едва ли существовало здание на востоке; украшенный арками и фресками, он составлял нечто огромное и вместе щегольское в мавританском стиле и служил гордостью для всех азиатцев. Особенно красив он был вечером, когда лавки его освещались и выказывали всю роскошь азиатских произведений.
Если бы нужно было сравнить с чем-нибудь азиатский город, сообразно с нашим европейским понятием, то всего ближе можно было бы его сравнить со старинным городом в Италии; правда, в нем нет тех высоких, несколько-этажных домов, лицом на улицу; но те же тесные, нечистые улицы, тот же оглушительный шум, особенно после обеда, на площадях: толпы, окружающие сказочника, лицо отличительное на востоке и в Италии; наконец, крики дервишей, возвещающих чудеса Магоммета, дервишей, которых вы сами знаете с кем можно сравнить.
К общему и довольно подробному описанию Кабула прибавим, что в нем было до 70.000 жителей. Климат превосходный; зной полуденного лета умеряется прохладой, которой всегда пышет со снежных вершин гор, господствующих над городом. Изобилие, разнообразие и вкус кабульских фруктов вошли в пословицу в Средней Азии. Кабул столица азиатского кейфа.
В ночь на второе ноября, 1841 года, сипай наш был послан зачем-то, из лагеря, расположенного за городом, в Кабул, где жило много английских офицеров, особенно семейных, и сам Бюрнс. Несмотря на позднюю пору, в улицах заметно было некоторое движение, но все было в порядке, и наш сипай не нашел бы тут ничего необыкновенного, если бы кизиль-баш, остановивший его, не указал таинственно на проходящих. «Так что ж такое, – отвечал сипай, – народ где-нибудь запоздал, за работой или за пиром, и возвращается домой, как и ты грешный!» – «Эх, душа моя, да разве ты не видишь, что люди идут из дому, а не домой: ведь все направляются за город. Говорят, – прибавил он, наклонившись к уху сипая, – в горы пришел Сердар (Экбер-хан) со своими и к нему отовсюду стекается народ, как горные ручьи к одному устью. Не быть бы худу, сердце мое». – «Пустое; я сейчас из лагеря, и там все так тихо и спокойно, как в нашем благословенном Непале. Да и сам Бюрнс присылал сказать, чтобы мы и не думали о каком-либо общем возмущении в крае. Экбер-хан далеко в Туркестане: все это сказки». – «Детям говорят сказки, а они принимают их за истину: дай Бог, чтобы с вами не случилось наоборот».
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































