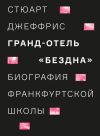Текст книги "Массовая культура. Теории и практики"

Автор книги: Екатерина Шапинская
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Как и кино, с которым телевидение во многом пересекается, телевидение и видео являются медиа популярной культуры, которые используют средства технологического воспроизводства. С точки зрения культуры, как таковые они воплощают переход через модернистский нарратив индивидуального художника, стремящийся трансформировать особый, частный, физический медиум. Для творчества культурного модернизма характерны уникальность, постоянство, трансцендентность, медиум трансформируется субъективностью художника. В репродуцируемых видах искусства, таких как фильм и видео, эти качества уступили место плюрализму, преходящести и анонимности. В то же время как фильм, так и видео дают возможности для нового радикального стимула, свидетельством чего является возникновение авангардистского видеоарта. Как таковые телевидение, видео и фильм включают в себя два мира – массовой культуры и авангардной культуры меньшинства. Видеокультура – это пространство особо интенсивного способа, которым проявляется постмодернистская дихотомия между деструктивными стратегиями авангарда и процессами, при помощи которых эти стратегии поглощаются и нейтрализуются. «Сама привычность, знакомость телевидения, его глобальная распространенность, как в производстве, так и в потреблении, ставит вопрос о трансгрессии и инкорпорации с такой настойчивостью» (Fiske: 1987:182). Объяснение постмодернистского телевидения и видео принимает две формы, соответствующие «трансгрессивной» или «инкорпоративной» гипотезам.
Первая форма стремится идентифицировать постмодернистские черты в телевидении или же находить прогрессивные возможности в постмодернистских видеотекстах. Так, британский исследователь Дж. Вайер контрастирует «доминантный» образ телевидения, т. е. трансляцию, передачу реальных событий непосредственно в их реальном времени зрителю, без явной подборки, монтажа, выборки, контроля или медиации, и постмодернистский модус телевидения, который свободно осознает игру идеального означающего, не претендуя на передачу реального. Можно сказать, что интернет-эпоха уже «витала в воздухе» в расцвет телеэпохи, а ее предвестниками стали постмодернистские формы видеокультуры.
Наиболее полный анализ постмодернистского видео мы находим у столь видного теоретика постмодернизма как Ф. Джеймсон. Для него видео и телевидение представляют в своих формах вызов не только гегемонии модернистской эстетической модели, но также современной тенденции доминирования языка и концептуальных инструментов, связанных с лингвистикой и семиотикой. Центральным для аргументов Ф. Джеймсона является утверждение абсолютной ассимиляции смотрящего субъекта в механическую структуру медиума видео. Под этим он подразумевает то, что пока в то время как другие медиа репрезентации, такие как роман или фильм, связаны с продуцированием эффекта реального времени, телевидение искажает его укорачиванием, телескопированием, расширением, варьированием фокуса и т. д. Видео, или по крайней мере ненарративное авангардное видео, как бы заключает зрителя в видео-время, которое есть нечто большее, чем реальное время самой машины, которое движется к своему концу. В объяснении Ф. Джеймсона авангардное видео рассматривается как самая главная форма видео на коммерческом телевидении, которое действительно подражает фильму в продуцировании нарративных эффектов, но является его странным незаконным потомком. Исследователь находит причину этого не в том факте, что коммерческое телевидение подражает другим темпоральным визуальным медиа, но в способе, которым такое телевидение продуцирует впечатление фикционального времени из того, что, как он полагает, является неэффективными языками видео.
Последствием революционного отказа от измерения фикционального времени для Ф. Джеймсона является искусство без границ, искусство, которое характеризуется в терминах, предложенных Р. Уильямсом, не как сочетание отдельных элементов, но как «тотальный поток» без перерывов и различений. Ф. Джеймсон использует этот термин, чтобы определить некоторое свойство авангардного видеотекста, который представляет себя как фрагменты в полете, как своего рода чистая и пустая длительность, а не модернистское произведение, которое взвешивает и переформулирует опыт времени. Даже для того, чтобы выбрать один из этих исчезающих фрагментов для анализа, нужно совершить акт «теоретического насилия». Хотя исследование и анализ текстов телевидения требует изоляции отдельных частей, результаты его не могут продемонстрировать или объяснить факт тотального потока. Ф. Джеймсон скептически относится к анализу такого рода, поскольку предмет исследования ускользает от его теории. Единственно приемлемым становится анализа частных видеотекстов. Объяснение американского исследователя представляет собой форму возобновляющейся борьбы внутри теории современных постмодернистских форм. «Теории современной культуры, – пишет исследователь постмодернисткой культуры С. Коннор, – показывают двойственную тенденцию: уничтожить разрыв между элитарной, высокой и массовой, популярной культурой и, в то же время создать лексикон культурной субверсии и деконструкции, которая частично наследована от модернистской культуры и ее авангардных теоретиков» (Connor: 190). Стремление «реабилитировать» массовую культуру особенно наглядно проявляется в случае столь яркого выражения массовой культуры как ТВ, в котором тривиализируется любая культурная инновация. Теория культуры, по мнению Джеймсона и его последователей, в этом случае, должна научиться приспосабливаться к разнообразию современных электронных медиа и способам их восприятия.
Наиболее крупный теоретик в области постмодернистской культуры, чья концепция сильно повлияла на исследования телевидения, кино и видео, – Ж. Бодрийяр. Наиболее значимой в этом отношении являются его работы «Экстаз коммуникации» и «Реквием по медиа», в которых он не столько пишет о телевидении как особой культурной форме, сколько использует телевидение и его технологии как метафору для режима симуляции в современных западных культурах. Он утверждает, что в этих обществах психологическое структурирование социальной жизни подверглось фундаментальной трансформации. Предыдущие эпохи требовали и воспроизводили набор связанных и эквивалентных контрастов между частной и публичной жизнью, между субъективным «Я» и объективным миром. В наше время эти отношения нейтрализованы таким образом, что понятие личности как проецирующее себя на объекты, создавая отношение обладания (как в случае статусных символов, домов, машин, бассейнов и т. д.), уступило место плоской взаимозаменимой эквивалентности субъекта и объекта. Метафора Ж. Бодрийяра для слома субъектно-объектной дихотомии – это экран. Телевизионный экран или монитор компьютера нельзя рассматривать просто как объект, на который мы смотрим со всеми старыми формами психической проекции и интерполяции. Экран пересекается с нашими желаниями и репрезентациями и становится воплощенной формой наших психических миров. Все то, что происходит на экране происходит не на нем и не в нас, а в каком-то сложном виртуальном пространстве между ними двумя.
Этот процесс завершает нейтрализацию другой оппозиции – между невидимым миром чувств и фантазий и видимым миром публичных репрезентаций. Чистый объем репрезентации в фильме, видео или рекламе и выставляемое напоказ расширение информации не только угрожают связанности, целостности частного мира, говорит Ж. Бодрийяр, они, по сути дела, отменяют само различие между частным и публичным. Точно так же, как частные миры реальных индивидов постоянно нарушаются телевидением, с мультипликацией интимных исследований частной жизни и их документированием, частный мир начинает быть населенным публичным миром исторических событий, которые теперь делаются доступными мгновенно в каждом доме при помощи телевидения. Достаточно обратиться к техникам прямого несмонтажированного репортажа с места событий. Наиболее типичным для этой ситуации является взрыв «видимости», доходящий до избытка, до момента, который Бодрийяр называет «непристойностью». Непристойность начинается именно тогда, когда нет больше зрелища, нет больше сцены, когда все становится прозрачностью, непосредственной видимостью, когда все выставляется на резкий свет информации и коммуникации. В этой ситуации вряд ли возможно говорить о том, что мы отчуждены от масс медиа, поскольку такое отчуждение потребовало бы восстановления определенной структуры мышления, включая четкое различие между аутентичным индивидуальным существованием и неаутентичным ложным сознанием, что невозможно в ситуации этого взрыва видимости. Человек не может быть неправильно репрезентирован или неправильно понимать себя в ситуации, в которой не существует больше ничего позитивного или негативного, кроме лихорадочного производства знаков, еще большего количества значений, экстаза коммуникации. Преодолевается не только отчуждение, но и сама идея репрессии, так как с крушением идеи частного «Я» больше нечего подавлять, нет пространства, в котором можно было бы подавлять его. Это уже не традиционная непристойность того, что скрыто, репрессировано, запрещено или неясно. Наоборот, как говорит Ж. Бодрияр, это непристойность видимого, слишком видимого, того, которое уже больше не имеет никакого секрета, того, что полностью растворяется в информации и коммуникации.
В этой ситуации меньше всего можно говорить о различении между частным постмодернистским текстом и его непостмодернистским контекстом. Хотя сам Ж. Бодрийяр никогда не использует термин «постмодернизм», телевидение всегда является репрезентативной частью постмодернистской сцены симуляции, экстаза и непристойности. Эссе «Экстаз коммуникации» принадлежит переходному моменту в рабоие Ж. Бодрийяра, между обоснованным структурным марксизмом, выразившемся в работе «К критике политической экономии знака» и исследованиями мира симуляций, характерными для его поздних работ. Даже в этой работе тон его письма, находящийся между радостью и отчаянием, не оставляет реальной возможности различить внутри пропитанного и унифицированного поля постмодернистских коммуникаций различные, возможно даже прогрессивные формы постмодернистского культурного воздействия. Этот вид тотализирующего видения является общим для многих приверженцев Ж. Бодрийяра и часто выражается именно в дискуссиях по проблемам телевидения.
Примером может служить работа канадских социологов А. Крокера и Д. Кука, для которых телевидение – это в самом буквальном смысле реальный мир постмодернистской культуры, общества и экономики, реальной популярной культуры, которая стремится вперед, движимая экстазом и разложением непристойного зрелища. Таким образом, все, что не подвержено онтологическому тесту процессирования через телевизор становится переферийным для основных тенденций современности. Эта работа разделяет амбивалентность тона «Экстаза коммуникации». С одной стороны, от телевидения отказываются в общем, поскольку оно является орудием угнетения и интеллектуальной деривации, оно трансформирует реальных индивидов в пассивные, хотя и совершенно функционирующие медиа машины, путем имплантирования симулированной, электронно управляемой и технократически контролируемой идентичности. Оно деградирует социальные группы в аморфность «упакованных» аудиторий, которых держат заложниками большой линии тенденций кризисных настроений, произведенных медиа для аудиторий, которые не существуют в какой-то социальной форме, а только в форме статистических, числовых показателей на табло рейтингов. Оно заменяет мир опыта на мир плоских образов в триумфе культуры сигнификации. С другой стороны, для этих авторов постмодернистское телевидение не представляет собой ни «субверсивного» растворения культурных, эстетических норм, ни «прогрессивного» переписывания классических реалистических видеотекстов. Это скорее последний момент перед тем, как наша культура исчезнет в абсолютном, тотальном господстве имиджа. Этот момент является одновременно моментом экстаза и разложения, попыткой компенсировать ускользание реальности, которая, тем не менее, всегда обладает властью зрелищности. У Крокера и Кука нет решения возникающей в этой ситуации проблемы. Остается лишь переживать за потерянный и совершенно воображаемый старый мир и броситься в море зрелищ, которое они в то же время презирают.
Работа канадских исследователей представляет собой, возможно, одну из крайних форм постмодернистской теории культуры, которая развивается в направлении детализированного, стремящегося включить все без исключения нарратива. В этом пункте сила постмодернистской гипотезы становится ее слабостью. Способность давать подробные объяснения «полной» инверсии, «симуляции», «сателлизации» социальной и культурной жизни дает этой теории ее силу и престиж, даже если она является послушным эхом грандиозного расширения и глобализации технологической культуры. Но этим же она отличается от другого важнейшего аспекта постмодернистской теории, которая утверждает различие, множественность и отсутствие центра.
Несмотря на то, что XXI век пришел с победой Интернета как доминирующего медиа (пост)современной культуры, исследования прошлых лет содержат многие прогнозы и прозрения относительно той культуры, в которой мы живем сегодня, в которой вся мировая культура доступна кликом мобильного телефона, а коммуникация с любым человеком, живущем на нашей планете возможна в любое время. Еще на заре становления Интернета исследователи отмечали позитивные и негативные стороны новой информационной эпохи. Так, в написанной в конце прошлого века книге С. Жижек утверждает, что «…по отношению к киберпространству следует сохранять определенную консервативность… сегодняшний переходный момент позволяет увидеть, что мы теряем и что приобретаем» (Жижек, 225). Столь же скептически относится исследователь и к столь привлекательной черте Интернета как интерактивность: «… возникает соблазн дополнить модное понятие „интерактивность“ его смутным и довольно жутким двойником, понятием „интерпассивность“. Иначе говоря, сегодня утверждение о том, что сейчас, с появлением новых электронных медиа средств наступил конец пассивному потреблению текстов или произведений искусства, уже стало банальностью… Но разве изнанкой интерактивности не является интерпассивность? Разве необходимым дополнением моего активного взаимодействия с объектом вместо пассивного наблюдения за шоу не является ситуация, когда объект забирает у меня, лишает меня моей собственной пассивной реакции удовлетворения?» (Жижек: 201). Как видим, уже на заре эры Интернета исследователи высказывали озабоченность по поводу наступления новой коммуникационной (и культурной) эпохи. Насколько эта эпоха всеобщей коммуникационной активности и информационной доступности благотворна для человека и культуры в целом, мы рассмотрим в главе 5 данной книги.
Глава 3
Исследования культуры потребления в контексте повседневности
Нельзя говорить о современной массовой культуре, не коснувшись вопроса потребления. Действительно, та культура, о которой мы говорим, во многом определяется потреблением культурных товаров, о чем писал еще Т. Адорно, дав блестящий очерк «культиндустрии». Потребление превращается в главное занятие современного человека, уступив место производственному накалу эпохи индустриализма. Потребляются жизненно важные продукты и предметы роскоши, культурные тексты и символы. Важным стимулом к потреблению знаков служат средства информации, которые, по словам Ж. Бодрийяра, «дают нам потреблять знаки в качестве знаков» и создают определенное состояние современного общества, которое можно определить как «отказ от действительности на основе жадного и умножающегося изучения ее знаков» (Бодрийяр, 2006: 16).
Бодрийяр определяет место потребления – это повседневная жизнь. Повседневное потребление растет невероятными темпами, вовлекая в свою сферу все новые и новые культурные продукты, лишая их, таким образом, ауры сакральности и труднодоступности. Как только культурный текст, будь это произведение искусства или фрагмент древней культуры, вовлекается в сферу повседневного потребления, он теряет свою эксклюзивность, которая и выводила его за рамки повседневности. Еще В. Беньямин писал о том, как уходит аура оригинального произведения искусства в результате его механического репродуцирования. В эпоху небывалой технологичности доминирует иллюзия доступности любого культурного события – оно моментально становится растиражированным всеми мультимедийными средствами, а также становится объектом манипуляций, которые подаются создателями программ как обучающие технологии, призванные увеличить культурную грамотность массового потребителя в отношении тех самых шедевров, о которых говорилось выше.
Потребление является той «культурной зоной», где совмещаются популярная и повседневная культура. Поскольку повседневность приобретает все большее значение, необходимо остановиться на ее характеристиках подробнее. Прежде всего, происходит небывалое до нашего времени расширение сферы повседневного. Еще до недавнего времени сфера повседневности и противоположная ей область чудесного, невозможного в обыденности были разделены многими барьерами, одним из которых был барьер между популярной и высокой культурой, другой – между сакральным и профанным, третий – между обыденным и экспертным знанием и т. д. В том случае, если какой-то культурный объект попадал из одной сферы в другую, он представлялся как мифологизированный герой, как элемент сказки, вторгшийся в реальную жизнь. Трактор воспринимался как «стальной конь» по многочисленным ассоциациям с магическим животным – его быстроте, выносливости, воплощением мужской силы. Такое восприятие характерно для всего индустриального века с мифическим восприятием машины. Электронные медиа в первый период своего появления тоже воспринимались как некое чудо, которое служило не только и не столько средством информации и развлечения, сколько толчком к образованию социальных групп и производству дискурсов. С небывалым ростом технологий они довольно быстро перестали восприниматься как чудо, которым еще сравнительно недавно показался бы, к примеру, мобильный телефон, или как воплощенная мечта, а как натурализованная принадлежность повседневной рутины. Никакая новинка уже не способна удивлять, повседневность широко открыта для любых технологий и новых героев, которые утратили свой героический характер, сменив борьбу в открытом поединке на очередное шоу «бои без правил» или, что еще более характерно, на соревнования в скорости поедания хот-догов. «Экзальтированные биографии героев производства уступают повсюду сегодня место биографиям героев потребления… Все эти великие динозавры, которые являются центром хроники магазинов и телевидения, в них прославляется жизнь, полная избытка, и возможность чудовищных расходов» (Бодрийяр Ж., 2006: 70). Но это возвеличение потребления не выводит его за грани повседневного, напротив, оно подчеркивает возможности массы потреблять безгранично, отбрасывая уже ставшие ненужными продукты, которые еще вчера были объектом вожделения. Таким образом, повседневность сегодня представляется рутинизацией того, что еще вчера имело статус необычного, праздника, вожделения и соблазна. «Повседневность, – пишет Ж. Бодрийяр, – является с объективной точки зрения тотальности бедной и остаточной, но в другом смысле она является торжествующей и эйфорической в ее стремлении к тотальной автономизации и переинтерпретации мира „для внутреннего потребления“. Именно здесь находится внутренняя органическая связь между частной сферой потребления и массовыми коммуникациями» (Бодрийяр Ж., 2006: 16). К этому стоит добавить, что и сами массовые коммуникации становятся предметом потребления и неотъемлемой частью повседневности. Они вошли в область обыденной жизни настолько прочно, что их часто не замечают, они становятся фоном для других видов деятельности, но, тем не менее, даже выступая в роли «деятельности вне фрейма» (термин И. Гоффмана) они успешно играют свою роль в конструировании образа мира. В то же время масс медиа помогают включению в повседневное многих пластов культуры, которые носили эксклюзивный, ауратический характер. Они также уменьшают необходимость в непосредственном общении с культурными институтами, так как все – начиная от путешествий и кончая концертов великих музыкантов – можно воспринять в медиатизированном виде. Несмотря на различие между реальным событием и его репрезентацией, все большее количество людей живут в мире репрезентаций, не ощущая потребности в соприкосновении с «первичным» культурным текстом, а, напротив, увеличивая потребление репрезентаций. Процесс потребления также объединяет специализированные и обыденные знания, так как в повседневную жизнь человека входит все больше и больше технологических приспособлений, которые делают нас потребителями специальных знаний в форме различных инструкций. Большинство технических новшеств требуют определенных навыков обращения с ними, и, хотя мы вовсе не становимся специалистами в области электроники или какой-либо другой области знания, но определенными техническими навыками нам приходится овладевать. У современного человека в результате широчайшего воздействия рекламы формируется потребительская установка, которая превращает жизнь человека в его индивидуальное дело, потребительская активность создает индивида (Бауман, гл. 2). Таким образом, в процессе потребления человек приобщается к специальному знанию, или, вернее, часть специального знания трансформируется в обыденный навык обращения с технологией и многочисленными гаджетами.
Поскольку все большие культурные пространства входят в повседневную жизнь, необходимо выделить основные характеристики культуры повседневности, что также даст возможность понять, что не является культурой повседневности, где современному человеку можно найти не захваченный повседневностью культурный ареал. Концепция значимости повседневной культуры разделяется многими исследователями, ей придается роль фундаментального основания человеческого существования. Как фундаментальную реальность понимают повседневность Л. Костюченко и Ю. Резник, отмечая, что в ней «постоянно пребывает большинство людей. Поэтому этот мир воспринимается конкретной личностью как естественный, неизменный и предзаданный (предшествующий появлению институтов и других организационных форм совместной жизни) порядок жизни, часть жизненного процесса личности, включающая в себя „рутинообразные“, повторяющиеся жизненные явления и связанные с ними условия воспроизводства ее жизнедеятельности» (Костюченко, Резник: 219). Наше мнение о растущей значимости повседневной культуры подтверждается и многочисленными изданиями, посвященными исследованию повседневной жизни различных культурных общностей в различные исторические эпохи, причем этот аспект человеческого существования привлекает к себе большое внимание, перестав считаться вторичным или малозначительным, как это было в традиционных исследованиях по истории культуры или искусства. Не обошла своим вниманием культура повседневности и область образования – курсы по культуре повседневности читаются во многих университетах. Такое внимание к культуре повседневности связано, на наш взгляд, с распространением расширенного понятия культуры. В результате в орбиту исследователя попадает масса культурных объектов, которые ранее просто не считались достойными изучения и серьезного исследования, к примеру, вся область популярной культуры, которая стала предметом серьезных научных исследований лишь в первой половине ХХ века. Культура повседневности привлекала внимание этнологов и антропологов, которые исследовали ее на материале культур, отличных от культуры исследователя – различных малоизвестных этнокультурных общностей, племен и т. д. Только во второй половине ХХ века возникают исследования, посвященные повседневной жизни современного общества. Они появляются в самых разных дисциплинах – истории, социологии, культурологии.
Поскольку культура повседневности связана с микродинамическими социальными процессами, для ее изучения часто применяются микроподходы, разработанные в социологии и исследующие малые группы – нескольких человек, ведущих небрежный разговор, семью и т. д. С помощью интеракционистского подхода можно делать обобщения, касающиеся повседневных форм взаимодействия. Следуя этим обобщениям, представители интеракционизма стремятся объяснить поведение людей как на макро-, так и на микроуровнях. Этот подход рассматривает людей как живущих в мире значимых объектов, которые могут включать материальные вещи, действия, других людей, взаимоотношения и даже символы. Фокусирование на повседневном взаимодействии малых групп помогает представителям этого направления лучше понять процессы, происходящие в обществе в целом. Основателем интеракционизма считается Дж. Г. Мид, чьи исследования часто ограничивались ситуациями общения двух человек или малых групп. Мид был заинтересован в наблюдении самых минимальных форм коммуникации – того, как человек улыбается, хмурится, кивает головой – и в понимании того, как более широкий контекст группы или сообщества влияет на индивидуальное поведение. Несмотря на то, что Мид не сформулировал свои идеи в форме книги (с ними можно ознакомиться по лекциям, записанным и изданным после его смерти его учениками, как это было и в случае с Ф. де Соссюром), они оказали значительное влияние на дальнейшую работу в этом направлении анализа обыденной культуры. Для интеракционистов особо важную часть человеческой коммуникации представляют символы (недаром это направление часто называется символическим интеракционизмом). Исследователи отмечают, что такие повседневные жесты как, к примеру, сжатый кулак имеет социальное значение, разделяемое членами сообщества, в то время как в другом культурном сообществе это значение может быть иным. Различные типы символической интеракции рассматриваются как формы невербальной коммуникации, которые могут включать различные жесты, выражения лица и позы. Невербальная коммуникация, будучи органической частью человеческого поведения в повседневной жизни, является важной частью человеческого поведения. Еще Дарвин отмечал, что базовые формы выражения эмоций одни и те же для всех человеческих существ (под основными эмоциями понимаются счастье, огорчение, злоба, отвращение, страх, удивление. Интересно отметить универсализм этих эмоций, который проявляется в классификации эмоций в столь отдаленному от современности во времени и пространстве памятнику древнеиндийской культуры как «Натья шастра», трактат по искусству драмы, музыки и танца). Антрополог П. Экман, проводя исследования в Новой Гвинее, пришел к выводу, что передающие эмоции выражения лица и их интерпретации являются для человека врожденными, хотя присутствуют и индивидуальные, и культурные факторы (к примеру, манера улыбаться).
Большую роль в изучении повседневного поведения человека сыграли работы И. Гоффмана, который разработал так называемый драматургический подход. Согласно этому подходу, повседневная жизнь сравнивается с театральными декорациями и сценой. Так же как актеры представляют определенные образы, все мы стремимся представить определенные черты наших индивидуальностей, в то время как другие черты мы скрываем. Гоффман рассматривает виды деятельности, оформленные определенным образом в реальном мире социального взаимодействия. Индивиды (которые, согласно этому подходу, являются акторами) постоянно встречаются со стимулами, выходящими за рамки культурного фрейма. Акторы одновременно замечают и игнорируют их, так как они могут вовлечь их в «деятельность вне фрейма». Примером может служить публика в кинозале или телеаудитория, которая, смотря фильм. Думает о жизни звезд и тому подобное. Еще одним видом повседневной интеракции является «гражданское невнимание», когда проходящие мимо люди как бы не замечают друг друга. Это не случается, когда люди в упор смотрят друг на друга (влюбленные, члены семьи, враги). Исследования такого рода, хотя и могут показаться незначительными, на самом деле имеют глубокий смысл для понимания человеческого поведения. Рутина повседневного существования составляет большую часть социальных действий. Наша жизнь строится из однообразных поведенческих ритуалов. Перемены в жизни человека ведут к изменению рутины. Каждодневные занятия определяют структуру и форму действия, и изучение их дает более глубокое понимание жизни человека как социального существа.
Еще одним подходом, оформившемся на основе интеракционизма, является этнометодология (изучение «этнометодов, т. е. народных, обыденных методов, которыми люди пользуются, чтобы осмыслить речь других), задачей которой является исследование того, как люди рассматривают, описывают и объясняют разделяемые значения, подлежащие повседневной социальной жизни и рутинным социальным действиям. Основатель этого направления Г. Гарфинкель ставил эксперименты, суть которых состояла в неожиданном нарушении общепринятого и нормального хода событий, что позволяет выявить содержание и формы обыденных идей и представлений, не обнаруживающихся при нормальном течении жизни… Этнометодологические опыты Гарфинкеля помогали выявить логику повседневности при помощи интерпретации, превращающей бессмысленное и непонятное в осмысленное и понятное в терминах повседневной жизни.
При всей значимости выводов, сделанных в результате исследований, поведенных в различных направлениях интеракционизма, они не объясняют отличия взаимодействия людей в обыденных и профессиональных формах деятельности, принимая повседневность как данность и не сопоставляя ее с профессиональной сферой жизнедеятельности. В связи с нашей концепцией расширения сферы повседневности этнометодологический подход может быть весьма плодотворным в выявлении степени проникновения поведения, характерного для повседневности, в профессиональную сферу. Последние тенденции в области образования показывают, что неформальные межличностные отношения, характерные для сферы повседневности, зачастую лучше „работают“, чем формальные институциональные паттерны поведения. Последние вызывают отторжение, которое ведет к увеличению разрыва между участниками образовательного процесса, но, с другой стороны, приводят к изменению всей структуры образования на разных уровнях, что и озвучивается обеспокоенными сторонниками традиционного образования как „кризисная ситуация“. Учитывая, что область образования стала одной из локализаций внедрения новых технологий, которые в корне меняют традиционные ролевые функции, можно говорить о том, что межличностное общение все больше переходит в повседневное общение партнеров, в то время как функции авторитета переходят к машине, которая и определяет уровень специализированного знания в многочисленных тестах, ЕГЭ, проверках остаточных знаний и т. д. Преподавателям и студентам не остается ничего, как общаться в пространстве повседневного взаимодействия, где их роли условно разграничены, но не иерархизированы. В новом типе обучения преподавателю уделяется роль менеджера, которую, собственно говоря, может сыграть и любой ученик или студент, причем лучше, так как он обладает лучшей технической грамотностью. Специализированное знание перешло к машине, но и она не является исключенной из повседневности, так как не обладает эксклюзивностью – все возможные варианты требуемых ответов доступны и требуют лишь некоторых технических навыков и терпения, чтобы успешно „отчитаться“ о знаниях, которыми студент или ученик не обладает. В этих условиях интеракция между живыми людьми – участниками нового типа учебного процесса – может показать тип изменений, которые внесли новые технологии в человеческое взаимодействие, и методы этнометодологии могут сыграть в этом важную роль.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?