Текст книги "Театр тающих теней. Словами гения"
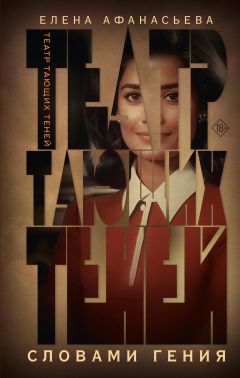
Автор книги: Елена Афанасьева
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Эва машет головой – нет. Пусть директор сам вычисляет, будет на приеме Каэтану, ставший премьер-министром Португалии после Салазара, или не почтит своим присутствием. Ей без разницы.
«Луиша не бери».
Туфли на пытающих шпильках сбросила прямо в студии, неудобно перед секретаршей – утром во время тракта директор приказал секретарше отдать свои шпильки, принесенные на работу «для особого случая», Эве, а она бросила прямо в студии, не поблагодарила, в руки не отдала. Но сил на «неудобно» не осталось.
Босиком мимо всех аплодирующих, лезущих обниматься и поздравлять с наступающим.
Мимо цензора-службиста с его вечным синим карандашом:
– С наступающим, конечно. Но дважды было не по тексту.
– Эйсебио говорит об окончании карьеры в сборной, а я должна читать следующий вопрос «по тексту» только потому, что он завизирован?!
– И все же! – кхекает цензор. – Нужно быть аккуратнее. Тем более вам сегодня на такой прием!
Мимо.
Мимо обнимающихся, орущих, выпивающих, мимо.
Сорвала удушающую бархотку, которую три часа назад костюмерша, как удавку, застегнула вокруг шеи.
– Писк сезона. Парижский «Вог», январский номер уже 1974 года. Из Марселя привезли. Брат ее матери ходит на торговом судне. Вот! Смотрите! А она – «не надену». Хорошо, директор заставил! Недавно еще такой скромной была, а теперь эти звездные капризы – не надену! – раскуривая очередную сигаретку, костюмерша жалуется оператору, на которого имеет виды.
Оператор слушает, кивая головой китайским болванчиком. Еще с середины дня он веселее, чем положено от стакана домашнего вина на обед, явно фляжка с крепким порто у него во внутреннем кармане куртки, что во время прямых эфиров строго запрещено, но сегодня же Новый год.
– Если б не выкинула ребенка, когда наши на Уэмбли обыграли Советы, может, все сложилось бы иначе. – Оператор, как любой мужчина в этой стране, измеряет жизнь футбольными чемпионатами.
– Луиш ей не пара. Еще один ребенок ничего бы не изменил. Лишь бы он опять сюда не явился. Прошлый раз синяк ее целый час театральным гримом замазывала…
– Светом я тогда ее «замазал», диффузион поставил! Хорошо, что это не новости были и можно было с фильтром поиграть.
Оператор разговор вроде бы и поддерживает, но совсем не так, как хочется костюмерше. То про футбол, то про осветительные приборы, то, что совсем уже неприлично в разговоре с дамой, про выкидыш новой телезвезды Эвы Торреш говорит, но на продолжение новогодней ночи не намекает. И костюмерше приходится шумно затягиваться, оставляя следы красной помады на фильтрах сигарет, докуренных лишь до середины. По этим длинным окуркам с красными ободками от помады ее можно было бы найти в любом лесу – просто Мальчик-с-Пальчик с бюстом пятого размера.
Корсет Эва бы тоже расстегнула прямо в студии, но корсет не туфли, так просто не скинешь. Пыточное орудие! Как она его раньше носила, когда мать заставляла надевать в церковь и по праздникам! Утром к причастию удалось сходить без корсета, так здесь не отвертелась.
С корсетом придется тянуть до гримерки, а бархотку с царапающейся органзой сейчас сорвать.
– А вы де́ржитесь, деточка! – часом ранее, выходя из кадра на рекламной паузе, обратилась к ней Амалия. Великая. Такая туфли на публике не сбросит и бархотку с шеи не сорвет.
В детстве, заглядывая через дорогу в окно дома напротив, где появилось невиданное чудо с движущимися, как в кино, картинками – телевизор, Эва мечтала, как вырастет и будет вести передачи, в которые будут приходить все самые известные артисты. Весной, когда распахивались окна, картинка в окне из немой превращалась в звучащую, в которую то и дело врывался дребезжащий по их улице и звенящий на крутом повороте трамвай. Из того окна впервые слышала голос Амалии Родригеш. С тех пор фаду и Амалия слились для нее воедино.
Узнав, что главред навязал на новогодний эфир другого исполнителя фаду, Жуана Брага, Эва уперлась – тогда и Амалия должна быть! Не может в главном эфире года быть фаду без Амалии, всего лишь с каким-то там Брагой.
Амалию пригласили. Но и Брагу оставили. Пришлось по написанному тексту задавать ему заранее согласованные вопросы, еще сильнее растягивать гримасу улыбки, стараясь смотреть мимо, и слушать унылые ответы, как врачи в его детстве сомневались, что тот доживет до совершеннолетия, но на все воля Божья, и его вера, и его музыка, и вот он здесь!
С Брагой пришли двое. Безликие. Один пониже, пожиже, со сломанным, скорее всего, носом – в лице какая-то асимметрия, другой повыше и поплотней. Даже не представились. За спиной оператора весь час простояли. То ли проверяли, то ли ждали. Руки в карманах. Прощались, она руку протянула, так они еще думали, доставать ли руки из карманов или нет! Который пониже, посмотрел на другого, нехотя вытащил руку. А рука влажная, противная, даже не по себе стало. Так захотелось свою руку немедленно вытереть, что не заметила, как пожала руку другому, и что-то в руке того второго задело, а что именно, уже не вспомнить. И тот второй улыбку скривил, как тот клоун. Опять клоун?!
Или не по себе стало раньше, еще до этого странного рукопожатия?
Из-за скандала с Луишем на проходной? Но к скандалам не привыкать…
Что-то другое…
Уходя, великая обронила «до встречи». Знала, что Эву пригласят встречать Новый год на закрытый прием, «где будут все».
Мечты маленькой девочки из старого дома в Алфаме сбылись? Она должна чувствовать счастье. Только почему бархотка так впилась в горло? Уже и сорвала ее, петельки порвала, костюмерша ворчать будет, на шее ничего больше нет, а давит. Что-то давит. Если греховно верить в переселение душ, в какой-то прошлой жизни ее душили. Или в следующей жизни душить будут. Только при матери про переселение душ упоминать не надо, не поймет.
Несмотря на строгое воспитание, материнской католической истовости в ней нет. А давний разговор в университетском клубе о переселении душ все чаще в памяти всплывает. Быть может, в прошлой жизни ее душили. Сжали горло и давили, пока не перестала дышать. Иначе откуда этот парализующий ужас, это вечное стремление оттянуть любой воротник, любой модный свитер под горло, любую клеенчатую накидку, которую парикмахерша затягивает, чтобы состриженные волоски не попадали на одежду. Или ту, которую костюмерша накидывает, чтобы румяна и пудра во время грима не испачкали эфирный костюм. Оттянуть, убрать и дышать, дышать.
Босиком в тонких капроновых чулках до гримерки добежала, но застежки на спине самой не расстегнуть, придется еще ворчание костюмерши терпеть, пока та расстегнет платье и расшнурует корсет.
Еще немного, еще несколько крючков на платье.
– Что это на тебя сегодня нашло? Как дьявол, прости Господи, вселился! – Костюмерша только отложила в пепельницу свой длинный окурок, и от ее пальцев нестерпимо пахнет крепким табаком.
Сейчас, сейчас, платье уже сползло с плеч, сейчас ее вызволят из корсета.
– Нет бы пойти в такое общество в приличном платье!
Слухи о приглашении на главный прием разнеслись по студии, костюмерша, поди, уже представляет себя на ее месте.
– Корсет затянут, вид представительный! Как телезвезде подобает! Так нет же!
– Расстегивай! Молча!
Что с ней сегодня? Никогда не позволяла себе так разговаривать, ни с кем. А сейчас вырвалось.
Еще несколько петель, несколько последних шнуровок. Корсет падает. В зеркале отражается она. В чулках и белье. С маминым кольцом на руке.
Почему не возмутилась днем. Почему позволила себя так затянуть?!
«Нация будет смотреть».
Не умерла бы нация, если бы ее талия была сантиметра на три шире. Выйти бы к этой нации в чем утром была – в брюках, в свитере, и сказать: «Нация! Это я, твоя Эва! Ты же любишь меня! Пишешь мне письма! Подбегаешь на улицах за автографом. И что же теперь, Нация? Я нужна тебе только в парчовой смирительной рубашке с декольте и душащей бархоткой на шее? Кукла из магазина детских игрушек на Авенида да Либердаде. Статуя святой Мадонны из крашеного дерева в соседнем храме. А другая я, обычная Эва, в новогоднюю ночь тебе, Нация, не нужна? Тебе нужно это платье, эта талия, эта бархотка, кого бы в них ни нарядили – Эву, Ану или Марию?»
Почему же невозможно дышать? Будто великан с гирями поставил одну гирю ей на грудь. Уже распустили шнуровку на корсете – только впившиеся в кожу следы остались, а сделать нормальный вдох не получается. И тревога, такая неясная тревога внутри.
Приглашение на правительственный прием весьма кстати. Конечно, ночной прием будет стоить ей скандала дома, но это будет завтра, а сейчас…
Ехать встречать Новый год в обычной компании старых друзей-коллег никакого желания нет, Луиш туда обязательно заявится, а Новый год, говорят же, как встретишь, так и проведешь. Домой не хочется. К матери тоже. Мать Новый год никогда не встречает – что за праздник?! Рождество наступило, это главный день года, зачем еще что-то праздновать, уверена мать.
В перерыве на розыгрыш лотереи Эва звонила ей сказать, что не сможет забрать девочек, мама не дослушала, пошла номера проверять – на Господа нашего надейся, но лотерейные билетики купить никогда не помешает. Откуда в ревностной католичке эта странная надежда на лотерею? Как и у всей страны. Несколько розыгрышей лотереи Эва проводила сама, после чего стали узнавать самые древние старухи-старьевщицы на рынке Feira Da Ladra.
Сейчас она придет в себя, переоденется и поедет. Хорошо, что ночной новогодний концерт заранее записан. Еще несколько часов в корсете с бархоткой и на шпильках она бы не простояла.
– Грим смывать будем? Для приема студийный грим надо смыть и сделать тебе новое лицо.
– А новую шею можно? – рукой пытается убрать след от сорванной бархотки.
– На такой прием нужно только в мехах! Сколько говорю, звезде нужны меха! А ты все потом да потом. Дочке пальтишко, Луишу костюм! Как на Главный прием идти в таком виде?! – костюмерша не унимается.
– Каком «таком»?
– В обычном!
– Эва готова? – секретарша директора Гонсальвеша на пороге. Со своими туфлями в руках. – Просили поторопить. Машина ждет.
– Поеду на своей. – Опять улыбка на ее лице растянулась в гримасу злого клоуна. Когда уже все закончится?! Скорее бы закрыться в коробочку своей машины и «снять» это лицо звезды.
– Не пропустят. Дворец Келуш! – мечтательно произносит секретарша, смакуя слова. – Тройная проверка. В списках только машина директора. Сказал поторопиться, не то Новый год наступит без вас.
Новый год. Праздник. Эва всегда любила его больше, чем такое строгое Рождество, в чем невозможно было признаться маме: о, Рождество! О, волхвы! О! Хотя какие волхвы, какие ясли, на улице почти всегда в Рождество идет дождь. Ветер и дождь. И мама тащит ее, Эву, с огромным бантом, туго затянутым на голове, в церковь. И никаких тебе пасторальных видов заснеженных гор и Санта Клауса как на открытках, которые брат матери из Бельгии привозил.
Дядя Гильерме плавал по разным странам и в детстве казался ей волшебником – он привозил всякие диковинки, которых не было у других девочек в классе. Как те рождественские открытки – девочки-ангелы с чудесными длинными локонами, в красивых длинных платьях. И вокруг снег. А у нее бант на макушке и волосы зачесаны так, что болит голова, – распутство не подобает, особенно в церкви! – и вместо пушистого снега только ветер с дождем. Такой колкий ветер, и никакой сказки. Может, поэтому она и любила Новый год больше Рождества, что не зачесывали так туго волосы под бантом, дома можно и просто с двумя косичками.
Откуда же теперь эта тревога, эта гримаса вместо улыбки, эта боль в груди?
Днем же все было нормально. Луиш на проходной почти не в счет, к постоянному стыду за выходки мужа она уже привыкла, хотя перед новыми охранниками неудобно.
Провела утренний тракт, пила кофе, ругалась с партнером, самодовольным индюком, – вечно норовит сказать ее реплику быстрее ее самой. Костюмерша переодела ее перед вечерним эфиром, если бы не прицепила эту дурацкую бархотку, вообще все было бы хорошо. Но не в бархотке же дело. Что там еще сегодня было?
Мокрая ладонь того безликого, который со сладостным «фадистом» пришел? И второго безликого ладонь – вспомнила, что в ней задело! Указательный палец без одной фаланги.
От них тревога пошла? Нет, от них просто противно стало, не больше, как всегда становится противно от присутствия надзирателей в студии.
Тревога случилась раньше. Почему входила в студию нормально, а представляя Эйсебио, уже почти задыхалась? Что произошло за полторы минуты от гримерки до начала эфира?
Мысленно вернуться назад, оттянуть только что застегнутую бархотку от горла, поперхнуться от лака, которым костюмерша-гримерша истово поливает укладку. Скинуть вязаную кофту, в которой сидела, чтобы не войти в кадр с гусиной кожей на открытых плечах, дойти до студии, перекинуться парой реплик с еще трезвым оператором за третьей камерой, краем глаза следить за эфирным монитором, на котором заканчивается документальный фильм о Салазаре – в наступающем 1974-м ему исполнилось бы восемьдесят пять, проверить эфирную папку…
Стоп!
Вот она, тревога! Паника. Удушье!
Фильм о Салазаре.
Последние кадры – монтаж фотографий и кадров разных лет. И последних – совсем пожилого, но еще премьера, когда она сама писала тексты не выходящих в эфир выпусков новостей, созданных для единственного зрителя. И средних лет сухого строгого диктатора, которого она помнила с детства. И более молодого, вполне импозантного, но уже лидера нации, снятого еще до ее рождения…
Показалось! Не может же такого быть! Она бы знала! Показалось.
Показалось, что в кадрах Салазара в оперной ложе за спиной диктатора стоит…
– Эва! Я же просил поторопиться! – Директор, уже в пальто, идет по коридору навстречу. – Еще же доехать! Нельзя опаздывать!
– Фильм… К юбилею Салазара… – Она снова почти задыхается.
– Что фильм? Прошел. До твоего эфира. Без замечаний. Все завизировано. В аппарате премьера проверяли. Ты еще без пальто, хотя сегодня лучше бы манто!
– Мне нужно посмотреть этот фильм. Сейчас.
– С ума сошла!
– Не весь фильм. Только финал…
– Ты приглашена! На правительственный прием! Во дворец Келуш! Фильм посмотришь после праздника.
Директор все еще думает, что у нее блажь, капризы после тяжелого эфира. Но Эва, обойдя директора как препятствие, почти бежит в сторону аппаратной, в которой до сдачи в архив хранится все, что вышло в эфир. Сегодня праздник, не работающих на трансляции сотрудников отпустили с середины дня, ее эфир был позже. Бобина с фильмом должна быть где-то в аппаратной.
– Эва!!! Да что же ты будешь делать! – Директор Гонсальвеш бежит следом, понимая, что его самого пригласили в Келуш только вместе со звездой телевидения и один, без Эвы, он на приеме никому не интересен.
Аппаратная большой студии уже закрыта, прямой эфир закончен, запись концерта идет в эфир из аппаратной малой студии. Бобина с фильмом осталась в большой.
– Ключ! У кого ключ?! Ключ можете найти скорее, черт побери! Куда его можно было деть за три минуты?! Я же только что вышла из студии! Там еще были люди!
– Не кричи! Ушли все! Новый год через час! И если мы не доедем… – Директор начинает чесать ладони.
– Не кричу! Мне нужен ключ! И вас с наступающим Новым годом, только найдите мне ключ. Имею я право получить ключ или нет?! Как не имею?! Мне нужен ключ! Никуда не поеду, пока не посмотрю! Почему так долго несут?! Почему замок заедает, неужели нельзя поменять на двери замок?! Не настолько уж плохи дела в экономике страны, чтобы главная телестанция не могла поменять замок на двери аппаратной главной студии! Или настолько? А если он однажды заест, а я буду внутри и не смогу выйти в эфир, кто виноват будет?! Вы интервью с начальником Генерального штаба Кошта Гомишем будете вести?! Не собираюсь я сейчас вести интервью с Гомишем. Да собираюсь я на ваш прием! Хорошо, не на ваш! Мне нужно только посмотреть последние кадры фильма! Кто-нибудь может зарядить бобину?! Может хоть кто-нибудь на главной телестанции страны зарядить в аппарат фильм и перемотать его на последнюю минуту?! Слава тебе господи, операторы нормальные люди, все умеют! И тебя с наступающим! Нет, выпить с вами не могу! Не могу никак выпить! Заряди, пожалуйста! Перемотать на начало явно еще не успели, там только минуту отмотать обратно! Не чешите ладони, директор! Расчесанными до крови руками здороваться с премьер-министром неприлично! Я только посмотрю… Нет, этого я в студии еще не видела, чуть дальше. Да-да. Отсюда. На замедленное воспроизведение поставить можете?
Салазар на трибуне. Салазар за рабочим столом. Коимбра, кадры родного университета, куда диктатор каждый год посылал письмо ректору с просьбой продлить ему отпуск в связи с исполнением обязанностей премьер-министра. Салазар серьезный. Салазар улыбается. Салазар – любитель оперы на открытии сезона 1940 года в ложе, чуть сзади молодая женщина, смутно похожая на…
– Стоп! Я не кричу! Я прошу сделать стоп-кадр! А увеличить можно?! Увеличить изображение на целой телестанции кто-то способен?! Да-да! Еще чуть. Да… да… И пустить замедленно.
Ледяной диктатор. Тридцать пять лет у власти. Самый закрытый человек мира. В опере. За плечом его молодая женщина…
Мама…
В том же платье, как на фото, которое стоит дома на подаренном ей Эвой телевизоре.
Кадр за кадром на замеленном просмотре диктатор Салазар медленно, очень медленно протягивает в сторону мамы правую руку.
И на его руке хорошо видно кольцо. Старинной вязи. С крупным камнем – в черно-белой кинохронике не виден цвет.
Эва медленно переводит взгляд от экрана на свою руку. И обратно на экран.
На экране на мизинце диктатора кольцо. С камнем, который в черно-белой съемке кажется черным. И который на деле кроваво-красный.
Кольцо, которое на ее среднем пальце сейчас!
О, счастливчик!
Монтейру
Гоа – Испания. 1930-1940-е годы
Он – счастливчик. В последний момент судьба всегда переворачивается так, что вытаскивает его из самых безнадежных ситуаций. Даже когда кажется, что все плохо, тьма, провал, он сам точно знает, что могло быть намного хуже, несравнимо хуже. И что так судьба спасает его.
Мог умереть в детстве, стань он в тот раз не сзади Раби, а впереди него.
Могло ему, восемнадцатилетнему, оторвать руку или ногу в Битве на Эбро.
А сколько раз могли убить в том невероятном месиве, в котором ни франкисты, ни республиканцы не могли подсчитать потери, сбивались на десятках тысяч убитых и раненых.
И сколько раз могли пристрелить или прирезать из-за угла.
Но каждый раз судьба останавливала его в шаге от смерти.
Он родился в Португальской Индии. Гоанка Мария – смуглая кожа, черные глаза – приглянулась его отцу, голубоглазому колониальному офицеру Жозе Монтейру.
Дальше все должно было быть как у всех – мало ли смуглых детей с голубыми глазами бегает по гоанским трущобам! Признавать внебрачных отпрысков офицеры во все века не спешили. Мог и он всю жизнь прозябать в трущобах. Но отец оказался сторонником идей лузотропикализма[2]2
Лузотропикализм (от лат. Lusitania и порт. tropico) – вера, особенно сильная в «Новом государстве» Салазара, в то, что португальцы – лучшие колонизаторы среди всех европейских народов.
[Закрыть], с гордостью говорил об особой миссии Португалии в колониях, их особом в отличие от Британии и Нидерландов колониальном пути: жаркая Португалия лучше осваивает свои южные территории, чем холодные северные страны, португальцам легче устраивать там свою жизнь, и этнически они ближе завоеванным народам, лучше их понимают и не довлеют, а грамотно управляют. И браки с местными жителями тому свидетельство, – говорил португальский офицер Монтейру и женился на гоанке Марии.
Так еще до рождения Казимиру повезло в первый раз, когда он не стал бастардом в трущобах, а рос законным сыном португальского народа.
Портрет дальнего предка, сколько он себя помнил, висел в гостиной, и мать несколько раз в год протирала раму темного дерева уксусом, чтобы от влажности не заводился грибок. Отец сажал маленького Казимируша в гостиной и снова и снова рассказывал про предка, который в 1820 году защищал идеи абсолютизма, против временной жунты и созванных кортесов с их конституцией, присягнуть которой заставили даже короля Жуана VI. Но предок выступил за принца Мигела Брагансского, которого в ходе мигелистских войн и привел на престол и сам первый присягнул королю Мигелу I.
Казимирушу не было никакого дела до предка с картины. Хотелось скорее за ворота, где за пустующим четвертым домом в кустах бамбука шла игра в ножички. На деньги. Но он должен был чинно сидеть в чистой рубашке с вымытыми руками и ушами и выслушивать рассказ про какого-то давно умершего старикана, который что-то там сделал за сто лет до его рождения.
Игра в ножички завораживала. Начинали на щелбаны. Потом старшие мальчишки принесли монеты. Так пошла игра на деньги. У кого денег не было, ставили свои спины – в случае проигрыша должны были катать старших на себе. А старшие, сидя на спине, подхлестывали проигравших плеткой, как слонов, прикрикивая, как кричат белые на рикшей: «Вперед, гои!»
В один из дней проиграли он и маленький Раби. Стали друг за другом, изображая слона или лошадь. Один из старших, Мигел, – толстый, сопливый, ярко-розовый – белая кожа сгорала на местном солнцепеке, – забрался на них и ногами сжал его ребра и хлестанул по воздуху плеткой.
– Поехали! Хой-хой!
Позвоночник, показалось, проломится от тяжести толстого Мигела и ребра все разом треснут – так ездок сдавливал их ногами.
Пот заливал глаза. Ноги подкашивались. И страшнее, чем тяжесть толстого и тычки его вонючих ног по бокам, были его крики: «Вперед, гои! Вперед!» Это значило, что из-за передавшейся ему от матери смугловатой кожи его причисляли к местным, к людям низшей расы. А это было постыднее, чем катать белого толстяка на себе.
– Хой! Хой! Еще круг!
Казимируш почти не слышал окриков и свиста разрезающей воздух плетки. Пару раз, когда плетка, делая свой замысловатый финт в воздухе, отскакивала назад, толстый Мигел попал ему по ногам. Обожгло чуть выше колен, но со сдавленными боками он едва мог дышать и ожогов от плетки не заметил.
Пожалел, что встал вторым, – весь вес пришелся на его спину, а Раби оставалось рулить. И только когда толстый Мигел под общие вопли и крики наконец-то слез с них, Раби рухнул на сухую бурую землю, увлекая его за собой – его онемевшие пальцы никак не хотели разжиматься и отпустить тощий живот первого возчика, – Казимиру понял, что он счастливчик.
Он лежал мокрый, грязный, но целый. Горящие от двух ударов плеткой ляжки и сломанные, как выяснится много лет спустя, ребра были не в счет по сравнению с тем коричнево-алым месивом, которое представляло собой тощенькое тело Раби.
Мальчик корчился на сухой земле. Густая коричневая пыль смешивалась с алой кровью и коричневатой кожей Раби. Пока Казимируш шел вторым, злясь, что принял на себя весь вес толстого, Раби достались все удары плеткой. Вошедший в раж, подзадориваемый другими мальчишками ездок что есть силы лупил его по бокам.
Кровь проступала сквозь рубаху. Корчившийся Раби шептал, что в таком виде домой нельзя, за испачканную новую рубашку мать будет ругать. Они долго сидели в грязноватом арыке, пытаясь смыть кровь с рубахи, снять которую у Раби не было сил.
Через четыре дня Раби умер. Колониальный доктор, пришедший в дом бедняги, сказал, что в раны попала инфекция из воды, что вызвало заражение крови. Откуда взялись следы плети на боках мальчишки, никто ответить не мог.
След от плети на его собственной ляжке поболел две недели и зажил. Дышать нормально он смог еще через месяц-другой, что три его ребра были когда-то сломаны, гарнизонный врач определит только при приеме на службу в семнадцать лет. Но он был жив. И точно знал, что больше никогда не позволит никому кричать на себя: «Вперед, гой!»
Он сам будет так кричать!
Оружие у отца было. Табельное. Но с ним Жозе Монтейру каждое утро уходил на службу. Стащить пистолет не представлялось возможным, как Казимируш ни ломал голову.
Спросил у отца, только ли странный портрет остался от предка с картины. Отец достал из скрипящего шкафа кремниевый мушкет, тот самый, что изображен на портрете, патронную сумку, показал, как заряжается мушкет – как ставится курок на предохранитель, засыпается в ствол порох, как шомполом протыкается в ствол завернутая в тряпку пуля, ставится огниво на полку и курок на боевой взвод. И даже показал, как прицеливаться. Только выстрелить не дал, забрал оружие из рук ребенка, все разобрал и вернул на место, в шкаф.
Ложась в кровать после обязательной молитвы и последнего на день материного «Аминь!», Казимиру приказал себе проснуться ночью. Проснулся. Пробрался к шкафу. И – снова ему везло – полная луна освещала комнату. Но скрипящий шкаф не дал себя тихо открыть. По ночному дому звук скрипа разнесся гулким эхом. В спальне родителей зажглась лампада.
Едва успел метнуться в свою комнату и упасть в кровать, как раздались шаги – мать шла проверять, все ли с ребенком в порядке. Он лежал не шевелясь, и только сердце после такого рывка колотилось такими громкими ударами, что выдавало неспящего. Тогда он мысленно приказал сердцу остановиться. Сердце не послушалось. Мать уже наклонялась к нему. Еще раз приказал, и… Стук сердца стих. Полная тишина.
– С сыном все в порядке. Что у тебя? – выходя от него, шептала мать отцу, проверявшему другие комнаты.
– Все тихо. Дерево рассохлось, дверца шкафа открылась и не закрывается. Нужно краснодеревщика позвать. Пусть до утра так стоит.
Родители ушли. Скрипящая дверь шкафа осталась открытой. Путь к пистолету был теперь свободен. Оставалось только дождаться, пока они уснут, и снова пробраться к шкафу.
Так он еще раз понял, что он счастливчик! И обрадовался так, что стал задыхаться, пока не вспомнил, что забыл разрешить сердцу биться. Сердце молчало, кровь перестала пульсировать. Успел опомниться и приказал сердцу стучать. Первые два удара сердце сделало еле слышно, будто не веря, что уже можно. Потом рвануло боем барабана на местном празднике. От каждого удара кровь устраивала внутри него бешеную пляску и, попав, наконец, в мозг, переворачивала все вокруг.
Лучше этого он ничего еще не чувствовал.
Позже, когда старшие в первый раз дали покурить анаши, понял, что все это мелочи по сравнению с тем, что он умеет делать с собой сам – останавливать и запускать сердце, вызывая состояние попадания в мозг чего-то лучшего, чем анаша или кокаин.
Утром за четвертым домом он не боялся уже никого. Мушкет предка за пазухой давал невиданную власть над теми, кто накануне обзывал его гоем и сжимал коленками бока.
Он смотрел в глаза. Сплевывал сквозь зубы. Блефовал. Делал все, что вчера казалось невозможным. И чувствовал в себе дикую буйную силу всевластья. И только тот толстый Мигел, что давил его бока и хлестал Раби, снова буркнул: «Твоя очередь, гой!», как он молча вытащил из сумки старый мушкет. Уже заряженный в точности как показывал ему отец. И пальнул.
Грохот выстрела, визг мальчишек, дым, запах пороха и след на щеке толстого – все смешалось в единое упоение собственным всесилием! Старый кремневый мушкет в руках неопытного мальчишки палил совсем не туда, куда он целился, пуля попала в дерево, под которым стоял толстый Мигел, и отлетевшая щепа оцарапала тому щеку.
Второй раз сразу пальнуть он не мог – нужно было заново набивать порох, шомполом проталкивать пулю, – но это и не потребовалось. Те, кто вчера его унижал, сейчас разбегались врассыпную и, высунув головы из-за деревьев, смотрели испуганно и уважительно. А потом, как завороженные, возвращались, посмотреть на диковинное оружие в его руках.
Гоем его больше не называл никто. Теперь он сам, ткнув бесполезным, но пугающим мушкетом в сторону местных гоанских мальчишек, прикрикнул:
– Чего застыли, гои! Кто за вас будет играть?!
Дальше он выиграл у перепуганных мальчишек с дрожащими руками несколько монет. И понял, что значит оружие за пазухой.
Больше он не боялся идти за четвертый дом.
Напротив, шел с той пряной радостью, какую ощутил однажды, быстро допив виски из стакана отцовского гостя, пока отец пошел провожать сослуживца. Глоток обжег все внутренности, нёбо загорелось. Потом загорелось горло и весь путь горящего глотка до самого желудка. Живот скрутило так, что он аж присел. Но потом пришла первая пьяная радость, а с ней ощущение всемогущества.
Деньги и старый мушкет давали такое же пьяное ощущение дикой силы.
Пробираясь ночью ко все еще не закрытому шкафу положить оружие на место, пока не хватился отец, он услышал странный шум из родительской спальни. Мать стонала. Хотел было тихо вернуться к себе и лечь в постель, но испугался, что мать заболела и умрет, как умерла на прошлой неделе от инфекции мать одного из игравших с ними в ножички гоанских мальчишек.
Подошел к родительской спальне. Дверь была не плотно закрыта. В зеркале у двери отражалась полная луна, освещавшая комнату, и кровать, на которой на спине лежала мать. Коричневые груди разъехались в разные стороны, и правая, которая была ему видна, потряхивалась в такт непонятных толчков, подпрыгивая и снова со странным звуком хлопка плюхаясь на материнский живот. Грудь скакала в ее странной пляске, мать стонала, извиваясь, задирала ногу, пытаясь схватить ее рукой и притянуть к голове.
Подумал, что родители его увидят, надо отсюда уйти. Но уйти не мог. Замер в странном оцепенении, не отводя взгляда от отражений в зеркале. Только молотки в голове в такт с движениями в зеркале стучали – бух-бух, и напряжение внизу живота выдалось вперед.
Коричневая грудь с почти черным соском, коричневая ладонь в нелепом напряжении, удерживающая коричневую лодыжку с беловатой ступней. Странный пряный запах пота и еще чего-то, ему доселе незнакомого. Как в плясках местных жителей на их празднике – неприятный, но затягивающий ритм, которому не хочешь поддаваться, но ноги уже отстукивают в такт. Все напряженнее ладонь, сжимающая нелепо задранную ногу. Материнские стоны. Все чаще и чаще. Все громче и громче. Яростный крик отца.
И все.
Картинка в зеркале исчезла. Лежавшие на кровати сдвинулись в другую, не отраженную в зеркале сторону.
И только он остался стоять с торчащими трусами, и еще несколько минут не мог сдвинуться с места, пока его что-то в трусах не уменьшилось в размерах, не повисло. тогда он смог снова сделать шаг.
– Твой отец ебал твою коричневую мать, – всезнающий толстяк Мигел после следа на щеке относился к нему как к равному. – А у тебя встал!
Казимиру еще не знал, что такое «ебал» и что такое «встал», но про себя отметил, что гоем толстяк его больше не называл. А за коричневую кожу матери бежать за пистолетом не хотелось – он уже был на стороне сильных. Напротив, хотелось возненавидеть эту дрыгающуюся на кровати мать, за ее мутные, как у всех местных, глаза, за ее коричневые, плюхающиеся по бокам груди. За те стоны. За то, что у него встал и он не мог пошевелиться. И за то, что теперь очень хотелось, чтобы у него встал еще.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































