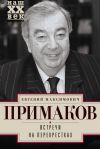Текст книги "Конек Чайковской. Обратная сторона медалей"

Автор книги: Елена Чайковская
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
После 1970 года наступила мировая гегемония Пахомовой и Горшкова. В последующие шесть лет они лишь раз проиграли – в 1972 году красивой немецкой паре Анжелике и Эрику Букам, брату и сестре. На том чемпионате Европы в шведском Гетеборге расклад судей оказался такой: пятеро «капиталистов» и четверо «социалистов».
А уже на чемпионате мира в канадском Калгари через полтора месяца Мила и Саша выиграли вчистую!
Но самым тяжелым оказался не 1972-й. Год, когда за семилетний период своего доминирования они проиграли единственный раз.
Самым страшным стал 1975.
В тот год Александр Горшков стоял на краю гибели. «Его спасло чудо» – не фигура речи.
Это был тот случай, когда человек «упал» – и никто не верил, что он сможет подняться. Тем более, подняться так быстро.
Какой бы гениальной фигуристкой Пахомова ни была, но через две недели после пограничной, без малейшей уверенности в положительном исходе операции на легком Людмила выйти на лед не смогла бы.
И из 100 мужиков тоже вышел бы только один – я уверена.
И этот один – Александр Горшков – вышел и катался, теряя сознание.
Признаюсь, я тогда была против такого решения. Но Саша его принял – и Мила, возможно, к этому подталкивала своего супруга и партнера.
А всего за несколько недель до этого, на чемпионате Европы в Копенгагене они выиграли. Ребята обошли моих же Линичук с Карпоносовым. С ними весь год тренировались на одном льду. И притом оказались сильнее очень перспективной пары Ирина Моисеева и Андрей Миненков, которую тренировала Татьяна Тарасова.
Представители советского Внешторга попросили тогда Милу с Сашей после показательных выступлений сфотографироваться на фоне рекламного плаката нашей экспортной водки.
Конечно, я была против. Но приехали люди то ли из советского посольства, то ли из торгпредства и сказали: «Надо! Приказ из Москвы!» Я им говорю, что во дворце этом датском холод собачий и сквозняки. Но посольским было плевать на датские сквозняки и на последствия.
Эта дурацкая фотосъемка в продуваемом насквозь зале могла стать толчком к обострению болезни. Горшков начал покашливать. Саша потом признался, что ему очень тяжело. Это он-то – человек, который никогда ни на что не жаловался. Он всегда терпел до последнего.
Во время перелета Копенгаген – Москва было видно, как Сашу мучают боли. Он из хвоста самолета ко мне подошел: «Ленуля, мне плохо».
А у меня был приличных размеров кусок настоящего мумие. Я им выдавала это азиатское чудо-средство по четвертушке. Со спичечную головку. А тут я посмотрела на Горшкова – и дала ему большой кусок.
Много позже мне сказали, что как раз это уникальное вещество с Памирских гор могло купировать внутреннее кровотечение у спортсмена на высоте 10 000 метров. Без приема мумие человек там, на борту, мог умереть.
Уже в автобусе из Шереметьева Саша от боли не мог сидеть – и вынужден был встать и ехать, держась за поручень, буквально повиснув на нем.
Добравшись домой, мы начали возить Горшкова по клиникам Москвы. Проехали все наши диспансеры. Нам всюду говорили одно и то же – «невралгия». И дома Мила грела его в ванной. Но легче не становилось. Наоборот, он начал помирать.
Мила до последнего думала, что Саша сможет отлежаться. И что эти рекомендованные ванны помогут. Но однажды он в горячей воде потерял сознание.
И тут уж я сказала: хватит заниматься самолечением, поехали к серьезным врачам.
Нам посоветовали потрясающего диагноста Владимира Сыркина. Говорили, он самого Брежнева лечил. Этот специалист и сейчас занимает целый этаж в клинике на Пироговке.
Сыркин двумя пальцами постучал то там, то здесь, без всякой аппаратуры. И меня спрашивает: «Слышите, Елена Анатольевна?» Ну что я могу слышать: где-то звук нормальный, а где-то глухой.
Так светило диагностики прошел всю грудную клетку, потыкал в районе сердца – и ушел куда-то в район легких. И сказал фразу, которую мы запомнили навсегда: «Для меня как для врача это было бы очень смешно, если б не было так грустно. У него сердце ушло на пять сантиметров вправо!» И добавил: «А в легких-то у пациента – какая-то жидкость!» Какая именно и сколько ее – даже этот чудо-врач не мог определить без специального оборудования.
И он нам сообщил, что в Москве существует единственный специалист, Михаил Израилевич Перельман, который способен взяться за спасение Саши. Именно он – главный специалист по легочным заболеваниям.
Я позвонила нашей хорошей приятельнице Люде Бещевой. Ее отец, Борис Павлович Бещев, был тогда министром путей сообщения, – и Перельман, как тут же выяснилось, его тоже консультировал.
Министр послал за Перельманом машину. У специалиста был выходной. Он отдыхал на даче. Его везли из-за города.
А мы по рекомендации Сыркина рванули в центральную железнодорожную больницу на Волоколамском шоссе. Горшкова мы повезли, когда в Москве уже совсем стемнело. Была отвратительная снежно-грязная каша, какая часто бывает в столице в начале февраля. Выскочили на улицу, с трудом поймали какой-то разваливающийся «рафик». Кричим водителю: «Гони, чемпиону мира Александру Горшкову плохо!» Своих фигуристов-чемпионов страна тогда знала в лицо. И водитель этот Сашу узнал. И погнал, дребезжа и едва не рассыпаясь на ходу.
Наш пациент при каждой встряске машины откидывался назад. Во-первых, боль была дикая. Во-вторых – сил держаться у него уже не оставалось.
Мы втроем Сашу в машине держали – я, Толя и Мила. Еле-еле его довезли.
И вот мы все в дикой тревоге ждем Перельмана в больнице РЖД на Волоколамке.
Тот приехал, вошел в реанимационное отделение, и сразу вот таким огромным шприцем выкачал из легкого полный шприц крови.
Вообще же из легкого у Горшкова откачали около двух литров крови. Когда Перельман увидел такое количество, он мне сказал: «Спасибо, что пациент – спортсмен. Другой, обычный человек, давно бы умер».
Нам повезло – Саша привык к кислородному голоданию с нашими постоянными сборами в Терсколе, на Северном Кавказе, на высотах больше двух тысяч метров.
А тут еще у Горшкова оказалась первая группа крови и резус отрицательный! Редкая группа. Ее в больничной базе не было. А плазмы крови в 1975 году еще не существовало.
Но я-то, как оказалось, для переливания идеально подходила! У меня как раз такая резус отрицательная группа. Меня тут же повезли в операционную. Взяли кровь – ему нужно было хоть что-то в тот момент, хоть стакан. Словом, стали мы с Сашей с тех пор кровными братом и сестрой.
Однако для операции нужно больше – на стол без достаточного количества крови не положат!
И вскоре откуда-то привезли вот такого бугая – он в дверь едва проходил. Лет двадцати с небольшим. Здоровья и сил, видно, на двоих хватит. С первой резус отрицательной группой крови.
Перельману в операции ассистировали еще несколько классных хирургов. Потом один из них мне сказал, что та операция была абсолютной авантюрой.
Не буду вдаваться в детали, я не специалист, но скажу, что на плевре было несколько пузырей – и один из них лопнул. Перельман все это ликвидировал. До него никто ничего подобного в мире не совершал. Нам сказали, что еще час промедления с операцией – и было бы поздно.
Сегодня, больше сорока лет спустя, уровень и медицины, и диагностики, и логистики, конечно, иной – и никто не может представить себе ужас того, что происходило в тот момент.
Александр Горшков очень мужественный человек. Любой из сегодняшних танцоров – я в этом уверена – завалился бы раз и навсегда.
Сейчас, оглядываясь назад, прихожу к выводу, что чуть ли не каждый год приходилось кого-то спасать от чего-то. Муж иронично зовет меня, когда вспоминаем критические ситуации, «мать Тереза».
А Мила Пахомова, несмотря на свой интеллект и образование, все время к гадалкам ходила. И вот те ей нагадали, что 1975-й – кровавый год. И он будет очень тяжелым – почему-то именно для «козерогов». А так уж вышло, что мы с ней обе под этим знаком родились. Когда она мне с дрожью в голосе эту информацию от гадалок сообщила, я ей сказала: «Пошла ты, Мила, знаешь куда?»
Но это было до того, как мы едва не потеряли Сашу.
Той зимой 1975-го неприятности сыпались одна за другой.
Пахомова и Горшков, разумеется, уже не могли ехать ни на какой чемпионат мира – не только в качестве лидеров, вообще никак. Другого чемпиона Европы из моей группы, Владимира Ковалева, сразу попытались отодвинуть с пьедестала чемпионата мира. Наталью Линичук и Геннадия Карпоносова, мою вторую танцевальную пару, ставшую только что бронзовыми призерами чемпионата Европы – меняют местами с Ириной Моисеевой и Андреем Миненковым.
В общем, по группе Чайковской был нанесен сильнейший удар.
Но главным тогда было спасать Горшкова.
Врачи осторожно говорили, что наш чемпион при удачном стечении обстоятельств сможет встать и пойти через два месяца. В самом лучшем случае – через месяц. Если очень повезет. Именно – встанет и сможет просто двигаться.
Никто из специалистов медицины просто не мог предположить, что через несколько недель Александр Горшков выйдет на лед.
На чемпионате мира, который должен был пройти в США в первой декаде марта, нужно было представить новые обязательные танцы. В том числе и наше танго «Романтика». Международная федерация конькобежцев (ISU) должна была их утвердить – и представить всем национальным федерациям. Как образец того, как нужно это катать.
Горшков вышел на лед после операции через две недели! Благодаря не только удивительной выносливости и тренированности своего организма, но и силе воли. Такую сегодня уже не встретишь. Он начал двигаться по чуть-чуть. А ведь через три недели предстояло лететь в Америку!
Все еще усложнилось тем, что чемпионат мира проходил в Колорадо-Спрингс, на высоте около 2500 метров. Где не то что танцевать сложно – после 10 шагов уже одышка возникала с непривычки. К тому же в американском среднегорье хуже, чем в любимом нами Терсколе.
Вначале после каждого проката в этих американских горах Саша в прямом смысле ложился на бортик. После трех серий его буквально волокли в сторонку. Саша садился на пол, а Чайковский давал ему кислородную маску. В маске он мог отдышаться чуть-чуть. А мы-то думали, что уже все.
И тут-то Горшков вдруг ожил. И сказал, что хотя прошлые ночи ему было трудно дышать, но сейчас уже вроде и ничего. Это было удивительно.
После чемпионата мира часть сборной должна была ехать в заранее оговоренный месячный тур по Северной Америке – Сан-Диего, Калгари, Чикаго, Ванкувер, Калифорния. Пахомова и Горшков были включены в состав группы задолго до операции на легком, и американцы, конечно, хотели видеть их.
Слухами земля полнится. Кто-то дома пустил слух, и он быстро прошел по всей стране, что Александр Горшков то ли погиб в Америке, то ли при смерти находится, а власти скрывают от народа трагедию кумира миллионов.
И вот мы прибыли в Сан-Диего. Поздняя ночь, наверное, часа два. Нас поселили в каком-то пятизвездочном отеле, где, как назло, местная баскетбольная команда бурно праздновала свое чемпионство. Все негры ростом выше двух метров широко гуляли со своим кубком и всем, что к нему прилагалось.
Тут-то и раздается звонок у меня в номере. С ресепшен на английском, разумеется, мне сообщают, что меня спрашивает Москва (ну конечно, там ведь уже день, почему бы не позвонить!).
Вообще-то в нашей группе был официальный руководитель. Но поскольку он и на русском-то говорил с трудом, то обращались по любым вопросам все время ко мне.
Звонил руководитель Олимпийского комитета Виталий Смирнов:
– Здравствуйте, Елена Анатольевна, как вы там?
– Да хорошо, все живы-здоровы, катаемся отлично.
– А как дела у Милы с Сашей?
– Да замечательно катаются. Их принимают на ура.
– А как там здоровье Горшкова, он может подойти к телефону? – продолжает выпытывать Смирнов.
– Виталий Георгиевич, – отвечаю я, желая послать всех к черту, – тут огромный отель, и Саша живет очень далеко от моего номера. И он сейчас, конечно, спит.
Идти действительно надо по какой-то бесконечной лужайке с высокой травой мимо безразмерного открытого бассейна на другой конец отеля.
И вот я, проклиная все на свете, накинув на ночную рубашку свою норковую шубу, вхожу в огромный лифт. А в лифте двухметровые баскетболисты с пивом орут мне что-то. И я думаю – ну вот и смерть моя пришла.
Я им прокричала нечто вроде «конгрэтьюлейшн!» – и быстрей-быстрей выскочила на территорию, пробираюсь по траве мимо этого бесконечного бассейна. Дохожу наконец до корпуса, где Мила с Сашей живут, а там… заперто!
Я пробираюсь обратно к себе в корпус. С ресепшена звоню по телефону в номер Пахомовой. Там, естественно, долго не подходят, потом сонная Мила наконец берет трубку: «Лена, что случилось?»
Я ей говорю: «Буди Сашу!»
И все это время на телефоне в моем номере «висел» Смирнов, ждал подтверждения, что Горшков жив.
В общем, говорю Саше, что по поручению министра спорта Сергея Павлова нам звонит глава Олимпийского комитета Виталий Смирнов, чтобы узнать, как там дела у чемпиона мира Александра Горшкова. И Москве надо непременно услышать голос лучшего танцора мира. И явно наш разговор слушает не один только Смирнов.
И вот приходит полусонный Саша:
– Да, Виталий Георгиевич, здрасьте. Да, я спал. Что? Нет, у меня все хорошо. Как мы катаемся? Да отлично катаемся…
Вот так в ночном мартовском Сан-Диего мы развеивали прошедший по Москве слух, что у Горшкова в американском турне взорвалось легкое и он умер.
Главным – и завершающим – в нашей долгой работе с Пахомовой и Горшковым стал, конечно, 1976 год – год первых Олимпийских игр, где в программе были танцы на льду.
В Инсбруке жуткие условия были в Олимпийской деревне. В особенности были проблемы с транспортом. Когда до начала выступления Милы и Саши оставалось всего ничего, я чуть не опоздала на первый в истории старт советских танцоров на Играх!
Валентин Сыч, отвечавший за зимние виды спорта, настаивал, чтобы я шла в колонне советской делегации на открытии Игр.
Я вскипела: «Лукич? Ты соображаешь, что говоришь? Я должна быть со своими спортсменами! А не в колонне! Мы сейчас профукаем Олимпиаду!» А надо сказать, что Пахомова с Горшковым, если меня рядом с ними нет за час до начала стартов, уже начинали психовать.
Открытие Игр тогда проводили в каком-то альпийском ущелье с односторонним движением, где с одной стороны подъезжали, с другой, через какой-то тоннель, выскакивали. И вообще, ехать мне во Дворец не на чем. Машины нет!
Вызвали переводчика. Местного парня, которого закрепили за руководителем нашей делегации Сергеем Павловым – он-то был на машине.
И когда в беличьей тяжелой парадной шубе я наконец ворвалась в раздевалку, у Пахомовой сразу стало меняться лицо… А я делаю вид, как будто ничего не произошло. И что я уже давно тут – просто до сих пор занималась неотложными делами.
У Пахомовой и Горшкова в Инсбруке все прошло очень уверенно, здорово и мощно. Это была абсолютно убедительная наша победа. Мила светилась со своей голливудской улыбкой. Как только она видела телекамеру, ее губы как бы автоматически раздвигались.
За восемь лет до этой Олимпиады, в 1968 году на Олимпийских играх во французском Гренобле, мы показали русский танец «Березка». Мы представили танцы как полноправный вид фигурного катания. И вот спустя восемь лет и два олимпийских цикла мы выступаем в этом виде и побеждаем.
Не могу еще раз не вспомнить главу технического комитета ИСУ британца Лоуренса Демми. Он никогда не говорил, что мы – локомотив мировых танцев. Но всегда подправлял наше развитие так, чтобы мы этим локомотивом стали. Он направлял развитие самого вида спорта.
А на то, что писали о Пахомовой и Горшкове, я не обращала внимания, мне было безразлично. Я никогда не смотрю в прессе отзывы о моей работе и о выступлениях моих фигуристов. Ни до, ни после. Я как никто знаю, где у нас плохо. И где у нас хорошо. Меня тогда интересовало мнение Демми и еще одного-двух специалистов.
В олимпийскую программу в Инсбруке я ввела новые испанские шаги. Никто не мог представить, что их можно на льду воплотить. Это особые шаги. Отбивание дроби в сапатеадо, испанской чечетке, – как ее перенести на лед? Я придумала, перенесла, и зал забился в экстазе, когда это увидел.
В Инсбруке на нас смотрел весь мир, съехавшийся туда. На трибунах не было простых зрителей – нас оценивали спортсмены и тренеры, которые понимают, чего стоит труд на льду. Зал гремел и орал, очень хороший был прием. Олимпийская публика – не публика чемпионатов мира.
Как мы отметили первую олимпийскую победу наших танцоров?
Я лично «очень содержательно» отметила. С Наташей Линичук поехала на допинг-контроль. А меня туда не пускают. А у нее накануне была дикая температура и обезвоживание организма.
До четырех часов утра мы с ней просидели – провели «замечательную» ночь.
Линичук с огромным трудом что-то из своего организма наконец исторгла. Я увезла ее домой, уложила спать и закрыла ее номер на ключ.
И сама закрылась. Чтобы никого не видеть, не слышать. И чтобы никто не разговаривал со мной.
А на следующий день мы с Татьяной Тарасовой, моим мужем Толей и еще несколькими «представителями прессы» сели в старинном австрийском ресторане, накрыли отличный стол. И очень хорошо отметили первое танцевальное золото.
А дальше чемпионов и призеров зимних Игр посадили в поезд, который из Инсбрука нас привез в какой-то другой город. Там мы пересаживались в поезд до Парижа.
Мы ехали в таком вагоне – с тремя пассажирскими полками. На нижней полке лежала Татьяна Тарасова. На среднюю, куда и влезть-то нельзя было – протиснулась я, худая еще была. А надо мной с температурой сорок помирал Андрей Миненков. Мы взяли его к себе в купе, чтобы он других спортсменов не заразил.
Вот в таком замечательном виде победоносная сборная по фигурному катанию отправилась в Париж после Олимпиады на показательные выступления.
Нас поселили в Париже в гостиницу где-то в центре. А мы уже не хотим ни-че-го. Акклиматизация в австрийских горах прошла, и вот в Париже, на равнине, – вторая акклиматизация. Какой организм такое выдержит?
Зато через месяц в шведском Гетеборге на послеолимпийском чемпионате мира – 1976 условия были прекрасные. Мы приехали в свои пятизвездочные гостиницы и выигрывали все, что возможно.
После этого надо было заканчивать. Я ребят не подталкивала к такому шагу. Они сами к этому пришли. Осенью 1976-го.
Всегда говорю, что я хороший тренер – потому, что не отбила охоту у своих учеников заниматься тренерским ремеслом.
Людмила Пахомова стала заниматься с молодыми фигуристами сразу после спортивной карьеры и, если бы не страшная болезнь и несправедливо ранняя смерть в 39 лет, могла стать большим тренером.
Александр Горшков уже много лет возглавляет нашу Федерацию – и только по его просьбе я иногда еще берусь за тренерскую работу со спортсменами национальной сборной…
У нас до сих пор с Сашей очень доверительные отношения, в которые мы никого не впускаем.
Мне повезло с Пахомовой и Горшковым. А они, может быть, считали, что им повезло со мной…
Александр Горшков,
олимпийский чемпион, президент Федерации фигурного катания на коньках России
– С Еленой Чайковской мы кровные брат и сестра – в прямом смысле.
Когда я находился между жизнью и смертью в железнодорожной больнице, под утро ко мне пришел главврач, которому я сказал, что у меня чемпионат мира через месяц, а тот сообщил, что меня готовят к срочной операции и уже послали за великим Перельманом.
Что мне вливали, я узнал позже. И про то, что у Чайковской тоже брали кровь для меня и меня в тот момент это спасло. То есть после операции мы оказались родными по крови – но к тому времени, за годы работы с ней мы и так уже стали как брат и сестра. И вообще мы с Милой и Лена с Анатолием Михайловичем были семьей. И родство наше родилось не в той больнице, не на операционном столе – гораздо раньше.
Мы для Чайковской всегда были парой номер один. И чувство ревности к будущим олимпийским чемпионам Наташе Линичук и Гене Карпоносову, которые катались рядом с нами, не возникало никогда. Отблески их золота светились в будущем, где-то через годы после нас. А мы все равно оставались и для тренера, и для мира дуэтом Number One. Лена иногда просила нас им помочь. И тогда я вставал в пару с Линичук, а Мила – с Геной Карпоносовым. Но при этом Чайковская всегда нам уделяла внимания больше всех – а ведь при нас у нее появлялись и другие ученики, члены сборной страны.
Мне никогда не приходилось размышлять над особенностью атмосферы в группе Чайковской – просто потому, что нам не с чем сравнивать. Я почти всю жизнь в большом спорте занимался у нее. Когда мы только начинали, Лене, кажется, было 27 лет. Поскольку разница в возрасте у нас была минимальная, это накладывало отпечаток. Поначалу мы общались как ровесники, но при нужной доле уважения, которая требуется в отношении тренер – ученик.
Что могу сказать определенно – она пыталась создать отдельный мир. Группа Чайковской – это нечто обособленное. Свой мир внутри большого мира.
Мы всегда стремились вместе создать танец, который стал бы интереснее, сложнее предыдущего. И это непростой процесс. Сложность увеличивается оттого, что ты наверху, – и приходится соревноваться уже не с соперниками, а с самим собой. И нам не всегда удавалось добиться прогресса – каждый раз находить музыку, которая оказалась бы еще интереснее… Был год, когда не смогли найти ничего лучше уже откатанной произвольной программы – и мы были вынуждены ее оставить и на следующий сезон.
Да, одной из вершин принято считать наше с Чайковской танго «Романтика». Оно было оригинальным танцем, но позже мы адаптировали его под обязательный. И он вошел в программу, которую катают до сих пор. Например, это танго блестяще исполнили канадцы Марины Зуевой в олимпийском Ванкувере.
Но нашей с Чайковской вершиной все-таки назову произвольную олимпийского сезона, с которой мы взяли и первое золото, и получили максимум самых высоких оценок на чемпионате мира – 1976, где мы закончили карьеру. Из 18 оценок, которые выставляли сначала за технику, сложность, потом за представление, артистизм, 12 оказались высшими – 6,0! Это был наш апогей.
Прошло более 40 лет, и, может быть, с легким сожалением сейчас вспоминаю, что мы никак по-особенному не смогли отметить главную награду своей жизни. Мы – к сожалению или к счастью – не хоккеисты, которые бурно празднуют свои победы, особенно олимпийские. В Инсбруке между мужской и женской частью деревни был забор. Мы победили, постояли на пьедестале и разошлись каждый на свою половинку спать. Эйфория от пьедестала и звуков гимна уходит очень быстро. После колоссальной нагрузки приходит колоссальная усталость. Не только физическая – эмоциональная. И Чайковскую она накрыла тоже. И за первым в мировой истории золотом в танцах последовал сон – это правда, и это… естественно!
Фанатизм и преданность своему делу – черта великого тренера. Она была и есть у Чайковской. Отрешение от всего и концентрация на результате – постоянное ее состояние, в отличие от любого, даже очень большого спортсмена.
Когда в 1993 году ей предложили занять пост главного тренера сборной, она с задачей справилась блестяще. Я даже не могу представить, была ли ей тогда альтернатива.
Почему я продолжаю обращаться к Чайковской и сегодня с просьбой поработать со спортсменами сборной, когда часть тренеров вернулись в страну, выросла новая тренерская генерация, а сама Елена Анатольевна занята своей школой? Это все так, но ее опыт – бесценен. При изменении правил, при изменении условий и обновлении требований – основа остается!
Она, пожалуй, действительно человек, скорее, из мира искусства, чем из мира спорта. Не только потому, что первая из тренеров закончила ГИТИС. Она этим живет, в этой среде выросла, это – ее. И без компонентов искусства, сцены танцы на льду невозможны. Художественная сторона, понимание музыки, грамотное, сценическое выстраивание программ – это все про Чайковскую. Это врожденная культура, и высокое образование, и большой талант.
Для Лены наша жизнь – больше искусство, чем спорт.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?