Текст книги "Неприкаянный дом (сборник)"
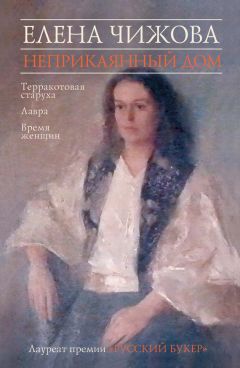
Автор книги: Елена Чижова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 56 страниц) [доступный отрывок для чтения: 18 страниц]
Елена приносит нож. Режет лимон, кромсает шоколадный батончик. Начинка тянется, как глухое время, липнет к зубам. Черт с ним, со временем! Мы сосем лимонные ломтики радости. Как же давно мы не веселились! Вот оно – наше кисло-сладкое счастье. Как будто ничего нету: ни кожи, ни финна. Ни бонны, ни старой матери, ни малых детей.
Ни нашей чертовой жизни, в которой мы пашем за мужиков.
Катерина морщится, снимает с губ лимонную корочку. Встряхивает головой.
Дрожи, буржуй, настал последний бой! Против те-бе-е весь бедный класс подня-ялси. Он улыбнулси, засмеялси, все цепи разорвал и за свобо-оду бьется как герой!
Ее голос, неожиданно сильный, выводит свободно и празднично. Как будто поет о своей свободе, о своих постылых цепях. Так она пела только дома, в праздники, на Первое мая или Седьмое ноября. Ее мать собирала родственников. Как же они пели! У них в роду очень чистые голоса.
Ничего, ничего, ничего! Сабля, пуля, штыки – все равно. А ты, люби-имая, да ты дожди-ись меня, и я при-иду!
Мы подхватываем революционную песню. Она – в нашей общей памяти. Что бы ни случилось, никогда не забудем. Главный бухгалтер поет тоненьким голосом. Глаза светятся, щеки раскраснелись. Сейчас она совсем молодая, не главный бухгалтер, а просто Валя, Валя-Валентина, та злосчастная пионерка. Только она-то не собирается умирать. Наоборот. Ей хочется жить. Ну и что, что уже за сорок. Это – пустое, рано или поздно все изменится. Впереди – целая жизнь. Ну, может, полжизни, или даже треть, но – плевать, дело не в сроке. Надо прожить так, чтобы не было мучительно. Теперь-то проживем…
Я приду и тебе обойму, если сам не погибну в бою. Да в тот тяжелый час, да за рабочий класс, за всю страну!
Елена сияет студенческой радостью. Раньше собирались на кухне, пели под гитару. У нее не сильный, но очень чистый голос. Когда заводили многоголосье, всегда тянула первым… Она берет выше и уверенней…
Катерина выводит вторым. Темные пятна ушли с ее щек. На щеках нежный девичий румянец. Я вижу, как тонка ее кожа, выстуженная ленинградскими ветрами. Губы выкрашены темной помадой – я привыкла к ее тонким губам. Вечно сжаты в нитку, словно мышцы рта сведены рефлекторно – как будто это не мышцы, а готовые к драке кулаки. Песня смягчила ее скулы: они расслабились, теряя жесткий контур. Выпевая, она разевает рот широким, акающим звуком – как простая деревенская баба…
Мы па-абедим! За нас весь шар земной. Разрушим тюрьмы, всех воров разго-оним! Мы наш, мы новый мир па-астроим свободного труда и заживем ка-амунной мировой!
Как будто что-то торкнулось в сердце: радость сползает с ее лица. Как слабая краска, как дешевый грим, как корова – языком. Катеринина рука тянется к бутылке, цепляет дрожащими пальцами. Глаза замирают, словно там, на пороге… Медленно-медленно она встает с места, вытягивается всем тощим телом. Мы оборачиваемся как по команде: Фридрих стоит в дверях.
«Празднуем?» – он клонит голову, как будто не верит своим глазам.
Катерина кивает обреченно. Бутылка, почти пустая, липнет к ее руке. Как начинка «Марса», застрявшая между зубами. Ей хочется отлепить, отдернуть, оторвать руку. Но даже на это у нее недостает сил.
«А буржуев – их-то, паразитов, принимаете? – Фридрих делает шаг, передергивает усталыми плечами. Распрямляет спину. – Девочки, ну разве так можно… Амареттовку – на голодный желудок… Сейчас. У меня – отличная жратва. Выпьем как люди».
Он звонит вниз, коротко отдает распоряжение. Водитель Петя является, как Сивка-Бурка. В руках пластиковый мешок.
«Ну и но-ож… У нас что, нет нормального?!»
«На кухне. Там, на кухне, Евгений Фридрихович. – Катерина вскакивает. – Я мигом. Сейчас принесу».
Мы кромсаем сыр, режем колбасу, выкладываем свежие пряники. Фридрих взрезает банку крабов, откупоривает водочную бутылку. «Какие же вы молодцы! Как же мне все осточертело – пить водку со всякими мудаками! – Обезьяний бугор дышит свободно. – Всё, – Фридрих поднимает рюмку, – пью за вас. Девочки, спасибо. Разве я не понимаю… Вы… работаете! Как мужики. – Он опрокидывает залпом, заедает черной горбушкой, тянется к колбасе. – Нет мужиков. Были, да кончились. Ничего, – подмигивает, – не дождутся!»
Девочки… За мужиков… Были, да кончились.
Что-то мелькает в памяти. Мелькает, да никак не сложится. Сложилось: А зори здесь тихие. Хороший фильм. В конце эти девочки погибли. Все как одна…
«Ну, – глаз Фридриха сверкает, – споем?»
Споем? Мы переглядываемся.
«Давайте еще разок – хоть про этого буржуя».
Елена улыбается, отодвигает рюмку. Ее глаза затягивает нежная поволока, словно они хотят, но не могут заплакать. Сводит руки на груди. Черты лица истончаются. Она смотрит вверх, в потолок, как в ночное небо, как будто оттуда ей что-то светит. Но очень уж далеко…
В горнице мое-е-ей светло-о, это от ночной звезды-ы.
Матушка возьме-е-ет ведро, молча принесет воды-ы…
Мы подхватываем едва слышно, вполголоса, все, кроме Фридриха. Он не знает этой песни: ни музыки, ни тихих слов. Слушает, подперев ладонью щеку, чуть-чуть шевелит губами, словно ему очень хочется подпеть. Этим песням надо было учиться раньше, когда у нас еще было время. Общее. Одинаковое. Одно на всех.
Дремлет на сте-ене мое-е-ей ивы кружевна-ая тень. Завтра у меня-я под не-е-ей будет хлопотли-ивый де-ень…
Мы поем в унисон, легко – голос в голос, единым звуком. Ни одна не выбивается из хора.
На той неделе мне снова грузить кожу, прятать мешок с обрезками. Я не хочу об этом думать. Все равно у меня все получится. Уже получилось. Моя машина прошла их государственную границу.
Водка с «Амаретто» смешались в моей крови.
Буду полива-а-ать цветы-ы, лодку починять се-бе-е.
Буду до ночно-о-ой звезды думать о свое-ей судьбе…
* * *
– Мусик, миленький! Ты чего? – дочь заглядывает в кухню.
– А? – я вздрагиваю как от окрика.
Александра улыбается:
– Красивая песня. Это кто, Есенин?
– Рубцов. Николай Рубцов, – я отвечаю едва слышно.
– Странно, а в школе не проходили…
– Мы, между прочим, тоже… – я отворачиваюсь к окну. – Саша, иди. Займись каким-нибудь делом. Мне надо побыть одной.
Мои глаза хотят, но не могут заплакать. Я свожу руки, как Елена. Смотрю в потолок. Там, в углу сизо-желтая протечка. Только теперь я замечаю – она похожа на звезду. Не очень, а так, джють-джють…
«Всё», – я приказываю себе. Время воспоминаний кончилось.
На всякий случай вытираю сухие глаза. Распахиваю кухонную дверь:
– Ты вымыла ванну?
В ответ она кричит:
– Уже начинаю!
Я открываю холодильник, вытаскиваю курицу. Куриная тушка лежит, сложа лапы. Тихо и покорно. Словно ее заморозили живьем… Я обмажу ее пряностями. Натру чесноком и солью. А потом она зажарится до ароматной корочки, и никто не узнает, какой эта тушка была прежде…
– Мамочка, ты как?.. – дочь стоит под дверью, не решаясь заглянуть.
– Домыла? – я спрашиваю, не оборачиваясь.
– Почти, – отвечает жизнерадостно.
Я отворачиваюсь к окну.
За окном двор, облезлая горка, баки, заваленные мусором. Мой пейзаж не зависит от времени. Можно сделать вид, будто ничего не изменилось. Например, я не натаскиваю к ЕГЭ, а сею разумное, доброе, вечное… Где те счастливцы, которые дождались всходов?
Вчера вечером по «Петербургу» показывали американский фильм. Ученые из НАСА ставили опыт со временем. Доброволец отправлялся в иное пространство. Обратно он должен был вернуться через пару земных лет. По космическому счету это заняло бы минут десять: так объяснили, когда подписывал бумаги. Когда улетал, думал: всего-то и делов… Слетаю, получу хорошие деньги…
Он открывает глаза. Выбирается из своей космической капсулы, а вокруг – никого. Ни ученых, которые все затевали, ни техников, ни лаборантов. Его капсула стоит в сарае, похожем на мебельную свалку: продавленные диваны, старые безногие стулья. Он выходит в город: там тоже все другое. Доброволец делает шаг к витрине, смотрит на свое отражение. На вид ему не дашь больше тридцати. Отражение, наряженное в старые джинсы, думает: впереди – целая жизнь. В мире, в котором никто не знает твоего прошлого.
Весь день он ходит по городу, украдкой вглядывается в незнакомые лица. Те, кто строил на нем расчеты, ушли в лучший мир. Надо как-то приспосабливаться. Вечером он ложится в свою капсулу. Ворочается с боку на бок, считает до тысячи. В прошлой жизни он считал овец, теперь – гаснущие звезды. Правда, звезд он так и не увидел: капсула была запаяна наглухо, но если думать о звездах, легче жить…
Наутро он решает побриться. Подходит к зеркалу. Его лицо покрыто сетью морщин. Не то чтобы глубоких, а так, лет на сорок. Он утешает себя: не стоит впадать в панику. Скорее всего, это просто усталость. Шутка ли, оказаться в мире, где нет ни одного знакомого лица: ни друзей, ни родных. Вечером отражение становится пятидесятилетним. Стареет на глазах. Это там, в ином мире, его тело сохраняло видимость молодости, а здесь, по земным законам, он уже лет двадцать как умер.
Утром приходят: перед ними не тело, а гниль…
Я беру тряпку, оторванную от старого пододеяльника. Тщательно вытираю руки. Мне незачем смотреть в окно.
За окном все та же помойка. Темные железные баки. Мусор лезет через край. Время от времени их очищают и вывозят, но самого процесса я никогда не видела.
Так уж принято: все вонючее делается по ночам.
Крыша мираОн вошел в приемную, остановился на пороге: черный шерстяной костюм, шелковая рубашка – в цвет. Верхняя пуговица расстегнута. Длинное кожаное пальто переброшено через руку.
Катерина поднялась навстречу, замерла столбиком: «Здравствуйте… Евгений Фридрихович только что звонил. Просил извиниться. Он уже едет, застрял в пробке. Может быть, чай или кофе?» Гость поднял темные брови: «Нэ стоит».
Легкий кавказский акцент.
Катерина ждала растерянно, не решаясь сесть. Он прохаживался по офису: медленно, от стены к стене. «А вообще… – черный гость остановился у моего стола. – Кофэ – хорошо». Катерина дернулась с готовностью. «Нэт, – он остановил ее жестом. – Я, пожалуй, из этой, – потянулся к моей чашке. – Если позволите, адын глоток…»
Поднимая к губам, изысканно отвел палец. Узкий холеный ноготь. Отпил. Поставил на место. На меня смотрели волчьи, близко посаженные глаза. На миг мне стало очень страшно. Кажется, я пробормотала что-то вежливое.
Фридрих вошел в приемную. Стремительно. Скорее, вбежал. Под радушной улыбкой угадывалась неловкость. Волчьи глаза обратились на него, не моргая. «Прошу вас, – Фридрих пригласил широким жестом, – в кабинет».
У меня задрожали руки. Только теперь, когда гость убрался с глаз.
«Это кто?» – я спросила шепотом. «Намир, – Елена ответила спокойно. – Наша новая крыша». – «А где же?..» – «Наиль? Грохнули вчера утром. Прямо у машины». – «Кто?» Она пожала плечами.
Кофе я вылила в раковину. Как будто боялась заразиться этим, волчьим…
Намир. Памир. Крыша мира. Бормотала, тщательно отмывая чашку. Так и просидела на кухне, пока гость не уехал: дождалась, покуда хлопнет входная дверь.
Вечером у нас производственное совещание.
«Ну, – Фридрих смял пустую сигаретную пачку, – и когда? – Желтый верблюд лежал, поджимая сломанные ноги. – Когда они закончат эти чертовы расчеты? – он сдерживал ярость. Уголок рта слегка подергивался. – Чтобы я… Этому мудаку Лахтинену…» – «Скоро. Но там очень много работы», – главный бухгалтер листает записи.
Финский партнер задерживает платежи. Утверждает, что на сегодняшний день расплатился полностью. Нашим цифрам это никак не соответствует. По сырой коже мы расплатились сырцом. Лахтинен требует акт сверки, прислал соответствующий факс. Я их видела, эти бумажные простыни: столбцы бесконечных цифр. У финнов налажен автоматизированный учет. Трудность в том, что наши взаимные расчеты не выделены в отдельную ведомость. Все партнеры вперемешку: и русские, и европейские. Свой учет мы ведем вручную.
Пока что финский партнер выполняет свои обязательства по поставкам, но больше не звонит.
До конфликта доводить нельзя. Мы завязаны на финском поролоне. Если поставки прекратятся, придется остановить конвейер.
Начальник отдела реализации отчитывается за провинциальный заказ.
«Нормально. Отгрузились. Полностью».
У него слипаются глаза. Всю прошлую ночь руководил отгрузкой. Вагоны подогнали прямо к фабрике: виадук, по которому мы ездим туда и обратно, проложен над железнодорожными путями. Прикемарил часок-другой с утра.
Диваны и кресла – заказ провинциальной мэрии. Три месяца назад провели предоплату. Остальное – по факту отгрузки. Мэр обещал лично: расплатимся день в день.
«Как с оплатой?»
Главный бухгалтер поджимает губы: «Обещают. Звонила. Сказали: придется подождать. У них временные трудности».
«Сколько?» – Фридрих рычит. «Пока что, говорят, месяц».
Главный бухгалтер перебирает бумаги: она предупреждала. Говорила: предварительная отгрузка – авантюра чистой воды. Разве шефа убедишь? Заладил: общие друзья. Кто-то за него поручился. Ну и как теперь достанешь – этого провинциального мэра? Не захочет – вообще не расплатится.
Фридрих все понимает.
Возвращается к теме Лахтинена.
«Этот мудак хочет и на елку влезть, и… – Обезьяний бугор вздувается нешуточной угрозой. – Сволочь! Финский ублюдок! Где б он был со своей нищенской фабрикой! Это я вывел его в люди. Я… – Он бьет себя кулаком в грудь. – Ладно. Идите и работайте. Продолжайте сверку».
Фридрих сидит, вперив глаза в пространство. Все-таки взял себя в руки. На столе лежат его сжатые кулаки.
«Им что – мало людей? Пусть привлекут любого. Эту… – Фридрих выругался, – как ее? Секретаршу Пал Иваныча».
«Не знаю, как Оля справится…» Фридрих обрывает меня: «Не справится, значит научи́те! Поработает для разнообразия… не все же…»
Последнее замечание я пропускаю мимо ушей.
Павел Иванович – директор нашей фабрики. Сидит на Парнасе. С ним Фридрих познакомил меня еще зимой.
На Чичикова явно не тянет: мне он показался милым и мягким. Скорее хитрец, чем плут. До перестройки руководил предприятием, которое рухнуло в конце восьмидесятых. На должности Фридрих оставил его с единственной целью – получить производственные площади. Как-то раз обмолвился: с директором повезло. На Парнасе руин полно, но другие требовали договора аренды. Павел Иванович согласился войти в долю: текущая зарплата, очень приличная, плюс 2,5 % от будущей прибыли.
«И это – всё?» – «Почему – всё? Оставил себе “Волгу”… – Фридрих загибал пальцы. – Секретаршу, – он перечислял веско, – отдельный кабинет».
Большую часть времени Павел Иванович сидит у себя. Ходят слухи, будто у них с секретаршей шуры-муры. Иногда спускается в цеха. Обходит рабочие места, здоровается с рабочими. Те кивают нехотя. Всем ясно, что их директор – лузер.
Елена заглядывает в кабинет: «Евгений Фридрихович, извините. Тебя к телефону».
Фридрих рычит: «Мы заняты. Вы не видите, что мы заняты?» – «Но это… – ее голос дрожит, – замначальника таможни. Я подумала…» – «Вы. Подумали. – Он чеканит каждое слово. – А теперь идите и скажите: ему перезвонят… Подумала. Она подумала… Работать некогда. Все вокруг думают…» – он шарит по столу, шевелит бумаги.
Я говорю: «Может, что-нибудь на границе?» – «Что – на границе? На границе? Звоните», – коротким жестом он подвигает телефонный аппарат. Включает громкую связь.
Я набираю номер. Трубку Кузьминский берет сразу, словно только и ждал звонка.
«Собственно говоря, вот… – Я слушаю, косясь на Фридриха. – Собираюсь к вам на Парнас. В гости. Сегодня вечером. Если это не нарушает ваших планов…» Фридрих кивает. «Что вы! – откликаюсь радушно. – Будем очень рады».
«Ладно. Поехали, – Фридрих поднимается решительно. – Скажите Катерине Ивановне, пусть дозвонится поварам».
На этот случай у парнасских поваров всегда есть заначка: рыбка, икра, колбаска. В будни мы питаемся без изысков: суп, второе. Для себя Фридрих не делает исключения. И мы, и рабочие – из одного котла.
Для гостей – не самое лучшее время. На Парнасе идет ремонт. Рабочие красят стены, подгоняют рассохшиеся рамы. Фридрих распорядился отремонтировать наскоро: «Главное, чтобы чистенько. До ума доведем потом, когда появятся лишние деньги». Окончательный переезд планируется к лету. Но бухгалтерию вот-вот переведут. Бухгалтеров это не радует: на Садовую они добирались общественным транспортом, теперь зависят от развозки.
* * *
В штатском Кузьминский кажется сутулым. Про себя я отмечаю: отечественный костюм. Если бы не машина – очень приличная иномарка, – можно принять за простого инженера.
Мы спускаемся в цеха. Фридрих ведет экскурсию с удовольствием, предъявляет образцы продукции, рассказывает о ближайших планах: производство кухонной мебели.
«Скользящие ящики, ламинированные фасады. Металл и фурнитура – западные, ламинировать будем у нас».
Тему кухонь Кузьминский подхватывает заинтересованно: дело хорошее, но рынок – новый. Обещает разузнать.
За ужином наш гость охотно поддерживал разговор, приводил курьезы из таможенной практики. Как будто приехал специально, чтобы нас развлечь.
«Диваны, кухни… Следующий шаг – квартиры?» – «Квартиры? – Фридрих переспрашивает. – Тоже хорошая тема. Я сам начинал с однокомнатной. Теперь – не проблема. Были бы деньги. Кстати, – он наполняет рюмки, – как раз веду переговоры. Собираюсь купить пятикомнатную. На Петровской набережной».
Кузьминский кивает: «Надо полагать, в Дворянском гнезде? У вас будут хорошие соседи. Если не ошибаюсь, сам Григорий Васильевич…» – «Не только. – Фридрих делает вид, что не заметил иронии. – В этом доме жил и Георгий Александрович… Вы, – он оборачивается ко мне, – были знакомы с Товстоноговым?» Я качаю головой. «А я был. Через их художников, – он перечисляет фамилии, которые мне ни о чем не говорят. – Одно время предлагали сотрудничество».
«А с Романовым не предлагали? – я задаю невинный вопрос. На мгновение мы с Кузьминским встречаемся глазами. Между нами пробегает усмешливая искра. – Через их художников…» Фридрих мрачнеет: «Эти не предлагали… И теперь уж вряд ли предложат». – «Ну… – Кузьминский усмехается. – Я бы не стал зарекаться. В нашей-то богоспасаемой стране…»
Взгляд Фридриха становится холодным и собранным: «А вот на это, – он зачерпывает икру черной горбушкой, – я уже плевал. У меня достаточно денег, чтобы…» – «Откупиться?» – «Нет, – на мой вопрос он отвечает серьезно. – Послать».
Я представляю себе волчьи глаза. Тех послать, с этими – сотрудничать… Послать, чтобы сотрудничать…
«А вы? – Я слышу голос Фридриха. – Где бы хотели жить?» – «Здесь, в СССР. То есть в России», – отвечаю неуверенно. «Не-ет! – он смеется. – Это-то понятно. Сейчас Россия – Клондайк. Я имею в виду квартиру». – «Ну, – я теряюсь. – Где-нибудь в центре…»
Он кивнул и перевел разговор.
Машину Кузьминский вел осторожно.
«Вы здесь впервые?» Я имела в виду промышленную зону.
Оказалось, мы с ним живем в одном районе. После ужина, когда пришла пора разъезжаться, предложил подвезти.
Фридрих поморщился, но смолчал.
«Вольво», мигая задними огнями, двигалась впереди. Сквозь стекло я видела пухлый багажник. «Да, впервые… – Кузьминский объезжал кучу щебня, – раньше не доводилось. Тут, у вас, как в “Сталкере”. Впору задавать последние вопросы».
Краем глаза я поймала свет фонаря. «У нас все больше текущие. Много работы». – «Да-да. Понимаю», – он кивнул. «Кстати, вы сказали – у вас? В конце концов, это – и ваша работа». – «Вы считаете, – мы уже подъезжали к виадуку, – мне пристало говорить: здесь, внизу, у нас?» Мигнув задними фарами, машина Фридриха свернула на мост. «Если мне не изменяет память, – я смотрела, как она удаляется, – там было сказано иначе: здесь, наверху, у нас…»
Набирая скорость, «вольво» оставляла нас позади.
В сущности, он не сказал ничего особенного. Но разговор как будто сдвинулся, сошел с накатанной колеи. За столом такой разговор не мог бы начаться. Так мы разговаривали раньше. В своем кругу. Наши цитаты не нуждались в ссылках. Были нашей общей собственностью. Точнее, ее подобием – игрой стеклянных бус. Нашим ноу-хау: нанизывать, плести замысловатые узоры, в которых ничто не повторялось и в то же время повторялось всё. Каждое слово, любое их сочетание всплывало и опознавалось мгновенно.
«Да, теперь все изменилось, – он ответил, как будто прочел мои мысли. – Тем более что здесь, у вас, скорее, впадина. Во всяком случае, не гора».
Руки Кузьминского лежали на руле. Его кожаное пальто было очень старым. Раньше такие покупали в сертификатных магазинах – один раз и на всю жизнь.
По проспекту Просвещения машина шла, набирая скорость. Я молчала, демонстративно глядя в окно. Мгновение ушло. Язык, на котором он заговорил со мною, относился к прошлому. Здесь, на Парнасе, мы с Фридрихом стремились в будущее – работали не покладая рук. Кузьминский – гость. Зря я ему ответила. Позволила втянуть себя в эти игры с прошлым… Здесь, у нас, он действительно гость. О нем я буду вспоминать от случая к случаю, когда понадобится его помощь.
«Что на границе? – Кузьминский затормозил под светофором. – Сегодняшняя машина прошла?»
«Конечно. А что может случиться?» – на этот раз я ответила правильно.
«И вы успели? – он смотрел вперед, дожидаясь зеленого сигнала. – Подложить мешок?»
По пустой дороге мы неслись стремительно, словно водитель решил догнать Фридриха – во что бы то ни стало. Помериться силами. Я закрыла глаза.
Короткие мысли: «Откуда?.. Кто?.. Неужели проследили?» Прежде чем нас вынесло и протащило юзом, я еще успела подумать: «За этим и приехал. Черное пальто. Работал за границей. На самом деле – их художник…»
Взревев всеми внутренностями, машина замерла поперек полосы. Если бы не пустая дорога… Чертыхнувшись, Кузьминский выбрался наружу. Наверное, я должна была испугаться. Но я просто сидела. Смотрела, как он обходит машину, бьет по колесам ногой.
«Гвоздей накидали, сволочи! Сразу два. Левое заднее – тоже. Извините, – он распахнул мою дверь, – но одному мне не справиться. Придется вызвать службу. Свезут в мастерскую – залатать дыру».
Старый жигуленок подъехал минут через двадцать. Двое, в кожаных куртках. Обещали как можно скорее, но дежурные мастерские – не на каждом углу.
«Судя по всему, часа полтора как минимум. Половина второго. Может быть… – Кузьминский смотрел на пустую дорогу, – поймаем для вас попутку? А то ведь… – он посмотрел внимательно, – ваш шеф может позвонить. Захочет узнать, как вы доехали…»
Если позвонит, Яна скажет, что меня еще нет. Тогда он подумает… Но: вы успели подложить мешок?
«Никаких попуток, – я отвергла решительно. – Разве я могу бросить вас в беде!»
«Положим, беда невелика, – перегнувшись в мою сторону, он рылся в бардачке. – Тогда… Предлагаю выпить. Что предпочитаете в это время суток?»
«А у вас разные, что ли, есть?»
Кузьминский кивнул.
«Ну, например, виски».
«Какую марку?» – он вывел загогулину, похожую на иероглиф. Я усмехнулась: “Black Label” или “White Horse”.
«Кажется, есть и то и другое, – Кузьминский ответил совершенно серьезно, словно у него не было и мысли втягивать меня в опасные игры. – Надо проверить».
Из машины я вылезла скорее из любопытства.
В багажнике стояла картонная коробка. В ней – навалом, до самого верха, – бутылки. Запустив руку, Кузьминский вытянул черную. «Сувениры, – пояснил коротко. – Подарки от благодарных клиентов. Эта пойдет?»
В салоне было темно. «За успех!» Мы чокнулись пластмассовыми стаканчиками. Панель управления светилась разноцветными огоньками. Они сияли призрачным светом, не освещая лиц. Вечером, за столом, мой попутчик выглядел оживленным. Теперь, на пустой дороге, как будто устал и сник. Не лицо – силуэт, вырезанный из сероватого картона.
«Кстати, а почему вы отказались? Это – тоже подарок. Просто подарок, от чистого сердца. Как эти… ваши бутылки», – я прислушивалась к своему фальшивому тону. На складе готовой продукции Фридрих предложил диван. Любой, на выбор: кожаный или из флока. Широкий жест, которым шеф завершал экскурсии для избранных.
«Зачем?» – Кузьминский усмехнулся.
«Ну…»
«Зачем? – он повторил, не дождавшись объяснения. – Этому долго не продлиться. Мы-то с вами – люди образованные. К тому же – филологи. А значит, должны понимать». – «Вы… не верите в торжество капитализма?»
«Да при чем здесь… – В чертах его лица мелькнуло оживление, но иное – не то, что он демонстрировал за Фридриховым столом. – Вам знакомо слово прагматик? – Серые глаза сверкнули на темном картоне. – Не правда ли, гнусное? – брови выгнулись асимметрично. – Теперь оно входит в моду. Точнее, уже вошло».
«Да. – Я хотела сказать, что в последнее время их появилось множество – заимствованных слов. На нашей почве они обретают какие-то дополнительные смыслы. Не словарные. – А еще деньги. Вы заметили, как их теперь произносят?»
«Еще бы! – он подхватил с удовольствием. – Горлом, смягчая звук д. Мягко стелют, да жестко спать». Мы засмеялись одновременно. Смеясь, я гадала: как бы подобраться к мешочку…
«Слишком много абстрактных понятий: микроэкономика, макроэкономика… Одна сплошная экономика. Ни тебе истории, ни литературы. Словно ничего этого не было». – Кузьминский нагнул бутылку. Виски лилось золотистой струйкой, тянулось, как загустевший мед.
Здесь, в печальной Тавриде, куда нас судьба занесла, мы совсем не скучаем…
«Вам что, больше нравилось, как раньше? – задавая вопрос, я вспомнила пустые прилавки. Очереди. Любовника, похожего на кролика. Но сказала: – Советская власть?» – «Бросьте! – он сморщился как от кислого. – Советская… Несоветская… Это только слово». – «Видимо, у нас с вами разный опыт». Он поднял бровь: «Разный? Вы хотите сказать, что в прежние времена мне жилось прекрасно? Вы… – он помедлил, – от них пострадали?»
Я опустила голову. На этот вопрос у меня не было прямого ответа.
«Раньше мне жилось очень плохо». – «В смысле, бедно? – Я молчала. – А теперь – лучше? Это хорошо, – пластиковый стаканчик качнулся в его руке. – Значит, вам удалось. Приспособиться к новым условиям существования. Ваше счастье, что вы сумели. Надеюсь, так будет и впредь. Иначе…»
Я смотрела, как качается его пластиковый стаканчик. Следила тоскующими глазами. Как будто надеялась увидеть свое будущее.
Но видела только прошлое и настоящее. Раньше мне не было страшно, но в то же время я всегда боялась, а теперь мне всегда страшно, но я совсем не боюсь…
«Теперь не боюсь», – ему я преподнесла только вывод, пропуская промежуточные звенья. «Не боитесь? Ничего?» – он смотрел удивленно, словно не мог поверить в то, что я не могла доказать.
Ему, высокопоставленному таможеннику, я не стала бы рассказывать про наезд, про пистолет под ребрами, про то, что я совсем не испугалась. Стояла, не чувствуя ни боли, ни страха. Словно уже стала зверем, не имеющим понятия о смерти.
«Да. Именно так, – я ответила на его вопрос. – Не боюсь. Никого и ничего. И не надо мне угрожать. Мешками». Наверное, я слишком много выпила.
«А разве я угрожал? – Кузьминский глотнул из горла́. Золотая струя растеклась по пищеводу, как горький отравленный мед. – Уж не думаете ли вы, что я – их преданный Цербер? Помните из “Белого солнца”: за державу обидно… Есть одна картина. Филонова. Я не помню названия. Стол, – он повел бутылкой, очерчивая контуры. – На нем – растерзанная рыба. Эти сидят вокруг – не то гномы, не то тролли. – Мне казалось, Кузьминский пьянел на глазах. Речь становилась отрывистой и почти бессвязной. – Да, именно рыба. Очень скоро они растерзают… Ваш шеф показался мне приличным человеком. Не похожим на них. Нет, не так… Я подумал: вы не стали бы работать с подонком. А мешочек… Нет, – он отвечал на незаданный вопрос. – Не донесли. Я сам понял вашу схему. Сразу. Ведь это не он, а вы придумали? На вашем месте я придумал бы то же самое. Все просто, – Кузьминский усмехнулся, – понял, но хотел взглянуть. Своими глазами. Убедиться, что ошибаюсь. В конце концов, это мое право: помочь. Может быть, еще и получится… И эти гномы… рассеются…»
Слова были горькими и искренними.
Я хотела, но не успела сказать.
Вывернув из-за угла, милицейская машина двигалась в нашу сторону. Поравнявшись, гаишник вылез наружу. Ленивым жестом, не потрудившись спрятать бутылку, Кузьминский опустил стекло. Протянул какие-то корочки. Страж дороги раскрыл и прочел. Внимательно сверил фотографию.
«Нужна помощь?» – поинтересовался очень вежливо. «Благодарю вас, – тон Кузьминского стал брезгливым. – Запаску уже везут».
Пустая дорога, выпивший водитель, бутылка, зажатая между коленями…
Как ни в чем не бывало гаишник пошел к своей машине.
«У вас… специальные номера?» – «Угу, – Кузьминский кивнул, не глядя в мою сторону. – Сумел приспособиться. К условиям нынешнего существования, – он усмехнулся. – Как видите, тоже не боюсь».
Что-то выступило в его лице, стало объемным, словно картон пропитался темной влагой. Но я не думала об этом: меня занимало другое. Это другое торкалось в моей крови. Словно кровь, струящаяся по моим жилам, уже успела стать волчьей, как будто я не вылила, а выпила тот заразный кофе. Я думала: романтик. Не будет нам мешать.
Милицейская машина сворачивала за угол, оставляя нас с миром. Опасность, стоявшая в помутившемся воздухе, рассеялась.
Прислушиваясь к своим холодным мыслям, я протянула руку и взяла бутылку. Глотнула и обтерла рот.
* * *
«Ты – сумасшедшая! – Яна гремела замками. – Фридрих уже звонил. Два раза: приехала – не приехала? – она сладила с дверью. – Половина пятого. Ну, и где ты шлялась?»
Я стягивала сапоги, цепляясь за ее руку. «Что он сказал?» – «Что-что? Во-первых, не ори. Дети спят. Сказал, чтобы ты позвонила. Как только явишься. На».
Номер я набрала по памяти.
«Вы – где? – Я не успела объяснить ни слова. – Если не можете говорить, скажите нет». – «Могу. Я уже дома. Просто была авария. Пробило два колеса. Пришлось ждать, когда подвезут запаску. Не могла же я его оставить… А вы… Вы что подумали?» – «Ничего, – он откликнулся другим голосом. – Подумал, что вас забрали…» – «Меня?! За что?» Чертыхнувшись, Фридрих бросил трубку. А может, нас просто разъединили. На линолеуме, по которому я ступала, остались мокрые следы.
В кухне было накурено. Мутный воздух. Не продохнуть.
«У тебя все мокрое, – Яна вошла следом, – и ноги, и сапоги. Господи, да где ты, наконец, шаталась? По пустырям, что ли?» – «Нет». Я ответила так, как должна была ответить Фридриху, если бы меня схватили и удерживали силой, но дали один раз позвонить.
Решительными шагами я двинулась к телефону. «Ты сумасшедшая?» – теперь она не утверждала. Просто интересовалась.
«И что бы вы сделали, если бы меня?..» На той стороне провода Фридрих не удивился. «Пошел бы на их условия». Он ответил совершенно спокойно, как будто успел обдумать и теперь сообщал результат. «Условия бывают разные». – «Условия всегда одинаковые. Разными могут быть решения. Я бы пошел на любые».
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































