Текст книги "Неприкаянный дом (сборник)"
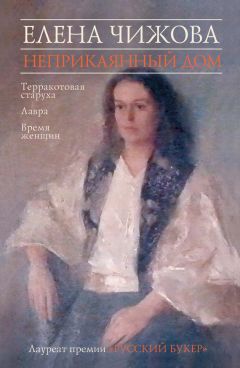
Автор книги: Елена Чижова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 56 страниц) [доступный отрывок для чтения: 18 страниц]
– Саша, это очень опасно. Его могут убить.
– Ты думаешь, я не беспокоюсь?
Меня коробит ее интонация. Как в каком-нибудь сериале: главная героиня тревожится за главного героя. Бандита или мента. Они не понимают. Им кажется, это просто игра. Сценарий, который можно переписать по ходу съемок.
– Ты сказала ему об этом?
Дочь кивает:
– Конечно.
– А он?
Она пожимает плечами:
– Ответил. Сказал: или я – их.
Я отворачиваюсь к окну. Главный вопрос эпохи, на который Янин сын ответил легко и свободно. Так, словно за его спиной никого не было. Во всяком случае, никаких Больших Братьев, на которых стоило оборачиваться. Жить с оглядкой.
Мои пальцы сжались:
– Надо же что-то делать!
Она смотрит недоуменно. Или, скорее, насмешливо. С ее точки зрения, мои слова грешат пафосом. Изобличающим восторженного и недалекого человека. Хомо советикуса.
Короче говоря, меня.
Кофе стал горьким. Так и не допив, я ушла к себе.
Идолы моих родителей, превращавшие комнату в подобие капища, смотрели на меня со стены. Я сидела напротив. Мои мысли текли, прокладывая новое русло: в сущности, этот мальчик прав. Варвар, высказавший то, в чем я не решалась себе признаться. Большие Братья советской интеллигенции. Их время кончилось. Ушло в небытие.
Большие Братья, осенявшие советское прошлое, переглядывались встревоженно.
«Сами виноваты, – я думаю мстительно. – Не надо было сотрудничать. В конце концов, это и есть коллаборационизм: сотрудничество с врагом в его интересах. Радетели за счастье народа. Блистательный пантеон. Вот и доигрались: стали просто портретами. Картинками из учебника литературы…»
Чтобы отвлечься от главного, я пытаюсь представить этот судебный процесс.
Адвокаты, призванные на защиту, занимают свое место:
– Наши подзащитные ни при чем. Их просто использовали. В своих произведениях русские классики отражали окружавшую их действительность. Искали выход из нравственного тупика. Разве они виноваты, что советские методисты передергивали их мысли? Мы полагаем, – адвокаты обращаются к судьям, но метят в присяжных заседателей, – это не тянет на статью.
Судья подзывает представителей двух противоборствующих сторон. До тех, кто собрался в зале, долетают отдельные слова.
«Вот именно. Если уж на то пошло…» – «А темы? Просто кишат уликами. “Лев Толстой как зеркало русской революции”…» – «Но это же – явный подлог. Домыслы вождя мирового пролетариата…» – «Не скажите… А отрицание жизни образованных классов? А Манифест 17 октября? В нем нет ничего для народа. Между прочим, это слова вашего подзащитного. Его подлинные слова. Великому старцу захотелось чего-нибудь по-радикальней. Может быть, ленинских декретов, призывавших к сознательному творчеству миллионные массы рабочих и крестьян?..»
Судья поднимает молоточек:
– Протест отклонен. А вас, – он обращается к прокурору, – я предупреждаю в последний раз. В деле, которое мы рассматриваем, ирония неуместна. Так что потрудитесь…
Я открываю глаза.
Сын моей бывшей подруги в беде. «В беде, – я повторяю про себя. – И с этим надо что-то делать. Делать, а не воображать всякие глупости. Вроде суда над классической русской литературой…»
Два следователя, сидящие в моей голове, воспрянув, потирают руки. Голос доброго звучит мягко и увещевающе:
– Татьяна Андреевна, голубушка! Ну к чему все эти винтажные заморочки? Эту рыбину обглодали до косточек.
– И потом… Матушка Татьяна Андреевна! – голос злого вступает исподволь. – В сложившихся обстоятельствах определенно – не ваш вопрос. У мальчика есть родители. Вот пускай они и заморачиваются. Пусть! – завершая песенку, он отмахивается характерным русским жестом.
– И вообще… – добрый следователь морщится. – При чем здесь классическая русская литература? Не станете же вы утверждать, что это они, – он косится на великие портреты, – учили вас двоемыслию?
– Вот-вот, – злой следователь чинит карандаш. – Умение договариваться с собой – имманентное свойство интеллигенции. Разве нет?
Я опускаю голову. Мне нечего возразить. В наших извилинах всегда сидели два следователя. Их диалоги звучали, как две оперные партии. Так уж они устроены, наши двуличные мозги. Усмехнувшись, я поправляю себя: не оперные, а опереточные. Похоже, их оперетта расположилась удобно и вольготно.
Голос доброго следователя приводит несокрушимые аргументы:
– Просто нелепо и смешно… Такая ли у тебя мышца, как у Бога? И можешь ли возгреметь голосом, как он? Ну, если можешь, – хихикнув, он бросает взгляд на коллегу, – тогда взгляни на всех высокомерных и унизь их, сокруши нечестивых на местах их, зарой их всех в землю и лица их покрой тьмой. Тогда и я признаю, что десница твоя может спасать…
Следователи – мои ровесники. Умеют разговаривать на моем родном языке. На языке моих подлинных цитат, родимых, как местные осины. Добрый следователь смеется и грозит пальцем. Немудрено. Уж мы-то с ним понимаем друг друга. Нам не нужны никакие переводчики.
«Ладно, – я думаю, – еще поглядим… Порешаем наш общий вопросик. Посмотрим, кто кого».
– А разве – нет? – я завожу свою партию. – Если помните, однажды я уже попробовала: взглянула, унизила, сокрушила. Не то чтобы зарыла, но уж, во всяком случае, покрыла тьмой… Спасла зверка, пойманного на месте преступления.
– Ну разве можно сравнивать! – они выпевают хором. Как слитную музыкальную фразу.
– Во-первых, тогда вы были виннером. А теперь, извините… – добрый следователь разводит руками.
– А во-вторых, – его коллега заканчивает мысль, – ваш Фридрих вынужден был пойти на попятный. Потому что надеялся использовать вас и дальше. И наконец, в-третьих, – злой следователь подводит промежуточные итоги. – Согласитесь, когда вы работали на Фридриха, все-таки это была и ваша война.
Два следователя, сидящих в моих мозгах, предвкушают победу. Против них у меня нет разумных аргументов.
– А потом… Татьяна Андреевна. Нет-нет, – добрый следователь машет руками, – конечно, это личное…
Злой следователь пощелкивает пальцами:
– Личное… Не личное… Короче: его мать. Ваша бывшая подруга. Как ни крути, увела вашего мужика. Я уж, – он вздыхает деликатно, – молчу про ту историю, с вашим бывшим мужем…
– А вот это вас не касается, – я пресекаю решительно. В разговоре с ними я буду стоять до последнего. На ее стороне. – Уж с этим мы как-нибудь разберемся. Без вас.
– Ага, – добрый следователь кивает. – Без нас. Уже разобрались. Пятнадцать лет назад.
Я пропускаю мимо ушей. Что мне до их дешевых прихватов.
– Что касается моего любовника, не увела, а подобрала, – я слышу свой ясный голос. В разговорах с ними мне ясно все наперед.
– Ну, это – частности: подобрала, увела… Все равно вам было… неприятно, – злой следователь косится в сторону. – Ну, признайтесь. Вам же было противно? В то время, когда вы работали как проклятая, они, за вашей спиной…
– Еще бы не противно! – добрый следователь, сидящий в моих мозгах, отвечает за меня. – Вот мне уж точно было бы противно. Как говорится, на вашем месте…
– Если помните, к тому времени я уже его бросила. Прямо на исполкомовском дворе. Когда пересела в инопланетную машину. И заметьте: с тех пор больше не видела…
Злой следователь пожимает плечами, открывает папку, прошитую мертвыми нитками.
– Поглядим. Что у нас тут записано? Ага, – тычет пальцем. – Вот. Оперативная кличка: Кролик. Нынешний муж вашей подруги. Он же – ваш бывший любовник. Теперь имеет крутые связи.
– Сильная тема! – добрый следователь вертит головой восхищенно. – Бывший кролик, крышующий нынешних волков…
Завязки свисают безвольно, как потрепанные шнурки. Из папки сочится запах гнилого времени. Дух формалина, достоевско-ждановской жидкости, неведомый героям европейских романов. Этой же гнилью воняет и в наших мозгах.
– Ну уж – бывший! – я усмехаюсь. – Разве у вас бывают бывшие?
– А вот тут вы правы, – с последним тезисом он соглашается охотно. – Это ваша цивилизация рухнула. А наша, изволите видеть, уцелела. И именно по этой причине. Мы – не предатели, отрекающиеся от своего прошлого.
– Прошлое, настоящее, будущее, – злой следователь морщится. – В сущности, это только слова. За которыми нет никакого смысла. С философской точки зрения время – категория непрерывная. Кстати, с нашей тоже. Своим мы помогаем всегда. Впрочем, это так, к слову. Вот, – он выкладывает на стол бумагу, захватанную чужими пальцами. – Распишитесь, и – вы свободны.
– С каких это пор, – я обращаюсь высокомерно. Как если бы за моей спиной стояло достоинство, воспитанное классической русской литературой, – моя свобода зависит от вас?
– Предпочитаете, чтобы она зависела от денег? – он листает папку, путаясь в шнурках. – Чего-чего, а уж денег вам точно не хватит.
Они с коллегой переглядываются.
– Между прочим, это – ваши подлинные показания.
– Никаких показаний не было. Это все – выдумки.
– Выдумки? – он вскидывает глаза. В его глазах благородное возмущение. – Извольте, – он протягивает захватанную бумагу. – Прошу ознакомиться. С протоколом вашего предыдущего допроса.
Я читаю внимательно:
Вариант 1. Часть 1. А3.
Следователь: «А что вы скажете об этом: не убий, не укради?..»
Подследственная: «А это – не наш вопрос. Пусть спрашивают с тех, кто придет за нами».
– Иными словами, – злой следователь кивает в сторону кухни, – с них. Может быть, вы этого не заметили, но они уже пришли: дети, сидящие на вашей кухне.
Эти дети ничего не ответят. Чтобы отвечать, надо знать слова. Все, а не только те, на которые натаскивают.
Я осматриваю листок, повернув тыльной стороной. У меня есть собственный опыт, который я наработала у Фридриха. Так и есть: никакой не подлинник. Перевод с какого-то европейского языка: перевели, подогнали по строкам, чтобы никому не пришло и в голову. Прежде чем подписывать, пожамкали. Так, как это делали мы. Но сперва – они. Мы двигались за ними следом.
Внизу стоят свежие подписи.
– А это? – я интересуюсь вежливо. – Перевели на окне?
– Вот еще! – злой следователь бросает раздраженно. – Поверите, просто нет отбоя. От желающих поставить свою закорючку. Мы уж тут замучились: идут и идут…
Два великих портрета, отмененные новым временем, смотрят растерянно. Так, как они смотрели тогда. Только в тот раз между ними стояло лицо зверка, на котором ничего не проступало: ни осознания, ни раскаянья. Не лицо – пустыня. Наша проклятая пустыня.
В кабинете Фридриха было полно народа, но зверок, чуявший недоброе, смотрел на меня.
«А вы чего ждете? – Фридрих обернулся к охранникам, которых про себя я называла кусками мяса. – Начинайте сами. За это вам платят деньги».
«Давай, шевели мослами», – кусок мяса, стоявший справа, держал улику – черную тряпочную сумку.
Его напарник, стоявший слева, буркнул: «Топай, топай».
Втянув голову в плечи, зверок шел к дверям.
Звери, начавшие сами, двинулись след в след. В их глазах ничего не проступало: ни злобы, ни возмущения. Ничего личного. Просто цепь питания. В которой зверь стоит над зверком.
Два портрета, висевшие на Стене Классической Русской Литературы, смотрели вслед звериной процессии…
Я возвращаюсь в свое настоящее. К своим собеседникам. Теперь они снова похожи на пастырей: католического и православного. Дополняют друг друга, как два построчных перевода.
– В нашем Ордене нет подобных нелепостей. Никакого разорванного времени. Для нас – все едино.
– Ага, – его визави кивает. – Наше прошлое смыкается с нашим будущим через наше же настоящее…
Затаившись в родительском капище, я сижу смирно. Интересно, кто из них двоих – подделка? И с чего я взяла, будто Кролик с ними сотрудничал? А все они, наши чертовы фобии. Наш вечный советский винтаж…
Я прислушиваюсь. Конечно, мне это только кажется: в прихожей шелестят голоса. Как листки, вложенные в новые папки. В них нет и не может быть ни нашего опыта, ни наших обглоданных цитат. Наши дети начинают с нуля. Так, словно до них ничего не было.
– Ой, да она, наверно, легла, – Александра щебечет шепотом. – Да, да. Передам. Конечно. Давай. Ну, пока.
Дверной замок щелкает.
– Не спишь? – дочь заглядывает в комнату. Усаживается на маленький диванчик, на котором спала в детстве. – А знаешь, что он еще сказал? Тетя Яна тоже скучает. Витька говорит… Сам слышал. Иногда она с тобой разговаривает, – дочь смотрит победно. – Вслух.
Я отвожу глаза, стараясь не встретиться взглядом с портретами. Как будто меня уличили в чем-то постыдном. В том, что следует скрывать.
– Если тетя Яна… – мне трудно произнести это вслух. – Может, ты и права. Пятнадцать лет. Действительно, много времени. В общем, если она не против, я тоже…
Дочь обрывает меня восторженным дикарским выкриком: йес!
* * *
В проверочном диктанте мой новый ученик допустил одну-единственную ошибку. Надо признать, меня это удивило: текст, извлеченный из загашника, был составлен не столько на правила, сколько на исключения.
– Ну что ж… Для будущего абитуриента нефилологического вуза – очень впечатляющий результат.
На его месте любой другой бы обрадовался. Но Иван пожал плечами. Я почувствовала укол раздражения. Как тогда, на лестнице, когда он разглядывал меня с любопытством.
– Попробуем демонстрационные варианты? – я отложила красную ручку. – Начинайте с самого первого. Подряд.
Возможно, мне достался случай так называемой врожденной грамотности. При письме такие дети не допускают ошибок, но обычно не знают правил. Полагают, что им эти заморочки ни к чему.
Вариант 1. Часть 1.
А1, А2, А3…
Он отвечал быстро и собранно. Не раздумывая, не дожидаясь моей реакции. Как будто меня здесь не было.
Его лицо оставалось спокойным, словно ему не было дела до того, что игра, в которую он меня втянул, заканчивалась с разгромным счетом. Уж себе-то я могла признаться: в глубине души я чувствовала растерянность, как будто согласилась на роль, не зная слов.
В дверь постучали прежде, чем я решилась признать свое поражение.
– Да, – Иван откликнулся недовольно.
– Простите… – она вошла в комнату. – Может быть, вы… чашечку кофе… – остановилась на пороге. В руках – полный поднос: сахарница, молочник, тонкая кофейная чашка. Смотрела на меня, улыбаясь оплывающими губами.
Прежде чем отвернуться, ее сын дернул плечом.
– А я ведь… – пристраивая поднос, она действовала с преувеличенной осторожностью. – Мы с вами – коллеги. Я тоже преподавала в школе. А потом… потом родился Ванечка. Но я… Я помню. И правила, и сочинения. Предлагала: давай позанимаемся. Но мой сын… он выбрал вас.
Последние слова эта женщина произнесла с болью.
Рука ее сына рисует замысловатые каракули – овалы, замкнутые фигурными скобками. Дожидаясь, пока она уйдет, он расчерчивает их мелкими клетками. Откладывает лист, на котором не осталось живого места.
– Ты. Нам. Мешаешь, – голос Ивана звучит глухо.
– Я? – она улыбается беспомощно. – Ухожу… ухожу… ухожу.
Я наливаю себе кофе. В игре, которую он затеял, я – на ее стороне. Потому что мы – коллеги. Потому что она преподавала в школе. Потому что меня не обманешь: книги, стоящие на его стеллажах, пришли из той жизни. Я оборачиваюсь к старым обложкам:
– У вас прекрасная библиотека. Надо полагать, ее собирала ваша мама?..
Остывающий кофе почти не пахнет. Знак вопроса я поставила машинально. Мне не нужен его ответ. Меня не собьешь механическими рисунками. Эка невидаль: обычный подростковый невроз. К тому же его овалы не похожи на мои лилии. Ничего общего.
– Ну что ж… – я разглаживаю на сгибе, откладываю в сторону – сборник экзаменационных упражнений. Обложкой вверх. – Диктант вы написали блестяще. Правила знаете. Вам не нужен репетитор. Хотелось бы узнать – зачем? Зачем вы меня пригласили?
– Я… – он прислушивается. Его мать идет по коридору: я слышу стук ее каблучков. – Потом. – Каблучки замирают под дверью. – По литературе? – Иван переспрашивает громко, как будто отвечает на мой вопрос. – По литературе мы проходим Гоголя. Мертвые души.
– Для русской литературы… – Почему я ему подыгрываю? – «Мертвые души» – важнейшая тема. На следующем уроке мы обязательно к ней вернемся. – Никакого следующего не будет… Я не позволю себя использовать. – Урок окончен.
Тук-тук-тук.
Каблучки затихают в глубине коридора.
Я складываю вещи.
Иван провожает меня. Стоит в прихожей. Ждет, пока я оденусь. В квартире, которую я тороплюсь покинуть, стоит ватная тишина.
– Нет, – он возится с неподатливыми замками.
Я поднимаю недоуменный взгляд.
– Про книги. Вы спрашивали про книги. Это – не она.
Вдоль тротуаров хохлятся горбатые иномарки. За ночь их накрыло сугробами. Я иду, оскользая на снежной наледи. «Тоже мне! Тайны Мадридского двора… Только этого не хватало… С чего он взял, будто я стану его союзницей?..»
Женщина, идущая мне навстречу, неловко взмахивает руками. Я отступаю в сторону. На этой тропке двоим не разойтись.
«Ну, выпила… Мало ли… – я подбираю объяснение. – Например, встретилась с подругой. Давно не виделись. Посидели в кафе…»
– Как мы с тобой? – Моя подруга тут как тут. – Ну, и куда двинемся?
Ничего удивительного. Ее сын слышал своими ушами: иногда она со мной разговаривает.
– Не знаю… – я замедляю шаги. Останавливаюсь у витрины. Манекены, нарядно одетые, смотрят пустыми глазами. – Может, в «Сайгон»?
Сколько раз хотела, но так и не решилась зайти. Вдвоем – совсем другое дело. Что тут особенного? Две женщины заходят в кафе, чтобы поговорить о настоящем и будущем. Спокойно, как будто у них не было никакого прошлого. Просто сесть и поговорить.
– В «Сайго-он»? – Яна переспрашивает недоверчиво. – Думаешь, там все осталось по-прежнему, как раньше?
Угол Литейного и Невского. Отсюда – подать рукой.
Раньше здесь собирались непризнанные гении. Пили крепчайший кофе – фирменный напиток, которым они запивали презрение к советскому миру. Их губы были подернуты усмешкой: легкий цинизм, подтопленный рефлексией. Мы с Яной заходили время от времени. Кафе было открыто для всех, но главными оставались они. Болтали о своем, не замечая посторонних. В новые времена некоторым удалось пробиться. Обернуться прекрасными лебедями. Но большинство так и осталось массовкой – стайкой гадких утят.
Те, кто пробились, стали оправданием их круга. Теперь они думают – целого поколения. Состарившиеся утята могут гордиться: знакомство с лебедями – само по себе удача и успех. Проходя мимо, я оглядываю высокие двери: а может быть, втайне презирать?
Гордость и тайное презрение. Русский роман, который напишут лузеры, пустив на это остатки своих никчемных жизней. Красной нитью в нем будет сверкать советская мысль: чтобы стать виннером, надо научиться приспосабливаться, наступать на горло собственным песням. Утятам кажется, будто у них тоже были свои песни. Просто они не приспособились. Не пожелали переступить через себя…
Когда я работала на Фридриха, здесь, правда совсем недолго, торговали итальянской сантехникой – раковины, унитазы, кафельная плитка. Сколько раз проезжала мимо, смотрела на сантехнические витрины: яркий кафель, краны, выгибавшие лебединые шеи.
– Да брось ты! – Яна отмахивается. – Какие унитазы… Всю жизнь на этом углу – кафе!
– Ты просто не помнишь…
Яна пожимает плечами. В те годы она сидела с нашими детьми.
– Ну что, зайдем? Посидим, выпьем винца.
Лузер, живущий во мне, замирает на мгновение: вино, которое подают в кафе, стоит бешеных денег. Я разучилась тратить на себя.
– Выпить? С удовольствием. Отличная мысль! – я подхватываю неверным голосом.
– Или сперва – по кофейку? Что-то я ужасно замерзла… Это ты у нас – спартанская героиня. Зима, а ходишь в курточке… – она снимает шубку, бросает на спинку стула. Небрежно, как и подобает богатой женщине. – Ну, рассказывай… Как? Что?
Я пристраиваю куртку, снимаю вязаную шапочку. Наше прошлое связано замысловатым узором: дети, мужья, любовники. Мне не хочется об этом говорить.
Днем здесь совсем мало посетителей. Молодая пара: парень с девушкой – устроились в дальнем углу.
Джентльмен, занявший место у входа, листает газету. Из динамиков льется тихая музыка. Ее не надо перекрикивать. Посетители могут поговорить тихо и спокойно.
Наш разговор не клеится. Как-никак прошло пятнадцать лет.
– Ваши два капучино, – девочка-официантка приносит заказ. У нее милое личико, не обезображенное агрессивной косметикой. Похожа на студентку-филолога. В Европе принято подрабатывать. К примеру, официанткой в кафе.
Краешком чайной ложки я касаюсь сливочной пены. Пенный куполок посыпан чем-то коричневым, похожим на шоколадную крошку.
– Поня-ятно, – Яна делает знак официантке. – Все те же вечные ученики.
Девушка-официантка выходит из-за стойки.
– Французское, испанское, итальянское… – моя подруга просматривает винную карту. Европейскую карту здешней местности, анклава уюта и спокойствия. Среди наших волчьих равнин.
– Ну, и как тебе? – Прежде чем принесут заказ, у нас есть время осмотреться.
– Ничего, – я киваю. – Симпатично.
Дизайнеры, оформлявшие новый интерьер, сыграли на прошлом. Выбрали компромиссный вариант: развесили фотографии прежних посетителей, которые называли друг друга гениями… Родись Иван в прежние времена, мог бы стать одним из них…
– Какой Иван? Ах, этот… – она тянет разочарованно. – Да брось ты! Не говори глупости. С чего ты взяла?
Честно говоря, я и сама не понимаю, откуда у меня взялась эта мысль.
– Вот и не выдумывай. Мальчик как мальчик. К тому же – отпрыск богатых родителей. Как пить дать – избалованный. И вообще… Тебе-то какая разница! Дула бы в свою дудку. Главное, выгодный урок…
– При чем здесь богатые родители? Можно подумать, это передается по крови?
– Это? – она щурится. – Что-то я тебя не пойму…
Этого я не могу объяснить. Старые обложки – не аргумент. Если сошлюсь на старые обложки, она ответит: он-то здесь при чем? Библиотеку собрали до него. Пускай не мать, бывшая училка литературы. Но ведь не он…
Подходя к троллейбусной остановке, я думаю: «И все-таки они стоят в его комнате. Что, не нашлось другого места? Во всей огромной квартире?..»
Троллейбус распахивает двери. Я пробираюсь назад, отворачиваюсь к окну.
Дело не в обложках и даже не в абсолютной грамотности. Этот мальчик – другой. Его губы сделаны из натуральной кожи. Мне не представить его шакалом, с холодным усердием терзающим очередную жертву…
– Ничего удивительного, – воображаемая подруга подхватывает мгновенно. – Отпрыск богатых родителей: жизнь, накладывающая неизбывные черты. Ни дня не проучился в советской школе. Ну и где он научится вгрызаться?
– Вот-вот, – я усмехаюсь. – Запущенный ребенок.
Голос водителя возвращает меня к жизни. Чуть не проехала свою остановку. Оторвавшись от заднего стекла, я пробираюсь к выходу. Гипермаркет, цивилизация новых виннеров, сияет огнями реклам. Издалека он похож на океанский лайнер, того и гляди тронется в путь.
По выходным сюда приходят целыми семьями: дети, родители, старики. В этой пьесе им достались роли дедушек и бабушек. Шопинг – демонстрация единения, нерушимости семейных уз. Администрация это учитывает. Для каждого возраста предусмотрены свои развлечения: кафе, рестораны, бутики. На первом этаже оборудована детская комната. Малыши под присмотром воспитателей резвятся в загончике с шарами. На склоне жизни эти дети обязательно вспомнят. Я пытаюсь представить себе их будущее: вот они стали стариками и старухами, уселись в глубокие кресла. Седина, морщинистые руки… В их памяти осталось красивое детство, расцвеченное всеми цветами радуги: шары – упоительная игра. Вспоминая, они шевелят старческими губами…
«Не надо. Не надо было упоминать про Ивана, – думаю я с горечью, как будто мы с Яной и вправду встретились. – Для тех, кто победил в естественном отборе, наши аргументы – невнятица, заумь, полная бессмыслица. Мысль, обращенная от адепта к адепту. От лузера к лузеру».
Когда мы встретимся, я найду другие темы. У меня достаточно времени, чтобы все обдумать, подготовиться как следует. Как следует – устойчивое выражение из лексикона моих родителей, подходящее на все случаи жизни. Что-что, а уж это они знали точно – что следует и как. Такие вопросы они решали с легкостью. В отличие от нас, которым досталось межеумочное время.
Во-первых: ее сын. Я должна сказать ей об этом. Предупредить: «Твой сын в опасности. Поговори со своим мужем. Сама». Когда-то давно я не сделала этого: не позвонила той училке – матери Сергея Николаевича. Потому что играла на волчьей стороне.
* * *
Он явился на пятый день. Приехал вечерним автобусом, который возит вторую смену. Я видела, потому что стояла у окна. Как обычно, водитель остановился поодаль. К проходной рабочие подходили группами. Сергей Николаевич шел один. Просто шел. Шел и смотрел в землю. В которой мог оказаться, если бы Фридрих отдал другой приказ.
Мне хотелось его увидеть. Не для того, чтобы глянуть в глаза. В этой истории меня интересовала исключительно кожа: ссадины, синяки, кровоподтеки.
Он поднимался. Я стояла на своем этаже. Смотрела вниз, облокотясь на перила. Его кожа осталась нетронутой: молодое чистое лицо.
Проходя мимо, он поздоровался. Я кивнула. Едва кивнула в ответ.
Стояла и думала: на месте Фридриха я бы сделала то же самое. Чистая кожа – алиби, которое можно предъявить. Чтобы все убедились: ничего страшного не случилось. Смотрите: вот он идет по коридору. Ни один волос не упал с его взлохмаченной головы. Потому что мы – не волки.
Вечером я узнала: Фридрих его не принял. Передал через секретаршу. Сказал: пусть идет в бухгалтерию – получать расчет.
На часах – ночь. Половина двенадцатого.
Фридрих стоит передо мной. Одна штанина вздернута, как тогда, когда я ждала его на балконе. Они подъехали на трех машинах: Фридрих и его мутноглазые партнеры. Эти бы точно убили…
Он возвращается за стол. Поднимает глаза. Я вижу, как он измучен.
«Еще не поздно. Мы… Если вы, конечно, не заняты… Можно куда-нибудь съездить. Посидеть…»
Совдепия кончилась. Теперь – главное результат. Не убили. Это – хорошая новость. Очень хорошая. Но в мире, который мы построили, обсуждают только плохие.
«Я видела его».
Зачем я говорю об этом?
«Видели? – Фридрих переспрашивает. – И – что?»
«Это вы?.. Вы приказали, чтобы его… не били?»
Фридрих пожимает плечами:
«Били? Зачем?»
Теперь это вопрос целесообразности.
«В данном случае это – лишнее. Закрыть на пару дней. Подонок, – он морщится как от зубной боли, дергает щекой. – Не хватало марать руки. Все выложил сам».
«А где его нашли?»
«Какой-то город. Маленький. Сказали, да я не запомнил».
Название – лишняя информация. Это я тоже понимаю: в распоряжении тех, кого он нанял, вся физическая карта. Рано или поздно любая точка может стать пунктом С.
«Он… как-нибудь объяснил? Зачем он сделал это?»
«Зачем? Захотелось красивой жизни. А вам? Вам тоже хочется?» – в его голосе холодный металл.
«Мне? – я прислушиваюсь к своему пустому сердцу. Это раньше оно ходило как заведенное, стучало, как метроном в мертвом городе. Теперь молчит. – Лично мне хочется есть. Кажется, вы предлагали съездить? Вот и поехали. Куда?»
«Поехали. Сообразим по ходу, – Фридрих не смотрит мне в глаза, роется в карманах, – что-то хотел… Потом».
Не корабль, не яхта… Скорее, двухэтажный паром. Прижатый к берегу, расцвеченный разноцветными огнями. Островок веселого света среди окрестной тьмы.
Мы идем, цепляясь за толстые канаты. Словно это океанский лайнер, под днищем которого ходят живые волны. Я заглядываю: там, внизу, мертвая вода.
«Здравствуйте, здравствуйте… Очень рады, прошу вас…»
Человек, наряженный матросом, спешит нам навстречу. Под радушной гримаской прячется что-то волчье. Он провожает нас к лестнице. В океанских лайнерах это называется: спуститься в трюм.
Трюм, трюмить, тюрьма – я нанизываю рассыпавшиеся бусины.
В трюмах работают машины. Матросы, черные как черти, швыряют уголь…
Два халдея, одетых матросами, распахивают двери.
Музыка ударяет в уши, бьет увесистыми кулаками. На лицах остаются следы.
Мы входим в зал, идем мимо столиков. Женщина, нарядно одетая, караулит у стойки бара. Краем глаза я вижу: на ней моя любимая блузка, та самая, с полупрозрачными рукавами. Очертания руки проступают нежно и воздушно. ОН, герой европейского романа, о котором я мечтала в юности, смотрел бы на нее с восхищением.
Женщина, укравшая мою блузку, провожает меня презрительным взглядом. На мне юбка и свитер. Но это ничего не меняет. Здесь – не Европа. Я – не мадам Шоша. Это она входила в зал, демонстративно хлопнув дверью. Прежде чем проследовать к хорошему русскому столику, поворачивалась, показывая себя.
Я забираюсь в угол, сажусь лицом к залу. Фридрих напротив – спиной. У него напряженное лицо. Официант плавает кругами, накрывает столик: тарелки, бокалы, приборы… Раньше в ресторанах всегда танцевали. Я помню: тетки наряжены в люрекс, мужики – в белых рубашках. После второй рюмки скидывали пиджаки. В те времена это называлось красивой жизнью.
Официант принимает заказ. Аккуратно записывает в блокнот: закуски, горячее.
Здесь не танцуют. Сидят.
«Вам не нравится? Невкусно?» – Фридрих разговаривает с набитым ртом. Наш стол уставлен закусками: рыба, икра, салаты. Закуска, не лезущая в глотку.
Краем глаза я вижу: человек, одетый в черное, встает из-за стола. В этом трюме все столы одинаковые – ни плохих, ни хороших.
Он движется в нашу сторону, идет мимо бара. Женщина, караулящая у стойки, распрямляет спину, слегка выпячивает грудь. На ее губах мелькает призывная улыбка: уголки, слегка вздернутые, тянутся вверх. Легкое мышечное напряжение. Мужчина, одетый в черное, не обращает никакого внимания. Подходит к нашему столику, встает у Фридриха за спиной.
«Приветствую вас».
Фридрих отирает рот салфеткой. У него собранные глаза. Как будто ему надо принять решение.
«Какая приятная неожиданность! А я и не заметил…» – губы, растянутые в улыбке.
«А я заметил. И вас, и вашу милую спутницу», – он смотрит мне в лицо. Внимательно, как будто хочет запомнить.
Я тоже смотрю: цепкий взгляд, приплюснутая переносица, бледная кожа… Внимательно, как будто должна его запомнить.
«Моя коллега, – Фридрих говорит с напором. – Мы проголодались. Зашли поесть».
«Понимаю. Поесть. Собственно, мы тоже. С моими коллегами, – он делает движение корпусом, как будто хочет обернуться. Коллеги, сидящие за его столом, смотрят на нас. Внимательно, как будто тоже должны запомнить. – Но мы пришли раньше. И скоро уходим. Собственно, уже. Но прежде… Я подумал, мне стоит вас поприветствовать. Убедиться, что наши принципиальные договоренности остаются в силе».
Женщина, одетая в прозрачную блузку, сидит вполоборота, смотрит на нас.
Фридрих пожимает плечами:
«А вы сомневаетесь? Кажется, я никогда и никого не подводил», – он делает движение, как будто намеревается встать.
Человек, которого я увижу, протягивает руку. Его пальцы касаются плеча Фридриха. В переводе на хороший русский этот жест означает: «Не беспокойтесь. Прошу вас, не вставайте. Сидите, сидите…»
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































