Текст книги "Те, кто уходит и те, кто остается"
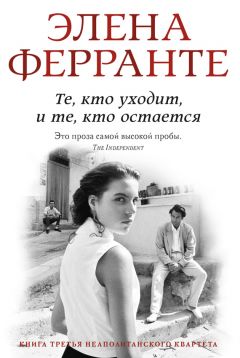
Автор книги: Элена Ферранте
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
29
Лила быстро сообразила, что рабочие завода, возвращаясь после трудового дня домой, не испытывали ни малейшего желания заниматься сексом с женой (или мужем) – у них не было на это сил. Зато утром и днем, когда они приходили на работу, природа брала свое. Мужчины постоянно распускали руки и не пропускали ни одной девушки, чтобы не сделать ей непристойное предложение. Женщины – особенно те, что постарше, – в ответ только смеялись, прижимались к ним, выпячивали грудь и напропалую флиртовали – такая любовь служила им развлечением, отгоняла усталость и скуку, дарила иллюзию настоящей жизни.
С первых дней работы мужчины начали обхаживать Лилу, осторожно прощупывая почву. Лила каждому давала от ворот поворот, они хмыкали и отставали, напевая песенки, полные грязных намеков. Однажды утром, чтобы раз и навсегда положить конец приставаниям, она чуть не оторвала одному рабочему ухо – тот, проходя мимо, сказал сальность и поцеловал ее в шею. Того типа звали Эдо – мужик под сорок, довольно приятной внешности, который клеился ко всем женщинам и рассказывал похабные анекдоты. Лила мертвой хваткой вцепилась ему в ухо и изо всех сил потянула, одновременно нанося ему удары ногой; он орал благим матом и вырывался. После этого взбешенная Лила пошла к Бруно Соккаво жаловаться.
С тех пор как Бруно взял ее на работу, она видела его несколько раз, но не обращала на него внимания. На сей раз у нее была возможность рассмотреть его хорошенько: он стоял за своим письменным столом – встал, как положено воспитанному мужчине, когда в комнату входит женщина. Вид его удивил Лилу: отечное лицо, тусклый взгляд пресыщенных глаз, жирная грудь, но главное – цвет лица, красный, как жидкая лава, особенно заметный на фоне черных волос и крупных белых зубов. «Неужели это тот самый парень, который дружил с Нино и изучал право?» – изумилась она про себя и поняла, что между каникулами на Искье и колбасным заводом вообще нет никакой связи, ничего, кроме зияющей пустоты, и, очевидно, для Бруно прыжок из одного мира в другой не обошелся без последствий; кроме того, его отец заболел, и предприятие (по слухам, вместе с долгами) внезапно перешло под его полную ответственность.
Она высказала ему свои претензии, он рассмеялся.
– Лина, – сказал он, – я сделал тебе одолжение, взял тебя на работу, так нечего морочить мне голову. Люди работают, устают, и я не могу запретить им расслабляться, иначе они будут выливать свое недовольство на меня.
– Так расслабляйтесь друг с другом.
Он окинул ее повеселевшим взглядом.
– Я знал, что ты любишь пошутить.
– Позволь мне самой решать, что я люблю, а что нет.
Суровость Лилы заставила его сменить тон. Он сделал серьезное лицо и сказал, не глядя в ее сторону:
– А ты не меняешься: все такая же красивая, как на Искье. Иди. – Он указал ей на дверь. – Иди работай.
Однако с того дня, каждый раз, когда они сталкивались на заводе, он не упускал случая при всех поздороваться с ней, отпустить какую-нибудь любезность. Это немного облегчило Лиле существование: все поняли, что она в фаворе у молодого Соккаво, и лучше ее не трогать. Вскоре им выпал случай еще раз в этом убедиться. Однажды после обеденного перерыва толстая женщина по имени Тереза преградила Лиле дорогу и сказала, ухмыляясь, что ее ждут в сушильном цехе. Лила вошла в большое помещение, где под желтыми лампами, свисая с потолка, сохли колбасы. Там был Бруно: он делал вид, будто проверяет работу цеха, а сам просто хотел поболтать.
Кружа по цеху и с видом специалиста ощупывая и обнюхивая колбасы, он спросил, как поживает ее невестка Пинучча. Потом, не глядя в ее сторону и проверяя упругость колбасы, сказал: «Твой брат никогда ей не нравился, а тем летом она влюбилась в меня, как ты в Нино». Лила насторожилась, а он двинулся дальше, повернулся к ней спиной и добавил: «Благодаря ей я узнал, что беременные обожают заниматься любовью». Затем, не дав ей возможности хоть что-то сказать в ответ, веселое или сердитое, остановился в центре зала и сказал, что с детства ненавидел этот завод и только здесь, в сушильной камере, всегда чувствовал себя комфортно. Здесь он испытывал чувство удовлетворения, некой завершенности – продукт почти готов и, источая аромат, доходит до кондиции перед отправкой на рынок. «Посмотри, потрогай, – сказал он ей. – Какие они твердые, упругие. А как пахнут! Когда мужчина и женщина ласкают друг друга, пахнет почти так же. Тебе нравится? Знаешь, скольких девушек я сюда приводил, еще мальчишкой?» С этими словами он обхватил ее за талию, скользнул губами по ее длинной шее, стиснул ее ягодицы. Казалось, у него выросла сотня рук: они с бешеной скоростью шарили у нее под фартуком, без всякого удовольствия, с единственной маниакальной целью – доказать свою силу.
Все вокруг, начиная от запаха колбас, напомнившего Лиле о том, что вытворял над ней Стефано, на миг вселило в нее страх – она испугалась, что сейчас он ее убьет. Затем ее охватила ярость, она врезала Бруно по физиономии, двинула ему между ног и крикнула: «Ах ты дерьмо! Да у тебя там и нет ничего, давай, доставай что осталось, оторву на хрен! Мудак!»
Бруно выпустил ее, вытер с губы кровь, нервно хихикнул и пробормотал: «Извини, я рассчитывал хоть на каплю благодарности». Лила обожгла его взглядом: «Хочешь сказать, что с меня причитается? Не то ты меня уволишь, так, что ли?» Он снова засмеялся и замотал головой: «Нет-нет, не хочешь – не надо, все. Я же извинился, чего тебе еще надо?» Она была вне себя: только сейчас она почувствовала на себе следы его лап и поняла, что ей теперь долго от них не избавиться – такое мылом не смоешь. Она отошла к двери и бросила ему: «Считай, что сегодня тебе повезло. Но, клянусь, ты еще проклянешь минуту, когда осмелился меня тронуть!» Лила ушла, а он все бормотал ей вслед: «Да что я тебе такого сделал? Я же ничего не сделал. Навыдумывала себе! Я ссориться не хочу!»
Она вернулась на свое рабочее место. В тот день она занималась уборкой цеха, в котором варили колбасный фарш, – над огромными котлами поднимался пар, оседавший на пол, вытирай не вытирай. Эдо, чуть не оставшийся без уха, смотрел на нее с любопытством, и не только он. Все работники и работницы впились в нее глазами, когда она с перекошенным от ярости лицом вышла из сушилки. Лила схватила тряпку, швырнула ее на пол и принялась тереть грязную плитку, громко объявив: «Может, еще какой-нибудь сукин сын желает рискнуть здоровьем?» Рабочие перестали на нее пялиться и занялись делом.
Несколько дней она ждала увольнения, но его не последовало. Каждый раз, когда они сталкивались с Бруно, он вежливо улыбался ей, она холодно кивала в ответ. Ничего не изменилось, если не считать чувства омерзения, охватывавшего ее при воспоминании о его блудливых ручонках, перераставшего в ненависть. Мастера, наблюдая, что Лила ведет себя с прежней самоуверенностью, снова принялись ее изводить: постоянно перебрасывали с места на место, поручали самую тяжелую и грязную работу и донимали сальностями. Это означало, что Бруно дал им на это разрешение.
Энцо она ничего не рассказывала, ни о чуть не оторванном ухе, ни о приставаниях Бруно, ни о каждодневных оскорблениях и издевательствах. Когда он спрашивал, как дела на заводе, она с сарказмом отвечала: «А ты не хочешь рассказать мне, как у тебя на работе дела?» Поскольку он молчал, Лила отпускала в его адрес пару шуток, после чего они садились за учебники. За этими книгами они прятались от многого, но главное – от вопросов, что будет завтра, кто они друг другу, почему он заботится о ней и Дженнаро и почему она ему это позволяет, почему, хоть они давно живут под одной крышей, Энцо каждую ночь напрасно ждет, что она придет к нему. Он ворочался в постели, вставал, шел на кухню вроде бы попить, смотрел на ее дверь: горит ли свет, не мелькнет ли за мутным стеклом ее тень. Их существование состояло из немых ожиданий (постучать к ней? впустить его?) и бесконечных сомнений с обеих сторон. Чтобы не думать об этом, они воевали с блок-схемами, словно сражались с гимнастическими снарядами.
– Давай составим алгоритм открывания двери, – предлагала Лила.
– Давай составим алгоритм завязывания галстука, – предлагал Энцо.
– Давай составим алгоритм того, как я помогаю Дженнаро зашнуровать ботинки, – предлагала Лила.
– Давай составим алгоритм приготовления кофе по-неаполитански, – предлагал Энцо.
Они каждый день ломали головы над алгоритмами повседневных действий – от элементарных до самых сложных, – даже когда все задания из Цюриха были выполнены. Идея принадлежала не Энцо: Лила, начав заниматься через силу, с каждым днем увлекалась все больше. Когда наступала ночь и все в доме замирало, ее захватывала безумная идея: уместить весь этот ничтожный мир, в котором они жили, в последовательность нулей и единиц. Ей нравилась эта линейная абстракция, порождающая все остальные абстракции, служившая символом покоя и чистоты.
– Давай составим алгоритм работы завода, – предложила она однажды.
– Всего технологического процесса? – задумчиво спросил он.
– Да.
Он посмотрел на нее и сказал:
– Давай начнем с твоего.
Она недовольно скривилась, буркнула: «Спокойной ночи» – и ушла к себе.
30
И без того шаткое равновесие их существования нарушилось с появлением Паскуале. Он работал на стройке неподалеку и приезжал в Сан-Джованни-а-Тедуччо на собрания местной ячейки коммунистической партии. С Энцо они случайно столкнулись на улице и, как в былые времена, разговорились о политике; выяснилось, что они разделяют одни и те же убеждения и в равной мере недовольны властью. Поначалу Энцо выражался обтекаемо, ведь Паскуале был секретарем ячейки, но тот, отбросив всякую осторожность, неожиданно принялся критиковать партию, назвав ее ревизионистской, и профсоюзы, которые, по его мнению, слишком на многое закрывали глаза. Приятели до того обрадовались друг другу, что вечером Лила обнаружила Паскуале у себя за столом и была вынуждена срочно что-то предпринять, чтобы ужина хватило на всех.
Вечер начался скорее плохо. Лила видела, что Паскуале наблюдает за ней, и едва сдерживала гнев. Что ему от нее нужно? Явился разнюхать, как она живет, чтобы доложить всему кварталу? Кто дал ему право ее судить? Он не сказал ей ни одного дружеского слова, не упомянул ни о Нунции, ни о ее брате Рино, ни о Фернандо. Вместо этого он окидывал ее оценивающим взглядом, точь-в-точь как мужики у нее на заводе, а когда она ловила его на этом, спешил отвести глаза в сторону. Он наверняка заметил, как она подурнела; наверняка думал: «Каким же я был кретином! И как меня тогда угораздило в нее влюбиться?» Он наверняка считал ее плохой матерью, раз она обрекла сына на нищету, вместо того чтобы растить его в достатке на деньги от магазинов Карраччи. После ужина Лила вздохнула и сказала Энцо: «Уберешь сам со стола, я пошла спать». Но тут Паскуале вдруг встал и торжественно-взволнованным голосом заявил: «Лина, прежде чем ты уйдешь, я должен сказать тебе одну вещь. Ты – потрясающая женщина. Если бы все мы умели противостоять этой жизни с такой силой, как ты, мир уже давно изменился бы». Лед был разбит, и Паскуале рассказал ей новости о ее родне: Фернандо снова ставил на обувь подметки, Рино таскался за Стефано и постоянно клянчил у него деньги, а Нунцию он почти не видел, потому что та не выходила из дома. «Ты правильно сделала, что ушла, – заключил он. – Никому во всем квартале не удавалось надавать Карраччи и Солара столько пощечин, сколько надавала ты. Знай, я на твоей стороне».
После того вечера они стали видеться часто, что немало вредило успехам Энцо на заочных курсах. Паскуале являлся к ужину с четырьмя горячими пиццами и, как всегда, с видом знатока рассуждал о мире капитализма и его противниках. Былая дружба не только вернулась, но даже окрепла. Было видно, что он живет без женской заботы: его сестра Кармен готовилась к свадьбе и времени на брата у нее не оставалось. Лиле очень нравилось его отношение к своему холостяцкому житью-бытью, которое нисколько его не смущало; вместо семейной он вел активную общественную жизнь: трудился на стройке, работал в профсоюзе, разбрызгивал кроваво-красную краску на здание американского консульства, был в первых рядах, когда намечалась драка с фашистами, входил в комитет рабочих и студентов, постоянно ссорясь с последними. И это не считая коммунистической партии: он ждал, что его вот-вот сместят с поста секретаря ячейки за слишком резкие взгляды и критику. С Энцо и Лилой он говорил, ничем себя не стесняя, часто смешивая личные обиды с политическими убеждениями. «Это они мне говорят, что я враг партии, – жаловался он. – Говорят, что от меня слишком много шума и надо вести себя спокойнее. А ведь на самом деле это они разваливают партию, они делают ее шестеренкой системы, это они превратили антифашизм в сторожа демократии. Знаете, кого поставили во главе Общественного движения района? Сына аптекаря, дурака Джино, прислуживающего Микеле Соларе. И что мне остается? Терпеть власть фашистов в собственном квартале? Мой отец, – все больше распалялся он, – всего себя отдал партии. И ради чего? Ради этого разбавленного антифашизма, присыпанного сахарком? Ради того дерьма, что творится сегодня? Когда несчастный сгинул в тюрьме, осужденный без вины – ведь он не убивал дона Акилле, – партия бросила его, несмотря на то что он был ее верным солдатом, что за его спиной Четыре дня Неаполя[7]7
27–30 сентября 1943 г. – самый яркий эпизод движения Сопротивления на юге Италии: освободительное восстание населения Неаполя против немецких фашистов-оккупантов.
[Закрыть] и Понте-делла-Санита[8]8
Понте-делла-Санита – здесь: стратегически важный объект, который пытались взорвать немцы во время Четырех дней Неаполя. Был спасен партизанским отрядом.
[Закрыть], что и после войны он рисковал собой, как мало кто во всем районе. А наша мать, Джузеппина? Хоть кто-нибудь помог ей? – Упоминая о матери, Паскуале сажал Дженнаро к себе на колени и спрашивал его: – Видишь, какая красавица у тебя мама? Любишь маму?»
Лила слушала его. Иногда ей приходило в голову, что нужно было тогда, давно, сказать «да» этому парню, первым заметившему ее, вместо того чтобы грезить о Стефано и его деньгах и ввязываться в историю с Нино: надо было побороть свою гордость, остудить голову, успокоиться и остаться на своем – положенном – месте. В другие вечера, когда Паскуале особенно яростно нападал на всех и вся, она чувствовала себя так, будто вернулась в детство, в жестокие нравы нашего квартала, к дону Акилле и его убийству, о котором она так часто рассказывала, да еще в таких подробностях, добавлявшихся с каждым рассказом, что порой ей казалось, что она была на месте преступления в момент его совершения. В памяти всплывал арест отца Паскуале, крики плотника, его жены, его дочери Кармен – подлинные воспоминания смешивались с выдумкой, она снова видела насилие, видела кровь. Едва очнувшись от этих мыслей, она пыталась отогнать от себя исходившую от Паскуале злобу, уводила разговор в сторону, напоминала ему о семейном праздновании Рождества или Пасхи, о том, как вкусно готовила его мать Джузеппина. Паскуале понял ее по-своему, заключив, что Лила, как и он, тоскует по близким. Как бы то ни было, однажды он заявился без предупреждения и с порога весело крикнул: «Смотри, кого я тебе привел!» Он привел Нунцию.
Мать с дочерью обнялись, Нунция долго плакала, а потом подарила Дженнаро тряпичного Пиноккио. Лила вроде бы обрадовалась матери, но, стоило той начать бранить дочь за совершенные глупости, решительно сказала: «Мам, давай так: или ты делаешь вид, что у нас все нормально, или уходишь». Нунция обиделась и села играть с ребенком, то и дело повторяя, будто и правда обращалась к нему: «А когда мама ходит на работу, на кого же она тебя, бедняжечка, оставляет?» Паскуале понял, что совершил ошибку, сказал, что уже поздно и им пора. Нунция осмелела, повернулась к дочери и то ли угрожающе, то ли жалобно произнесла: «Сперва ты вытащила нас из нищеты, мы зажили как настоящие господа, а потом все поломала: твой брат чувствует себя брошенным и больше не желает тебя видеть, отец вычеркнул тебя из своей жизни. Лина, я не прошу тебя мириться с мужем, знаю, что это невозможно, но умоляю, поговори с Солара – это из-за тебя они все забрали себе, а твой отец, Рино, все мы, Черулло, снова остались ни с чем».
Лила дослушала ее, а потом практически вытолкала за дверь: «Лучше тебе, мам, никогда больше сюда не приходить». То же она крикнула вслед Паскуале.
31
Слишком много проблем свалилось на нее одновременно: она чувствовала свою вину перед Дженнаро и Энцо, выматывалась на работе, сносила сверхурочные смены и пошлости Бруно, боялась родни, снова готовой повиснуть у нее на шее, да еще и терпела визиты Паскуале, гнать которого было бесполезно. Он ни на что не обижался, весело врывался к ним в дом, то волок их в пиццерию, то вез на машине в Аджеролу, чтобы ребенок мог подышать свежим воздухом. Но больше всего он усердствовал, пытаясь втянуть Лилу в общественную деятельность. Он уговорил ее записаться в профсоюз, хотя она этого не хотела и согласилась исключительно назло Соккаво, которому это вряд ли понравилось бы. Паскуале носил ей разные брошюры об оплате труда, трудовых договорах, ставках зарплаты, написанные коротко и понятно; сам он их даже не открывал, но не сомневался, что Лила рано или поздно их прочтет. Вместе с Энцо и сыном он затащил их на набережную Ривьера-ди-Кьяйя, на демонстрацию против войны во Вьетнаме, которая переросла в ужасные беспорядки и панику: появились фашисты, начали кидать камни, провоцируя полицию, Паскуале ринулся в бой, Лила кричала и ругалась, а Энцо проклинал ту минуту, когда они додумались взять с собой Дженнаро.
Но особенно запомнились Лиле другие два эпизода. Паскуале особенно активно зазывал ее на собрание, на котором ожидалось выступление одной из руководителей партии. Лила согласилась, ей было любопытно. Из речи, посвященной отношениям партии и рабочего класса, Лила почти ничего не услышала, потому что докладчица опоздала и к долгожданному началу собрания Дженнаро успел устать, так что Лиле пришлось его развлекать, выходить на улицу поиграть, возвращаться и снова выходить. Впрочем, того немногого, что услышала Лила, ей хватило, чтобы понять, насколько умна эта женщина и как она отличается от сидящей в зале рабочей и мелкобуржуазной публики. Лила заметила, что Паскуале, Энцо и некоторые другие слушатели недовольны содержанием доклада, и подумала, что это они зря, лучше бы поблагодарили образованную синьору за то, что она к ним приехала и тратит на них свое время. Когда Паскуале вступил с ней в ожесточенную полемику, она встала с места и сердито крикнула: «Прекратите, иначе я сейчас встану и уйду». Лиле понравилась ее реакция, и она была готова занять ее сторону. Впрочем, она испытывала противоречивые чувства. Когда Энцо закричал в поддержку Паскуале: «Послушайте, товарищ, без нас вы ничего собой не представляете, поэтому вам придется остаться до тех пор, пока нам это нужно, и уйдете вы только тогда, когда мы скажем», – Лила почему-то мысленно присоединилась к этому «мы» и решила, что женщина получила по заслугам. Домой она вернулась злая на сына, испортившего ей вечер.
Еще более оживленно прошло заседание комитета, в котором Паскуале, с его манией общественной деятельности, разумеется, участвовал. Лила пошла с ним не только потому, что он ее позвал, но и потому, что верила: вся эта активность полезна для Паскуале, который таким образом развивается и растет над собой. Комитет заседал в Неаполе, в старом здании на виа Трибунале. Они приехали туда на машине Паскуале, поднялись по ободранной, но массивной лестнице. Зал был большой, собравшихся – мало. Лила сразу научилась отличать студентов от рабочих: студенты постоянно вертели головами по сторонам, сбивались в стайки и болтали между собой. Вскоре они стали ее раздражать. Все, что они говорили, казалось ей лицемерием, а их неухоженный вид совершенно не сочетался с учеными речами. Они постоянно повторяли «мы здесь, чтобы учиться у вас, рабочих», а на деле только повторяли и без того очевидные тезисы о капитале, эксплуатации, предательстве социал-демократии и методах классовой борьбы. Больше того, Лила заметила, что некоторые девушки, в основном молчавшие, были не прочь пококетничать с Энцо и Паскуале. Особенно с Паскуале: он был более разговорчив и пользовался успехом. Оно и понятно: рабочий, который, несмотря на членство в компартии и партийный пост, согласился делиться своим пролетарским опытом с другими революционерами. Когда он или Энцо брали слово, студенты слушали их внимательно и со всем соглашались, тогда как во время выступлений своих коллег то и дело устраивали споры. Энцо, как обычно, говорил по существу и очень кратко. Паскуале, напротив, смешивая итальянский с диалектом, с неиссякаемым красноречием пространно рассуждал об успехах политической работы на стройплощадках, а также отпускал колкие замечания по поводу слабой активности студенчества. В конце своей речи он ни с того ни с сего приплел Лилу. Он назвал ее имя, фамилию, представил публике как своего товарища, работницу небольшого пищевого предприятия, и очень ее хвалил.
Лила наморщила лоб, прищурилась: ей не нравилось, что все разглядывают ее как какое-то редкое животное. Когда следом за Паскуале слово взяла девушка, первой из женщин заговорившая на том собрании, Лила рассердилась еще сильнее: во-первых, потому, что та изъяснялась так, будто не говорила, а зачитывала вслух отрывки из книги, во-вторых, потому, что она несколько раз привела в пример Лилу, называя ее «товарищ Черулло», а в-третьих, потому, что Лила ее узнала: это была Надя, дочь профессора Галиани, невеста Нино, писавшая ему любовные письма на Искью.
Сначала Лила боялась, что Надя, в свою очередь, тоже ее узнает, но девушка, хоть и обращалась почти исключительно к ней, явно ее не помнила. Да и с чего бы ей вспомнить? Наверняка она часто бывала на вечеринках для богатых: не все же мелькнувшие там призраки держать в памяти. Это Лиле, побывавшей там однажды, тот день надолго врезался в память. Она и сейчас как наяву видела дом на корсо Витторио-Эммануэле, Нино, девушек и парней из богатых семей, книги и картины; ей было там плохо, да и потом она чувствовала себя отвратительно. Лила не выдержала, встала и пошла прогуляться с Дженнаро. В ней бушевала страшная злость, которая, не находя выхода, узлом скручивала ей желудок.
Впрочем, скоро она вернулась, решив, что не останется в долгу. Когда она вошла в зал, кудрявый молодой человек со знанием дела рассказывал об итальянском концерне черной металлургии и сдельной оплате труда. Лила дождалась, пока он закончит, и попросила слова, не обращая внимания на недоумение во взгляде Энцо. Говорила она долго, на чистом итальянском; Дженнаро все время этой речи дергал ее за руку. Начала она негромко, но постепенно шум в зале улегся, и ее, возможно, слишком звонкий голос звучал в полной тишине. Она с насмешкой сказала, что ничего не знает о рабочем классе. Сказала, что знает только самих рабочих своего завода, женщин и мужчин, людей, у которых абсолютно нечему учиться, кроме жизни в нищете. «Вы хоть представляете себе, – спросила она, – что это такое, по восемь часов в день стоять по пояс в жидком вареве, из которого делают мортаделлу? Что значит разделывать мясо, то и дело раня руки острыми костями? Или ходить в морозильную камеру, получая компенсацию по десять лир в час за работу при минус двадцати? Представили? Так чему же вы хотите учиться у людей, которые так живут? Наши работницы позволяют начальству и коллегам лапать себя за задницу, не говоря ни слова. Стоит сынку хозяина захотеть, и любая из них отправится с ним в сушильный цех, так же как отправлялись их предшественницы с его отцом, а может, еще и дедом. А прежде чем запрыгнуть на тебя, он непременно расскажет о том, как его возбуждает колбасный запах. На выходе с завода и мужчины, и женщины подвергаются личному досмотру – так называемой «проверке»: когда загорается не зеленая, а красная лампочка, это означает, что ты пытаешься вынести с завода салями или мортаделлу. «Проверку» проводит охранник, нанятый хозяином, и он зажигает красный свет не только потенциальным ворам, но и строптивным девчонкам и неугодным работникам. Так обстоят дела на заводе, где я работаю. Там нет никаких профсоюзов, а рабочие – это всего лишь бедняки, покорные хозяину и живущие под давлением постоянного шантажа: «Я плачу тебе деньги, а значит, имею право распоряжаться по своему усмотрению тобой, твоей жизнью, семьей и всем, что у тебя есть, а не будешь слушаться – я тебя уничтожу».
На какое-то время наступила тишина. Затем из зала раздались голоса поддержки и восхищения Лилой. К ней подошла Надя и обняла ее. «Какая же ты красавица, какая умница, как прекрасно говоришь! Спасибо тебе, – серьезно сказала она, – благодаря тебе мы теперь знаем, сколько еще работы нам предстоит». Но, несмотря на торжественный тон, Лиле она показалась еще бóльшим ребенком, чем в тот вечер, много лет назад, когда она видела Надю с Нино. Что они делали тогда с сыном Сарраторе? Танцевали, болтали, обнимались, целовались? Лила и сама уже не помнила. Конечно, забыть такую очаровательную девушку невозможно, но сейчас, когда она стояла рядом, Лила думала только о том, насколько она хрупкая, чистая, еще чище, чем тогда, насколько искренне сострадает людям, потому что чувствует их боль как свою.
– Придешь на следующее собрание?
– У меня ребенок.
– Приходи, пожалуйста, ты нужна нам.
Лила неуверенно покачала головой.
– У меня ребенок, – повторила она и указала рукой на Дженнаро. – Сынок, поздоровайся с синьорой, расскажи ей, какой ты у меня молодец, расскажи, что уже умеешь читать и писать, пусть синьора послушает, как ты хорошо говоришь.
Дженнаро застеснялся и уставился в пол, Надя улыбнулась ему, но тоже ощутила неловкость. Тогда Лила повторила еще раз:
– У меня ребенок, я работаю по восемь часов в день, не считая сверхурочных. Люди, которые живут, как я, по вечерам мечтают об одном – лечь спать.
Она вышла на улицу в растерянности, с ощущением, что слишком много рассказала о себе людям, которые, без сомнения, добры, но живут в мире абстракций, а по-настоящему, в реальности, никогда ее не поймут. «Я-то знаю, – думала она, не решаясь сказать это вслух, – что значит питать наилучшие намерения, живя в довольстве, а вот ты даже представить себе не можешь, что такое подлинная нищета».
Пока они шли к машине, настроение у нее окончательно упало. По хмурым лицам Паскуале и Энцо Лила догадывалась, что ее выступление обидело их. Паскуале впервые осторожно взял ее под руку, на что раньше не осмеливался, и спросил:
– Ты что, действительно работаешь в таких условиях?
Лила с отвращением отдернула руку.
– А ты? Вы оба разве не так работаете?
Они не ответили. На работе им приходилось несладко, это ясно. У себя на заводе Энцо наверняка видел вечно усталых женщин, измученных трудом, унижениями и домашними обязанностями не меньше Лилы. Почему же они оба так помрачнели, услышав, как работает она? Что им не понравилось? Мужчинам вообще лучше ничего не говорить. Они предпочитают оставаться в неведении и делать вид, что все, что творится вокруг, чудесным образом не касается женщины, за которую они взяли на себя ответственность и которую – эту мысль им вбили в головы с самого детства – обязаны защищать даже под страхом смерти. Их молчание взбесило Лилу еще больше.
– Да катитесь вы оба, – сказала она, – вместе со своим рабочим классом!
Они сели в автомобиль и всю дорогу до Сан-Джованни-а-Тедуччо обменивались лишь ничего не значащими репликами. Прощаясь у подъезда, Паскуале сказал Лиле: «Ничего не поделаешь, все равно ты умнее их всех вместе взятых», вернулся в машину и уехал. Энцо, неся на руках уснувшего мальчика, угрюмо проворчал:
– Почему ты мне ничего не рассказывала? Кто тебя обидел? Кто распускал руки?
Они оба очень устали, и Лила решила его успокоить:
– Со мной они себе такого не позволяют.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































