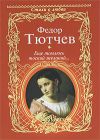Текст книги "Любовь в Золотом веке. Удивительные истории любви русских поэтов. Радости и переживания, испытания и трагедии…"
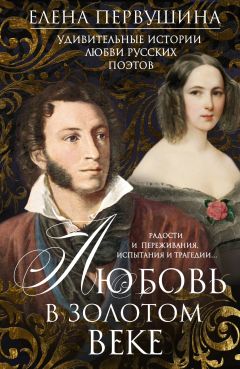
Автор книги: Елена Первушина
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Глава 3
Любовь по сценарию Руссо и Фуке. Поэт, его Элоиза и Ундина
Василий Андреевич Жуковский, Мария Протасова-Мойер, Елизавета фон Рейтерн-Жуковская
1
Уже в XX веке, а точнее – в 1958 году, советский поэт Наум Коржавин написал такие стихи:
Старинная песня.
Ей тысяча лет:
Он любит ее,
А она его – нет.
Столетья сменяются,
Вьюги метут,
Различными думами
Люди живут.
Но так же упрямо
Во все времена
Его почему-то
Не любит она.
А он – и страдает,
И очень влюблен…
Но только, позвольте,
Да кто ж это – он?
Кто? – Может быть, рыцарь,
А может, поэт,
Но факт, что она —
Его счастье и свет.
Что в ней он нашел
Озаренье свое,
Что страшно остаться
Ему без нее.
Но сделать не может
Он здесь ничего…
Кто ж эта она,
Что не любит его?
Она? – Совершенство.
К тому же она
Его на земле
Понимает одна.
Она всех других
И нежней, и умней.
А он лучше всех
Это чувствует в ней…
Но все-таки, все-таки
Тысячу лет
Он любит ее,
А она его – нет.
И все же ей по сердцу
Больше другой —
Не столь одержимый,
Но все ж неплохой.
Хоть этот намного
Скучнее того
(Коль древняя песня
Не лжет про него).
Но песня все так же
Звучит и сейчас.
А я ведь о песне
Веду свой рассказ.
Признаться, я толком
И сам не пойму:
Ей по сердцу больше другой…
Почему?
Так глупо
Зачем выбирает она?
А может, не скука
Ей вовсе страшна?
А просто как люди
Ей хочется жить…
И холодно ей
Озареньем служить.
Быть может… не знаю.
Ведь я же не Бог.
Но в песне об этом
Ни слова. Молчок.
А может, и рыцарь
Вздыхать устает.
И сам наконец
От нее устает.
И тоже становится
Этим другим —
Не столь одержимым,
Но все ж неплохим.
И слышит в награду
Покорное: «да»…
Не знаю. Про то
Не поют никогда.
Не знаю, как в песне,
А в жизни земной
И то и другое
Случалось со мной.
Так что ж мне обидно,
Что тысячу лет
Он любит ее,
А она его – нет?
Автор ясно дал понять, что имел в виду то самое стихотворение Генриха Гейне, с которого я начала первую главу. Но эта незатейливая история в новом прочтении обретает и новый смысл. Теперь девушка не любит не просто юношу, а романтика и поэта, предпочитая отношения с более приземленным и практичным человеком. Разумеется, героиня выбирает «мещанское счастье», ей хочется «жить как люди», и страдает герой не только от разбитого сердца, но и от непонятности и недооцененности и, разумеется, поэтому история становится гораздо более романтичной.
Что прежде всего приходит нам в голову, когда мы думаем о романтизме? Один из возможных ответов – картины Гаспара Давида Фридриха, изображающие пустынный берег моря, или мрачные развалины в бледном свете луны, или причудливые утесы скал, неприступные заснеженные вершины, и людей, которые пришли сюда, часто с риском для жизни, чтобы увидеть то, что никогда не предназначалось для их глаз и, может быть, различить в очертаниях дикой природы следы могучей руки ее творца. Или старинные немецкие баллады, воскрешенные немецкими поэтами: Гёте, Шиллером, Генрихом Гейне. И многие из этих баллад нам известны с детства именно в переводе Жуковского.
Если Пушкин отдавал дань романтизму в юности, то Жуковский остался паладином музы романтической поэзии до самой старости. Последние его поэмы – «Ундина» (1837); «Наль и Дамаянти» (1844) – по мотивам индийского эпоса «Махабхарата»; «Рустем и Зораб» (1849) – по мотивам поэмы Фирдоуси «Шахнаме», – столь же проникнуты духом романтизма, как и ранние «Людмила» (1808) – вольные переложения баллады Г.А. Бюргера «Ленора», и «Светлана» (1808–1812) – по сути дела, версия той же «Людмилы», но со счастливым финалом.
Наверное, этот человек был романтиком не только в творчестве, но и в жизни? А может, наоборот, – он был прагматиком, понимал, «что сейчас в тренде», что хорошо продается, и спешил предоставить публике то, что она хотела? Давайте разбираться.
2
П.А. Плетнев писал в статье об И.А. Крылове: «Крылов сознавал в Жуковском талант независимый и энергический. Он постоянно сохранял к нему в душе своей чувство братства и дружбы. Шутя и любезничая с ним, он бывал приятно остроумен. Раз на вечере у Жуковского Крылов чего-то искал в бумагах на письменном столе. „Что вам надобно, Иван Андреевич?“ – спросили его. „Да вот какое обстоятельство, – отвечал он, – надобно закурить трубку; у себя дома обыкновенно я рву для этого первый попадающийся мне под руку лист; а здесь нельзя так: ведь здесь за каждый лоскуток исписанной бумаги, если разорвешь его, отвечай перед потомством“. Есть очень любопытная картина, представляющая кабинет Жуковского, когда он жил в том отделении Зимнего дворца, которое называлось Шепелевским. Там видишь группы людей в разных положениях. Это портреты литераторов и других лиц, собиравшихся у него. Всех заметнее и живописнее тут Крылов рядом с Пушкиным».
Вы только что узнали историю двух головокружительных карьер. Державин – небогатый провинциальный дворянин, Крылов и вовсе мещанин, бедный как церковная мышь, оба на склоне дней достигли славы и достатка. Но Василий Андреевич Жуковский, живший в Зимнем дворце, бывший одним их воспитателей великого князя Александра Николаевича, сына Николая I, и близкий друг императрицы-матери Марии Федоровны, – наверное, был знатен, родовит и богат? И романтической поэзией увлекался от пресыщения, именно потому, что у него все было в порядке, и ему хотелось «красиво пострадать» на мягком диване с бархатной обивкой?
Конечно, вы уже знаете, а если не знаете, то легко догадаетесь, что это совсем не так.
Если Державин происходил из бедной, провинциальной, но все же дворянской семьи, если Крылов не был дворянином, но все же был из «обер-офицерских детей», и его родители были венчаны в церкви, то обстоятельства рождения Жуковского и вовсе обрекали его на полное ничтожество. Писательница Анна Петровна Зонтаг, приходившаяся Василию Андреевичу племянницей, была всего на два года его моложе. Детство и юность, а точнее первые три десятилетия жизни, они провели вместе, и вот что она рассказывает: «…отцом Жуковского был секунд-майор и тульский помещик Афанасий Федорович Бунин „честнейший, благороднейший человек, но, как по всему кажется, не самой строгой нравственности“. С этим „честнейшим человеком“ приключилась история совершенно сказочная: во время первой Русско-турецкой войны один из его крепостных крестьян с разрешения барина нанялся маркитантом в армию и в благодарность привез своему господину в подарок… двух девочек-турчанок – 16-летнюю Сальху и 11-летнюю Фатиму. Фатима вскоре умерла, а Сальху Бунины окрестили, дали ей новое имя – Елизавета Дементьевна Турчанинова (отчество – по имени крестного отца, управляющего в имении), и приставили нянькой к младшим дочерям, а затем, видя ее усердие и расторопность, повысили до экономки. Анна Зонтаг передает слова Сальхи о том, что она сознательно приняла решение перейти в христианство: „Я думала, – говорила она, – что живу как скотина, без всякой религии; своей не знаю, будучи увезена так молода из Отечества, а христианской не хотела принять, в надежде, что когда-нибудь возвращусь домой. Теперь же, когда всякая надежда на возвращение потеряна, буду изучать христианскую религию и приму крещение“».
Впрочем, новый статус христианки не защитил ее от насилия.
«Афанасий Иванович был великий хозяин и особливо большой гастроном, – рассказывает Анна Петровна, – искусство, с каким Сальха приготовляла все домашние запасы, а особливо ея молодость и красота, обратили на себя внимание Афанасия Ивановича. Сальха, как невольница, по своим магометанским понятиям, покорилась ему во всем, но все также была предана душою Марье Григорьевне, которая, заметя связь мужа своего с турчанкою, не делала ему ни упреков, ни выговоров, а только удалила от Сальхи дочерей своих».
Сальха родила барину четырех детей, которые умерли во младенчестве. 29 января (9 февраля) 1783 года она снова рожает мальчика. Его крестной матерью становится Варвара Афанасьевна – дочь Бунина, а крестным отцом – бедный киевский дворянин Андрей Григорьевич Жуковский, выполнявший некоторые поручения Бунина и часто бывавший в его доме.
По воспоминаниям Анны Петровны, детство Жуковского было счастливым. После смерти отца его вдова Марья Григорьевна привязалась к мальчику, любила и баловала его, а также тщательно следила за его образованием. При этом сама она вовсе не была темной, непросвещенной помещицей из «медвежьего угла». Анна Петровна рассказывает: «Марья Григорьевна, урожденная Безобразова, была для своего века женщина редкой образованности, потому что читала все, что было напечатано на русском языке, но другого никакого она не знала. Она была необыкновенно умна, а подобной доброты, кротости и терпенья мне не удавалось встретить ни в ком другом».
Один из первых биографов Жуковского – Карл Карлович Зейдлиц так описывал имение, в котором прошли первые годы Василия Андреевича (теперь это становится важным): «Село Мишенское, одно из многих поместий, принадлежавших Афанасию Ивановичу Бунину, находится в Тульской губернии, в 3 верстах от уездного города Белева. Благодаря живописным окрестностям этого имения и близости его к городу владелец избрал его постоянным местопребыванием для своего семейства и, по тогдашним обычаям, обстроил и украсил его роскошно. Огромный дом с флигелями, оранжереями, теплицами, прудами, садками, парком и садом придавал особенную прелесть этой усадьбе, а обстановка – дубовая роща, ручеек в долине, виды на отдаленные пышные луга и нивы, на близкое село с церковью – настраивали чувства обывателей к мирному наслаждению красотой природы. Растительность в этой стороне отличается чем-то могучим, сочным, свежим, чего недостает южным черноземным полосам России. Весна, разрешающая природу от суровой зимы, оживляет ее скоро и радует сердце человека. Даже самая осень своими богатыми урожаями хлебов и плодов приносит такие удовольствия, которые не могут быть испытываемы в более северном, холодном климате. Если же мы к этому припомним старинные, до некоторой степени патриархальные, отношения помещиков между собою и с крестьянами, то понятно, что люди, проведшие вместе юность в селе Мишенском, могли еще в глубокой старости восхищаться воспоминаниями о минувшем житье-бытье».
П.А. Плетнев пишет о детских годах поэта, впрочем, старательно обходя скользкую тему происхождения своего героя: «Многочисленная семья, посреди которой он явился на свет, богата была детьми и до него, но все девочками. По этому случаю он с рождения сделался общим любимцем. К счастью, природа наделила его такими прекрасными качествами, что излишняя нежность родителей и всего семейного круга не только не избаловала его, но быстрее развила в нем добрые наклонности и замечательные способности. Черты и выражение лица его, рост и вся вообще наружность не напрасно заставляли ожидать от мальчика чего-то необыкновенного. Самые первые наклонности его предсказывали в нем будущее развитие вкуса и таланта… В раннем еще детстве Жуковский лишился своего отца. Он остался на попечении матери. Сестры были гораздо старше его, так что дочери их сделались его совоспитанницами. Эти семейные обстоятельства подействовали, во-первых, на образование души его, которая всегда отличалась нежностью, благородством, набожностью и каким-то рыцарством, во-вторых, на укрепление самой чистой любви и дружбы между ним и его племянницами. В родственном их союзе было что-то более знаменательное, нежели обыкновенно представляется у других, оттого ли, что развивающийся талант уже отражался на окружающих его, или природа прекрасно образовала каждое из них существо. Первые опыты собственно называемого учения не принесли большой пользы Жуковскому, потому что наставники не угадали его призвания. Из него хотели сделать математика, а он все оставлял для поэзии. Страсть к сочинениям театральным обыкновенно прежде всего раскрывается в детях с живым воображением. Она овладела и Жуковским, лишь только поместили его в Тульское народное училище».
Чтобы сделать его дворянином, 6-летнего мальчика зачислили на военную службу в Астраханский гусарский полк, его почти сразу же произвели в прапорщики и внесли в соответствующий раздел дворянской родословной книги. Позже, чтобы придать этой процедуре хоть какой-то вид законности, 12-летнего мальчика пытались записать в Нарвский полк, в котором когда-то служил его отец. Вася даже съездил в Кексгольм, где стоял полк, вместе со старым другом отца, но афера не удалась. Тогда родня решила положиться «на авось». И авось не подвел! Фиктивное дворянство Жуковского вскрылось только в 1838 году, когда Василий Андреевич уже являлся воспитателем наследника и близким другом императорской семьи. Тогда императорским указом ему «с потомством» пожаловали дворянское достоинство.
3
Отец не упомянул сына в завещании, лишь попросил жену заботиться о нем, Марья Григорьевна смогла выделить второй семье своего мужа только 10 000 рублей ассигнациями, то есть 2500 серебром – капитал очень незначительный.
Вася начал учиться в Туле, в народном училище, которое, по словам Зонтаг, «было посещаемо не только мальчиками низшего сословия, но всеми детьми лучших семейств». Потом переехал в Москву и в 1797 году поступил в знаменитый Благородный пансион при Московском университете.
В том же году впервые его стихотворение опубликовали в журнале с весьма замечательным названием: «Приятное и полезное препровождение времени» – словно последний привет уходящего XVIII века. Журнал издавался как приложение к «Московским ведомостям», выходил два раза в неделю и был обязательным чтением в пансионе.
О чем было стихотворение? О весеннем рассвете! И неожиданно… о бренности жизни.
Радужны крылья
Распростирая,
Бабочка пестра
Вьется, кружится
И лобызает
Нежно цветки.
Трудолюбива
Пчелка златая
Мчится, жужжит.
Все, что бесплодно,
То оставляет —
К розе спешит.
Горлица нежна
Лес наполняет
Стоном своим.
Ах! знать, любезна,
Сердцу драгова
С ней уже нет!
Верна подружка!
Для чего тщетно
В грусти, тоске
Время проводишь?
Рвешь и терзаешь
Сердце своё?
Можно ль о благе
Плакать другого?..
Он ведь заснул
И не страшится
Лука и злобы
Хитра стрелка.
Жизнь, мой друг, бездна
Слез и страданий…
Счастлив стократ
Тот, кто, достигнув
Мирного брега,
Вечным спит сном.
Как и у «позднего Державина», у «раннего Жуковского» преобладает живая, разговорная лексика. Необычным может показаться размер – двустопный дактиль, с «обрезанной» второй стопой. Это как раз дань архаике – таким размером много писали в уходящем XVIII веке и почти не будут писать в наступающем XIX.
Это еще не романтизм, но уже сентиментализм – «чувствительный» стиль, в котором написаны и «Новая Элоиза» Руссо, и «Бедная Лиза» Карамзина (1792). В том же 1792 году Иван Дмитриев опубликовал знаменитое стихотворение «Стонет сизый голубочек…», которым явно вдохновлялся юный автор. Сентиментализм, в отличие от романтизма, не пытается поразить воображение читателя, и часто ведет речь о событиях довольно будничных, но полных трагизма, которые должны вызвать сочувствие и слезу сострадания. Вроде истории бедной крестьянки, полюбившей богатого развратника или страданий горлицы, не дождавшейся своего голубка. Меланхолическая мораль в конце стихотворения контрастирует с радостным безоблачным настроением в его начале и этот контраст должен производить особенно сильное впечатление на нежное сердце читателя или читательницы. Что ж, будем надеяться, что читатели юного поэта действительно провели время приятно и с пользой.
В 1797 году в том же журнале «Приятное и полезное препровождение времени» Жуковский опубликовал прозаический отрывок «Мысли при гробнице», написанный под впечатлением известия о смерти 28-летней Варвары Афанасьевны Юшковой (в девичестве Буниной) – его крестной матери. «Живо почувствовал я ничтожность всего подлунного; вселенная представилась мне гробом. Смерть! Лютая смерть! Когда утомится рука твоя, когда притупится лезвие страшной косы твоей?..»
А еще в тот год Жуковский пишет вполне каноническую оду, «как их писали в мощны годы, как было встарь заведено». Он называет ее «Благоденствие России, устрояемое великим Ея самодержцем Павлом Первым», читает ее на собрании в Благородном университетском пансионе, а позже публикует в сборнике «Речь, разговор и стихи, читанные в Публичном акте, бывшем в Благородном университетском пансионе Декабря 19 дня 1797 года». Четырнадцатилетний мальчик ясно и недвусмысленно заявляет о себе как о поэте.
Но также эта ода служит декларацией симпатий Жуковского к концепции «общественного договора», заключаемого между монархом и его подданными. Об этом говорит эпиграф, взятый из Фредерика Сезара Лагарпа – швейцарского генерала, адвоката и государственного деятеля, позже ставшего учителем Александра I. Лагарп от лица некоего идеального монарха заявляет:
Народ, твоим интересам я подчиняю мои,
И потребности трона – потребностям граждан.
И если мои заботы дадут вам благоприятные дни,
Я буду сполна вознагражден за все мои жертвы.
Правда в 1797 году Лагарп уже стал в России persona non grata, так как, как рассказывает нам Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона, «когда разразилась Французская революция, идеям которой Л. отдался с увлечением, он обратился к бернскому правительству с прошением, в котором предлагал реформы и созвание штатов. Это дало повод признать его зачинщиком беспорядков, разразившихся в подчиненном Берну Ваадте, а враги постарались довести это до сведения Петербургского Двора, вследствие чего Л. потерял место. Он отправился в Женеву, оттуда в Париж, где напечатал несколько брошюр против бернского аристократического правления». Взять его слова эпиграфом к оде, посвященной императору, было смелостью и, пожалуй, даже дерзостью. Но идеей служения монарха народу вдохновлен не только эпиграф, но и сам текст оды:
Его чертог есть храм священный,
Храм правосудия, любви.
Вельможа в золотой одежде,
И бедный в рубище простом,
Герой с победоносным лавром,
Вдова с горящею слезой,
Невинный, сильными гнетомый:
Все, все равно к нему текут.
Его недремлющее око
Всегда на чад устремлено.
О их блаженстве Он печется
И славу возвышает их.
Он все содержит, устрояет,
Хранит все, движит и живит;
Он – сердце, он – душа России;
Для ней он жертвует собой.
Правда, этот договор не оформляется письменно, в Конституции. Конституция – страшное запрещенное слово, но он оформляется сентиментально и романтически – в сердцах монарха и его народа.
Там восседит, в сияньи солнца,
Великий Павел, будто Бог.
Престол его поставлен твердо
На Росских пламенных сердцах.
В финале оды поэт обращается к Павлу от имени муз:
«О Павел! о монарх любезный!
Под сильною твоей рукой
Мы не страшимся бурь, ненастья:
Спокойны и блаженны мы.
Ты царствуй – мы дела прославим
Твои в грядущи времена;
Из лучезарных звезд созиждем
Бессмертия Тебе венец». —
И Павел кротко песни внемлет,
Склоняя к ним с престола слух.
«Так, юны Музы, – он вещает, —
Я буду царствовать; а вы
Скажите позднему потомству:
Он под венцом был человек;
О подданных, как чадах, пекся;
Для них, для них лишь Он и жил…».
Помните державинское «Будь на троне человек»?
В пансионе Жуковский посещает Дружеское литературное общество, в которое входят представители образованной дворянской молодежи.
В 1800 году в пансионе проходит выпускной экзамен. Жуковский награжден серебряной медалью, его имя занесено на мраморную доску в числе лучших выпускников. Еще 15 февраля он зачислен служащим Главной соляной конторы, с жалованием 175 рублей в год (первый «оклад» Крылова, если вы помните, составлял всего 25 руб. в год), но уже весной 1802 года он выходит в отставку в чине титулярного советника.
4
С чем связан такой небольшой срок службы? Жуковский чувствует в себе призвание поэта и намерен всецело посвятить себя творчеству?
Это так. Уже в декабре того же года он публикует вольный перевод элегии Грей «Сельское кладбище» и со второй попытки публикует его в журнале Карамзина «Вестник Европы». Карамзин помогает юному поэту и быстро становится его кумиром.

В.А. Жуковский
Василий Андреевич, вероятно, под влиянием Карамзина и его «Писем русского путешественника», собирается в путешествие по Европе. Он начинает вести дневник и в одной из первых записей делится своими планами. Они довольно амбициозны: «К началу генваря или марта 1806 года я должен выплатить половину теперешнего своего долга и положить за правило более не делать долгу, ни полушку, не брать ни у кого денег, кроме тех, которые получу от Антонского для путешествия. Путешествовать 3 года, с половины 1806 до половины 1809 года. Возвратясь, начать выдавать журнал; продолжать это издание четыре года, в которые выплатить весь свой долг. Потом приняться за какую-нибудь важную работу, такую, которая бы принесла пользу, сделала бы меня более известным в литературе… В продолжение четырех лет издания журнала могу скопить и отложить тысячи четыре (заплатя и долг), которые с моим теперешним капиталом составят 11 тысяч; отдать и в Восп<итательный> дом, буду получать 500 рублей годового дохода, верного, чистого, к которому всякий год могу присоединять работой 500 рублей. Откладывая по тысяче на год, в десять лет могу иметь двадцатитысячный капитал, и верный доход по тысяче рублей в год».
Жуковский собирается продолжать учебу в Германии, начать планирует в Йенском университете, а дальше – как пойдет. Деньги ему обещал дать А.А. Прокопович-Антонский – один из его педагогов в Московском пансионе.
Для того чтобы расплатиться с долгами, конечно, придется жить скоромно, и даже очень скромно. «Хочу спокойной, невинной жизни. Желаю не нуждаться. Желаю, чтоб я и матушка не были несчастны, имели все нужное. Хочу иметь некоторые удовольствия, возможные всякому человеку, бедному и богатому, удовольствия от занятий, от умеренной, но постоянной деятельности, наконец от спокойной, порядочной семейственной жизни. Почему б этому не исполниться?»
«Бойтесь своих желаний – они сбываются», – гласит пословица, но на первых порах судьба дословно выполняет заказы молодого поэта. Вскоре Жуковский будет должен уехать из Москвы и вернуться в Мишенское. В 1805 году туда приезжает одна из его сестер – недавно овдовевшая Екатерина Афанасьевна Протасова. Муж не оставил ей денег, но зато оставил много карточных долгов, ее дела расстроены, и Василий Андреевич рад помочь, чем может. А что он может? Конечно, давать уроки двум дочерям Екатерины Афанасьевны Марии и Александре, и Жуковский с энтузиазмом берется за дело. Когда Екатерина Афанасьевна с семьей переезжает в город Белев, Жуковский следует за ними.
Обе сестры совсем разные по характеру. Маша – тихая и замкнутая, Саша – живая и веселая. Жуковский быстро подружился с обеими.
Первого июня 1805 года он пишет в дневнике: «Я нынче в каком-то приятно-унылом расположении. Не думаю ни о чем, задумчив. Мне приятно было смотреть на отдаления, покрытые вечернею тенью. Это неясность и отдаленность всегда имеет трогательное влияние на сердце: видишь, кажется, будущую судьбу свою неизвестную, но не совсем незнакомую. Какое-то тайное предчувствие говорит о ней и обнаруживает ее неявственно за прозрачным занавесом. Ничего не может быть приятнее этих трогательных минут, когда сердце полно – чем? Не знаешь!».
Девятого июня Василий Андреевич делает в дневнике такую запись: «Что со мною происходит? Грусть, волнение в душе, какое-то неизвестное чувство, какое-то неясное желание! Можно ли быть влюбленным в ребенка? Но в душе моей сделалась перемена в рассуждении ее! Третий день грустен, уныл. Отчего? Оттого, что она уехала! Ребенок! Но я себе ее представляю в будущем, в то время, когда возвращусь из путешествия, в большем совершенстве! Вижу ее не такою, какова она теперь, но такою, какова она будет тогда, и с некоторым нетерпением это себе представляю. Это чувство родилось вдруг, от чего – не знаю; но желаю, чтобы оно сохранилось. Я и наполнен, оно заставляет меня мечтать, воображать будущее с некоторым волнением; если оно усилится, то сделает меня лучшим, надежда или желание получить это счастье заставили меня думать о усовершенствовании своего характера; мысль о том, что меня ожидает дома, будет поддерживать и веселить меня во время моего путешествия. Я был бы с ней счастлив, конечно! Он умна, чувствительна, она узнала б цену семейственного счастия и не захотела бы светской рассеянности. Но может ли это быть?»
Он перебирает все свою родню, пытается угадать, кто встанет на его сторону, волнуется: «Неужели для пустых причин и противоречий гордости К.<атерина> А.<фанасьевна> пожертвует моим и даже ее счастием, потому что она, конечно, была бы со мною счастлива, потому что моя первая цель – это наслаждение семейною жизнию; я б нашел или стал бы искать средства ею наслаждаться; я не стал бы терять в суетных, ничтожных исканиях драгоценной жизни: литература была бы моим занятием, любовь жены и любовь к ней, самая нежная и спокойная, отдохновением; спокойствие и счастие окружающего меня счастием, наградою».
5
Пока Маше всего 12 лет, и Жуковский, разумеется, не объявляет о своей любви ни ей, ни кому-то другому. Увидев цифру 12, вы, возможно (и скорее всего), вспомнили о Лолите. Но герой, а точнее – антигерой, романа Набокова пытается, по крайней мере, на первых порах, воскресить прошлое, вернуть утраченную первую любовь.
Жуковский же думает о будущем, о том самом «грядущем за завесой», когда Машенька станет взрослой и он сможет научиться любить ее как жену.
А пока, кажется, это и не любовь в привычном нам смысле слова. Просто мечта бездомного о доме, сироты – о родной душе. Но странно – ведь у Жуковского есть семья, там его признают и любят, его мать еще жива. Чего же ему не хватает? Чего он ищет в семье Протасовых?
Вот как сам Жуковский разрешает этот парадокс, обращаясь к Екатерине Афанасьевне, расположение которой так значимо теперь для него: «Как прошла моя молодость? Я был в совершенном бездействии. Не имел своего семейства, в котором бы я что-нибудь значил, я видел вокруг себя людей, мне коротко знакомых, потому что я был перед ними выращен, но не видал родных, мне принадлежащих по праву; я привыкал отделять себя от всех, потому что никто не принимал во мне особливого участия и потому что всякое участие ко мне казалось мне милостию. Я не был оставлен, брошен, имел угол, но не был любим никем, не чувствовал ничьей любови; следовательно, не мог платить любовью за любовь, не мог быть благодарным по чувству, был только благодарным по должности: мне сказывали, что надобно быть благодарным, и я верил или, лучше сказать, повторял самому себе чужие слова».
В записи от 9 июня Василий Андреевич признается в том, что мечтает о той любви, которую мог бы дарить близким людям, что, обвенчавшись с Машенькой, «…я знал бы, что любим прямо и имею право на любовь сию, то есть мог считать ее не милостию, но ответом на мою любовь, последствие моей любви. Мне кажется, что я ревнив; это есть следствие подозрительности в характере, эгоизма, который все к себе относится. Научившись любить жену для нее, не исключительно для себя, отучусь от ревности: любя жену, будешь любить и все ее удовольствия, следовательно, не ограничишь ее одним беспрестанным к себе вниманием, дашь ей свободу, видя, что всегда и всем предпочтен ею. Все, что на минуту отвлекает ее мысли от тебя, не есть холодность, не измена, но простая, всем естественная, рассеянность, простое желание всем пользоваться. Неужели всякую минуту можно занимать кого-нибудь собою?»
Василий Андреевич не подозревает, что он одним махом разрешил тот конфликт, который так мучительно пытался позже разрешить Толстой в «Семейном счастье» и в «Крейцеровой сонате», – можно ли любить человека (женщину) и полностью овладеть не только ее телом, но и мыслями, подчинить их себе. Как быть с тем, подспудным чувством, что любая мысль любимого человека, обращенная не к тебе, посвященная не твоему благополучию, – это измена? Действительно ли муж и жена это не только «единая плоть», но и одна душа, и каждая попытка кого-то из них быть самостоятельной личностью непоправимо нарушает семейную идиллию? Что ж, кажется, поэты-романтики начала века могли бы поучить кое-чему своих потомков-реалистов.
Еще позже, уже в середине XX века, Эрих Фромм будет говорить о безусловной любви, любви к человеку как к личности, а не к тем благам, которыми он может поделиться с тобой, не к тому, что он может сделать для тебя. Эта мысль покажется поразительно смелой и новой – такой, какая могла родиться только в век невиданной свободы человеческих чувств и отношений. Но теперь мы знаем, что это не так. Уже в начале XIX века Жуковский сформулировал эту мысль с поразительной ясностью: «Доверенность, совершенная доверенность и уважение к своему другу, вот главные подпоры супружеских связей: излишние требования их ослабляют, потому что делают их тягостными, они производят притворство или, по крайней мере, принуждение. Ревнивый любит только для себя; он хочет всякую минуту занимать собою, всякую минуту быть присутственным, что натурально и не может не быть тягостным, если сделается принужденным. Ревность причиняет то, чего боится».
Итак, план будущей счастливой жизни готов. А пока Василия Андреевича очень волнуют мелкие неурядицы в семье, которая, как он надеется, скоро станет его семьей не только по праву рождения. Он разрешает читать свой дневник Екатерине Афанасьевне и 24 августа делает в нем такую запись, обращенную к ней: «Я ушел от вас с грустию и, признаюсь, с досадою. Тяжело и несносно смотреть на то, что Машенька беспрестанно плачет; и от кого же? От вас, своей матери! Вы ее любите, в этом не сомневаюсь. Но я не понимаю любви вашей, которая мучит и терзает. Обыкновенно брань за безделицу, потому что Машеньку, с ее милым ангельским нравом, нельзя бранить за что-нибудь важное. Но какая ж брань? Самая тяжелая и чувствительная! Вы хотите ее отучить от слез; сперва отучитесь от брани, сперва приучите себя говорить с нею как с другом. Мне кажется, ничто не может быть жесточайше, как бить человека и велеть ему не чувствовать боли. Ваша брань тем чувствительнее, что она заключается не в грубых, бранных словах, а в тоне голоса, в выражении, в мине; ребенка надобно уверить, что он сделал дурно, заставить его пожелать исправить дурное, а не огорчать бранью, которая только что портит характер, потому что его раздражает, а будучи частою, и действует на здоровье. Можно ли говорить Машеньке: ты не хочешь сделать мне удовольствия, ты только дразнишь меня, тогда, когда она написала кривую строку, и тогда, когда вы уверены, что для нее нет ничего святее вашего удовольствия? Что вы делаете в этом случае? Возбуждаете в ребенке ропот против несправедливости, лишаете его надежды угодить вам, следовательно, делаете робким, а ничто так не убивает характера, как робость, которая отнимает у него свободу усовершенствоваться и образоваться, потому что не дает ему действовать или обнаруживаться. Об этом будете говорить еще; напишу к вам особенно. Я не умею говорить языком о том, что чувствую сильно. Вы опытом это изведали. Прочту несколько книг о воспитании; сравню то, что в них предписано, с тем, что вы делали, воспитывая детей, и предложу вам свое мнение о том, что осталось делать».
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?