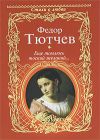Текст книги "Любовь в Золотом веке. Удивительные истории любви русских поэтов. Радости и переживания, испытания и трагедии…"
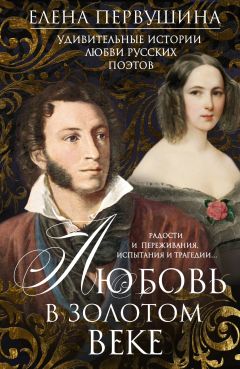
Автор книги: Елена Первушина
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Эта цитата показывает, как ответственно относился Жуковский к своему званию воспитателя. Ему всего 23 года, своих детей у него не было, он мог руководствоваться лишь советами Руссо и собственными детскими воспоминаниями. И они подсказывали ему удивительно верные слова, к которым многие родители приходят лишь после долгого пути проб и ошибок, а иногда и не приходят вовсе. Он принимает участие во всем, что происходит в этой семье. Екатерина Афанасьевна задумала строить помещичий дом в своем имении Муратово, с тем, чтобы переселиться туда из Белева. Жуковский рисует план дома и берется руководить строительством. Он покупает маленькую деревню неподалеку от Муратово за доставшиеся ему от Буниных 10 000 рублей и переселяется туда. Вроде бы жизнь устраивается.
6
В дневнике записи Жуковского выглядят очень сдержанно, серьезно и «положительно». Однако в его стихах бушует буря. Достаточно будет сказать, что до этого он писал обычно по 3–4 стихотворения в год, но вот в 1806 году их уже 20, да еще 18 басен. Разумеется, Жуковский не может посвящать Машеньке любовных посланий, но тема любви впервые возникает в его стихах и быстро становится их лейтмотивом.
Как и Крылов, Жуковский рядит свои чувства в одежды с чужого плеча, заставляет говорить своими словами великих любовников прошедших эпох. В апреле 1806 года он пишет «Послание Элоизы Абеляру». История учителя, влюбившегося в свою ученицу, и ученицы, ответившей взаимностью учителю, история их не только любовного, но и интеллектуального союза, история их разлуки и верности друг другу за монастырскими стенами просто не могла не прийти в голову романтического поэта, когда он думал о своей любви к Машеньке. И Жуковский пишет:
Увы! еще люблю!.. исчезни, заблужденье!
Сей трепет внутренний, сие души волненье
При виде милых строк знакомыя руки,
Сие смешение восторга и тоски —
Не суть ли признаки любви непобежденной?
В мае он пишет подражание народной песне, жалобу отвергнутого любовника неверной возлюбленной:
Когда я был любим, тобою вдохновенный,
Я пел, моя душа хвалой твоей жила.
Но я тобой забыт, погиб мой дар мгновенный:
Ах! гением моим любовь твоя была!
И в том же месяце, переводит знаменитое стихотворение Сапфо о любви, скрывающей себя:
Блажен, кто близ тебя одним тобой пылает,
Кто прелестью твоих речей обворожен,
Кого твой ищет взор, улыбка восхищает, —
С богами он сравнен!
Когда ты предо мной, в душе моей волненье,
В крови палящий огнь! в очах померкнул свет!
В трепещущей груди и скорбь, и наслажденье!
Ни слов, ни чувства нет!
Лежу у милых ног, горю огнем желанья!
Блаженством страстныя тоски утомлена!
В слезах, вся трепещу без силы, без дыханья!
И жизни лишена!
7
В 1807 году в начале зимы Василий Андреевич переезжает из Белева в Москву и с января следующего года становится редактором карамзинского журнала «Вестник Европы». Он пишет прославившие его баллады «Людмила», «Светлана» – обе являются вольным переложением баллады Г.А. Бюргера «Ленора».
В следующем году он публикует повесть «Марьина роща». В начале лета 1810 года уезжает в Мишенское, а затем в Муратово. Осенью начинает писать стихотворную повесть «Двенадцать спящих дев», которую в следующем, 1811 году, публикует в «Вестнике Европы», на ней стоит посвящение Александре Андреевне Протасовой.
Но Маша все еще владеет его мыслями. В 1811 году Жуковский пишет с прежним пылом:
Есть одна во всей вселенной —
К ней душа, и мысль об ней;
К ней стремлю, забывшись, руки —
Милый призрак прочь летит.
Кто ж мои услышит муки,
Жажду сердца утолит?
Но судьба (а как обойтись без судьбы, если мы вступаем в область романтической поэзии?) захотела подвергнуть крепость убеждений и чувств молодого философа жестокому испытанию.
В 1812 году, когда Маше исполнилось уже 19 лет, Жуковский, видимо, встревоженный известиями с театра военных действий, решается просить ее руки у Екатерины Афанасьевны. Но у матери, как видно, совсем иные планы. Она говорит, что Жуковский и Маша находятся в слишком близком родстве, и запрещает говорить об этом сватовстве и с дочерью, и вообще с кем бы то ни было.

М.А. Протасова
Десятого августа Жуковский вступает в ополчение. Зейдлиц писал: «…находясь постоянно при дежурстве главнокомандующего армиями, Жуковский, как Тиртей[3]3
Греческий поэт VII века до н. э. По распространенному в древности преданию, спартанцы, угнетаемые поражениями во Второй Мессенской войне, обратились по внушению оракула к Афинам с просьбою дать им полководца. Афиняне в насмешку послали им хромого школьного учителя Тиртея, но он сумел воспламенить сердца спартанцев своими песнями, вдохнул в них несокрушимую отвагу и тем доставил им торжество над врагами.
[Закрыть], сопровождал русское войско и только сочинял бюллетени о тех девяти сражениях, в которых он будто бы участвовал, по словам какого-то биографа». В октябре 1812 года он пишет героическую поэму «Певец во стане русских воинов», которая сразу приносит ему славу. В ней Жуковский описывает лагерь под Тарутиным, ставку Кутузова, и ночную пирушку воинов перед сражением, с которого началось изгнание армии Наполеона из России. Они видят призрачных воинов прошлого – Александра Невского, Дмитрия Донского, Петра Великого, скачущих на врага (все, как в песнях Оссиана). Затем поднимают кубки за своих военачальников – Кутузова, Ермолова, Раевского, Милорадовича, Витгенштейна, Коновницына, Платова, Беннигсена, Остермана, Тормасова, Бебутова, Дохтурова…
О храбрых сонм, хвала и честь!
Свершайте истребленье,
Отчизна к вам взывает: месть!
Вселенная: спасенье!
Хвала бестрепетным вождям!
На конях окрыленных
По долам скачут, по горам
Вослед врагов смятенных.
Но также вспоминают и о любви:
Любви сей полный кубок в дар!
Среди борьбы кровавой,
Друзья, святой питайте жар:
Любовь одно со славой.
Кому здесь жребий уделен
Знать тайну страсти милой,
Кто сердцем сердцу обручен,
Тот смело, с бодрой силой
На все великое летит;
Нет страха; нет преграды;
Чего-чего не совершит
Для сладостной награды?
Ах! мысль о той, кто все для нас,
Нам спутник неизменный;
Везде знакомый слышим глас,
Зрим образ незабвенный;
Она на бранных знаменах,
Она в пылу сраженья;
И в шуме стана, и в мечтах
Веселых сновиденья.
Отведай, враг, исторгнуть щит,
Рукою данный милой;
Святой обет на нем горит:
Твоя и за могилой!
О сладость тайныя мечты!
Там, там за синей далью
Твой ангел, дева красоты,
Одна с своей печалью,
Грустит, о друге слезы льет;
Душа ее в молитве,
Боится вести, вести ждет:
«Увы! не пал ли в битве?»
И мыслит: «Скоро ль, дружний глас,
Твои мне слышать звуки?
Лети, лети, свиданья час,
Сменить тоску разлуки».
Друзья! блаженнейшая часть
Любезных быть спасеньем.
Когда ж предел наш в битве пасть —
Погибнем с наслажденьем;
Святое имя призовем
В минуту смертной муки;
Кем мы дышали в мире сем,
С той нет и там разлуки:
Туда душа перенесет
Любовь и образ милой…
О други, смерть не все возьмет;
Есть жизнь и за могилой.
В 1814 году Василий Андреевич снова сватается к Маше и снова получает отказ, ему запрещают появляться в Муратове.
Тогда Жуковский пишет балладу «Эолова арфа». Когда-то он придумал для Машеньки поэтическое имя Минвана – якобы шотландское. Это имя носила одна из героинь баллад Джеймса Макферсона, которые он выдавал за записанные им в Шотландии баллады барда Оссиана, жившего в раннем Средневековье. В песнях Оссиана Минвана была возлюбленной юного барда Арминия.
Гремела красою
Минвана и в ближних, и в дальних краях;
В Морвену толпою
Стекалися витязи, славны в боях;
И дщерью гордился,
Но втайне делился
Душою с Минваной Арминий-певец.
Младой и прекрасный,
Как свежая роза – утеха долин,
Певец сладкогласный…
Но родом не знатный, не княжеский сын:
Минвана забыла
О сане своем
И сердцем любила,
Невинная, сердце невинное в нем.
Но им, разумеется, не суждено было быть вместе.
И арфу унылый
Певец привязал под наклоном ветвей:
«Будь, арфа, для милой
Залогом прекрасных минувшего дней;
И сладкие звуки
Любви не забудь;
Услада разлуки
И вестник души неизменныя будь.
Жуковский тайно передает Маше «синенькие книжки» – свои послания в виде дневников. Маша пишет ему, что они непременно будут вместе, а пока она просит поэта ни в коем случае не оставлять работу.
Жуковский отвечает ей: «Как прежде ты давала мне одним словом и бодрость, и подпору, так и теперь ты же мне дашь и всю нужную мне добродетель. Чего я желал? Быть счастливым с тобою! Из этого теперь до́лжно выбросить только одно слово, чтобы все заменить. Пусть буду счастлив тобою! Право, для меня все равно – твое счастие или наше счастие… Моя привязанность к тебе теперь точно без примеси собственного, и от этого она живее и лучше».
Сашенька, младшая сестра Маши, выходит замуж за Александра Воейкова. Жуковский продает Холх, то самое имение вблизи от Муратова, и дарит невесте одиннадцать тысяч рублей. В январе 1815 года семья Протасовых вместе с новым зятем переезжает в Дерпт, где Александр нашел место в университете. В марте туда же приезжает Жуковский, но они с Машей почти не видятся, правда им удается обмениваться письмами-дневниками.
Маша переписывается также с Авдотьей Петровной Елагиной, и признается ей: «С какой бы радостью отдала бурную свою остальную жизнь за то, чтоб мой ангел милый, хранитель теперь приехал… О мой ангел! мое все! где ты? Знаешь ли, что твоя Маша делает, каково ей без тебя? – О, лишь бы тебе было хорошо – и все перенесешь!» Она знает, что мать читает ее дневник, и она может быть откровенной только в переданных тайком. Жуковский тоже тоскует в разлуке и умоляет: «Маша, откликнись. Я от тебя жду всего. У меня совершенно ничего не осталось. Ради бога, открой мне глаза. Мне кажется, что я все потерял».
Наконец к Маше сватается профессор университета, хирург Иван Мойер. Воейков его поддерживает, Екатерина Афанасьевна не против, Маша считает Мойера очень добрым и благородным человеком, религиозным и большим филантропом, и соглашается соединить свою жизнь с ним. Так Мойер стал тем самым «не столь одержимым, но все же неплохим», который должен был утешить героиню, решившую жить «как люди».
Разумеется, Жуковский резко против. 27 ноября он пишет Маше в ответ на ее просьбу благословить этот брак: «Ты хочешь говорить со мною как с отцом. Если это имя не пустое слово, написанное без всякого особенного смысла, то это значит, что мое мнение для тебя так же важно, как мнение отца. Милый друг, ты мне поверишь, когда скажу тебе, что могу без всякого эгоизма думать о твоем счастии и желать его. Итак, я буду говорить как отец, которому все то известно, что делается в сердце у дочери, который на этот счет не хочет обманывать ни себя, ни других, который желает счастия своей дочери для нее, который, думая об ее счастии, не разумеет под ним одного собственного спокойствия. Послушай, мой милый друг, если бы твое письмо написано было хотя полгодом позже, я бы подумал, что время что-нибудь сделало над твоим сердцем и что привязанность к Мойеру, произведенная свычкою, помогла времени; я бы поверил тебе и подумал бы, что ты действуешь по собственному, свободному побуждению; я бы поверил твоему счастию. Но давно ли мы расстались? Нет трех недель, как мое последнее письмо было написано к маменьке! Ты знаешь то, что я чувствовал к тебе, а я знаю, что ты ко мне чувствовала, – могла ли, скажи мне, произойти в тебе та перемена, которая необходимо нужна для того, чтобы ты имела право перед собою решиться на такой важный шаг? Мойеру уже было один раз отказано! Он, вероятно, не делал новых предложений! С чего же пришла тебе самой мысль за него идти? тебе, которая говорила, что для тебя никакого другого счастия не надобно, кроме свободы, неразлучности с маменькой и спокойствия в семье твоей? Нет, милый друг, не ты сама на это решилась! Тебя решили, с одной стороны, требования и упреки, с другой – грубости и жестокое притеснение! Не давши времени твоей душе прийти в себя, от тебя требуют последнего пожертвования на целую жизнь, называя это пожертвование твоим же счастием, и даже не принимая его за пожертвование!»
Он обвиняет свою сестру и Воейкова в том, что они давили на Машу, заставляя ее принять решение: «Одним словом, ты бросаешься в руки Мойеру, потому что тебе другого нечего делать! Тебя тащут туда насильно, и еще ты же должна говорить, что ты счастлива! а я вслед за тобою, как твой отец, говорить то же! Нет! как твой отец, я не могу на это теперь согласиться. Если бы я был твой отец не на словах, а на деле, если бы это имя не было мне дано, как самое оскорбительное доказательство совершенного бессилия сделать что-нибудь для твоего счастия, я бы поступил иначе; зная твое состояние, я бы, прежде всего, старался дать тебе время успокоить свое сердце, я бы не стал, как самовластный деспот, располагать всею судьбою твоей жизни; не пожертвовал бы ею своему спокойствию, своей прихоти; зная в своей совести, что я сам причиною всего, что с тобою было, я не вздумал бы к твоему несчастию, мною самим сделанному, прибавить другого, совершенно неизгладимого; я бы заменил для тебя то, что у тебя отнял, произвольно или принужденно, до того нет дела; подле меня нашла бы ты все вознаграждения за потерянное; я не дал бы в семье своей делать тебе жестоких неприятностей, принуждающих тебя все забыть, на все решиться, чтобы после во всем раскаиваться: одним словом, я был бы твой отец, утешитель, товарищ! Не думал бы об одном себе! Ты была бы свободна, спокойна; время все бы исправило! Тогда без принуждения, без всякого упрека совести, ты выбрала бы для себя счастие верное, то есть хорошее променяла бы на лучшее и не была бы жертвою моей прихоти, моего эгоизма; и я был бы счастлив, потому что был бы тогда уверен в твоем счастии! Так бы я поступил, если бы был твой отец или твоя мать. Но теперь кто уверит меня, что ты поступаешь свободно?»
А Мария пишет подруге – Авдотье Елагиной: «Дуняша, теперь ты должна мне верить; я буду говорить с тобой, с одной тобой все и искренно. Я часто и слишком много говорила против своей совести, отныне между нами не будет больше стеснения… Душенька, ты меня, нас не видала в течение двух лет, ты не имела понятия об ужасном моем положении и видишь одну только перемену, а вообразить не можешь об необходимости. Скажу тебе откровенно: момент, когда я сказала себе, что хочу отказаться от всего, что составляло мое счастие, что остаюсь жить только ради Ж.<уковского>, что отдам свою руку тому, кто пожелает (а я решилась пойти замуж за первого встречного), – этот момент был ужаснее, чем все муки ада. И все это через два месяца после того, как Жуковский все еще просил моей руки!».
Она признается подруге: «Дуняшка, не требуй, чтоб я тебя водила по закоулкам сердца. Это лабиринт, в котором я часто сама теряюсь». И просит Жуковского: «Жуковский, мне часто случается такая необходимость пописаться к тебе, что ничто не может ни утешить, ни заменить этого занятия; я пишу к тебе верно два раза в неделю, но в минуту разума деру письма. Я бы желала посылать их тебе, но сперва надобно условиться: дери их ты и не отвечай ни на что…
Я не потеряла привычку делиться с тобой весельем и тоской… Мне кажется, что мое вранье одному тебе может казаться простительным и понятным… я бы не желала никому, кроме тебя, открывать свое глупое сердце. Ответ твой на мои старые бредни удивил маменьку, и потому я не прошу и не хочу ответов. Оставь мне возможность искать в тебе друга и утешителя (от печалей, которых нет настоящих, а просто Imaginaires[4]4
Воображение (фр.).
[Закрыть], но утешителя безответного, и тогда я буду писать смело и с весельем. Не имев никогда возможности говорить искренне ни с кем из родных, кроме тебя, я не могу вдруг перемениться. Нельзя излечить терзающую вас хворь, просто объявив ее смешной и романической. Изорви это».
Это действительно переписка Элоизы и Абеляра – навеки разлученные, они не могут перестать говорить друг с другом.
«Арзамасец» Филипп Филиппович Вигель, побывавший в доме Мойеров, оставил такие воспоминания: «Смотреть на сей неравный союз было мне нестерпимо; эту кантату, эту элегию, никак не умел я приладить к холодной диссертации. Глядя на госпожу Мойер, так я рассуждал сам с собой, кто бы не был осчастливлен ее рукой? И как ни один из молодых русских дворян не искал ее?».
Жуковский же в своей оценке гораздо более жесток и даже желчен (чего за ним, обычно, не водилось): «Вот семья, составленная из четырех человек, из которых каждому все известно (или, по крайней мере, должно быть известно), что происходит в душе у другого, и которые играют друг перед другом комедию, один против воли, а другие потому, что иного и делать не умеют, и между тем еще сами себя хотят уверить, что это не комедия, а что-то в самом деле. И таким это будет вечно. Что в таком кругу притворчивом сделает простодушие! Оно вечно потеряет, вечно будет иметь наружность несправедливости».
Тем не менее Машенька сама «приладилась» к новой жизни, под руководством мужа она изучала медицину и стала помогать больным заключенным в женской тюрьме. Вскоре в городе ее стали называть Mutter Marie.
После нескольких выкидышей у Марии наконец рождается ребенок – дочка Катенька. Жуковский пишет своей Элоизе (или вернее своей Юлии, ибо именно так звали героиню романа Руссо «Юлия, или Новая Элоиза», также влюбленную с своего учителя и страстно, но безнадежно любимую им): «Маша, милый друг, напиши мне о своей малютке. За неимением твоих писем перечитываю твою книжку[5]5
Очевидно – дневник, который вела Мария для Жуковского.
[Закрыть] и, кажется, слышу тебя: это бесценный подарок! Тут вся ты, мой милый друг и благодетельный товарищ. В твоем сердце ничто не пропало; еще, кажется, ты стала лучше; настоящая твоя жизнь, исполнение твоих должностей усовершенствовали тебя, и ничто не пропало в пустоте рассеяния. Читать твою книжку есть для меня оживать. И много милых теней восстает».
Он пытается убедить себя и Машу, что Мойер достоин быть ее господином де Вольмаром – благородным и благоразумным дворянином, который, женившись на Юлии, становится не только ее мужем, но и другом и покровителем, и с полным доверием принимает в своем доме Сен-Пре бывшего учителя и любовника своей жены. (Сам Руссо считал, что этот эпизод в его романе вызовет наибольшее число пересудов, и специально решил снабдить его картинкой, на которой изображена Юлия в тот момент, когда она знакомит Сен-Пре с Вольмаром. Картинка называлась «Доверие прекрасных душ»). Дуняше, очевидно, отводится роль Клары – верной подруги и конфидентки Юлии. Разумеется, во всей истории Жуковского и Маши Протасовой, а позже Марии Мойер, много литературного, нарочитого и, может быть, даже театрального. Но, как писал Гейне, «сердце у вас разобьется, коль с вами случится она». И Жуковский, и Маша были настоящими живыми людьми, они по-настоящему любили и действительно страдали, и то, что они помещали свою историю в литературный контекст, может быть, помогло им пережить ее.
Тем не менее не все шло гладко, и реальная жизнь порой вступала в противоречие с литературой. В доме Мойера часто гостили студенты, попавшие в затруднительное финансовое положение. Мария Андреевна подружилась с одним из них – юным медиком Карлом Зейдлицем, что вызвало ревность мужа.
Машенька писала Жуковскому 22 февраля 1822 года о Зейдлице: «Он заслужил мою дружбу, оберегая меня так, как будто я была его настоящей матерью, и я гордилась влиянием, которое оказала на него, потому что, когда он попал к нам в дом, то был на плохом пути… У него тогда было много горя, и моя дружба была утешением. В родины мои показал он мне привязанность сына – не было удовольствия, которым бы он не пожертвовал для меня. Эти три недели, которые я пролежала с мучительной болью в постели, не отходил он от меня прочь, читал старые, известные ему книги и старался угадывать мои мысли. Я привязалась к нему, как к милому дитяте, и дорожу этой привязанностью». Далее она пишет о недовольстве мужа и о том, что Зейдлицу пришлось уехать из Дерпта в Петербург. И заканчивает письмо грустным признанием: «У меня есть два светлых сокровища: мой младенец и мое прошедшее! с этими двумя спутниками можно прожить добродетельно и не такую жизнь, как моя!». Болезнь Маши была связана с новой неудачной беременностью.

К.К. Зейдлиц
18 марта 1823 года Мария Андреевна, родив мертвого мальчика, скончалась. На ее могиле установлен крест с распятием, выполненный по эскизу Жуковского с двумя изречениями из Евангелия, которые она любила при жизни: «Да не смущается сердце ваше…» (Иоанн, 14, 1) и «Придите ко мне вси труждающиеся…» (Матфей, 2, 28). Как и героиня Руссо, она умерла неожиданно и слишком рано, молодой, в расцвете лет.
Зейдлицу, с которым их сблизило общее горе, Жуковский писал: «Милый брат Зейдлиц, я получил твой бесценный подарок. Не скажу: какой ангел нас покинул! Нет! какой ангел был с нами! Он с нами и теперь. В этой мысли все святое в жизни! Все доброе в настоящем и все прекрасное в будущем. Посылаю тебе ее волосы. Камушек взят с ее могилы, в пятницу на святой неделе, когда мы все вместе там в первый раз были».
Зейдлиц сделал блестящую медицинскую карьеру, прожил долгую, интересную жизнь, часто встречался с Жуковским. Тот писал ему: «Думая о тебе, невольно прихожу к мысли, что между твоею и моею судьбою есть какая-то таинственная связь». После смерти поэта Карл Карлович написал его биографию.
8
Жуковского ожидала долгая и плодотворная жизнь, дружба с Пушкиным и знаменитое чтение 6-й песни «Руслана и Людмилы», когда Жуковский подарил юному другу свой портрет с надписью: «Победителю-ученику от побежденного учителя» 26 марта 1820 года, в день, когда он окончил свою поэму «Руслан и Людмила». Дружба с Олениным, участие в обществе «Арзамас». Были заслуженные слава и почет, признание читателей и императорской семьи. С 1815 года он становится чтецом императрицы Марии Федоровны, с 1825 года – воспитателем наследника, великого князя Александра, будущего императора Александра II. В 1838–1839 годы они с Александром путешествуют по Западной Европе.
Но мысль о браке, о семье как о спасении от одиночества не оставляет его. Уже в 1820 году, после свадьбы Маши, он пишет:
Кое-как буду путь опасный,
Судьбе отдавшись, продолжать!
Беречь свой челн от потопленья
Среди неверной глубины,
И терпеливо доставленья
Ждать мне обещанной жены.
Но проходит десять лет, пришла слава, а ту, с которой он захотел бы создать семью, Жуковский так и не встретил, он начинает терять надежду и пишет: «…верно, не суждено мне, чтобы у меня была своя семья. Лета между тем подоспели и сделали меня весьма нерешительным. Одиночество тяжко и грустно под старость, но с семейной жизнью сколько забот и зависимости!»

Е.Е. Рейтерн
В 1841 году Жуковский выходит в отставку и поселяется за границей. Там 57-летний поэт делает предложение юной Елизавете фон Рейтерн, дочери старого друга Жуковского художника Евграфа Рейтерна. Они были знакомы и раньше. Рейтерн приезжал в Дерпт еще в 1826 году. С его дочерью, тогда тринадцатилетней девочкой, Жуковский познакомился семь лет спустя, в 1833 году в Швейцарии, на Женевском озе ре, где некогда Сен-Пре встретил и полюбил Юлию. И возможно, именно Елизавета вдохновила Жуковского на создание образа воздушной, шаловливой девочки-ундины из первых глав одноименной поэмы. Собственно, поэма – прекрасная история любви прекрасной водяной нимфы и человека – перевод прозаической повести немецкого романтика Фридриха де ла Мотт Фуке, но перевод авторский – местами почти дословный, местами насыщенный собственными образами и идеями переводчика.
А в июне 1839 года, во время поездки с наследником, Василий Андреевич заезжал к Рейтернам. «Я провел только два дня в замке Виллингсгаузен, – писал он родным, – и в эти два дня были для меня минуты очаровательные. Старшая дочь Рейтерна, 19 лет, была предо мной точно как райское виде́ние, которым я любовался от полноты души, просто как Виде́нием райским, не позволяя себе и мысли, чтоб этот светлый призрак мог сойти для меня с неба и слиться с моею жизнью. Я любовался ею, как образом Рафаэлевой Мадонны, от которой после нескольких минут счастия удаляешься с тихим воспоминанием и… Однако нет! В тогдашнем чувстве, с которым смотрел я на это ангельское лицо, не было того совершенного покоя, с каким смотришь на тихую Мадонну; оно было соединено с грустью: мне было жаль себя; смотря на нее и чувствуя, что молодость сердца была еще вся со мною, я горевал, что молодость жизни миновалась и что мне надобно проходить равнодушно мимо того, чему бы душа могла предаться со всем неистощимым жаром своим и что однако навсегда должно ей остаться чуждым. Это были два вечера грустного счастия. И всякий раз, когда ее глаза поднимались на меня от работы (которую она держала в руках), то в этих глазах был взгляд невыразимый, который прямо вливался мне в глубину души, и я бы изъяснил этот взгляд в пользу своего счастия, и он бы тут же решил мою судьбу, если бы только мне можно было позволить себе такого рода надежды и не до́лжно было от себя всеми силами отталкивать подобные желания, моим летам уже неприличные, и только что для меня тревожные».
Он понимает, как этот брак выглядит со стороны, но пишет родным, что хочет верить в возможность счастья, «если только она подаст мне руку произвольно от сердца, без всякого влияния со стороны» (возможно, в этот момент он вспомнил свадьбу Машеньки и Мойера).
Екатерине Ивановне Мойер (той самой Катеньке, дочке Марии Андреевны, которой теперь уже двадцать лет) Жуковский пишет: «За четверть часа до решения судьбы моей у меня и в уме не было почитать возможным, а потому и желать того, что теперь составляет мое истинное счастие. Оно подошло ко мне без моего ведома, без моего знания, послано свыше, и я с полною верою в него, без всякого колебания, подал ему руку».
Елагиной он рассказывает больше: «В самый день моего первого отъезда из Дюссельдорфа, когда еще и в мысль не входила мне возможность того, что через несколько часов решилось для меня на всю жизнь. Мы играли в одну игру, которая состоит в том, чтобы угадать стихи, написанные навыворот, сохранив порядок слов, но перестановив все буквы. Я написал, без намерения, 8 стихов из Ленау и отдал их ей для отгадки, и она разобрала эти стихи, а в вечеру того дня они сделались надписью к моей жизни; я их перевел или, лучше сказать, усвоил.
Вот они…
О, молю тебя, создатель,
Дай вблизи ее небесной,
Пред ее небесным взором
И гореть и умереть мне,
Как горит в немом блаженстве,
Тихо, ясно угасая,
Огнь смиренныя лампады
Пред небесною Мадонной».
А свою петербургскую приятельницу, взрослую и умную Александру Осиповну Смиронову-Россет (которой он когда-то посвящал забавные и милые стихи) Василий Андреевич предупреждает: «Вы знаете и любите мою невесту. Не пугайтесь ея молодости и моей старости: когда расскажу вам при личном свидании, как это сделалось, то вы убедитесь, что я не поступил здесь, как юноша, обольщенный чувством, что уже мне не к лицу и не под лета, а просто с смиренною благодарностью принял от Бога бесценный дар, им самим мне приготовленный и дарованный мне без моей заслуги. Да сохранит он мне это сокровище!».
30 октября 1842 года родилась их дочь Александра. Жуковский записывает в дневнике: «В святилище семейной жизни стоит сосуд причащения жизни вечной. Дети мои и жена его мне подадут, и да позволит мне Бог их жизнь устроить по воле его». Елизавета тяжело переносит роды, медленно поправляется после них. В 1843 году Жуковский пишет поэму «Наль и Дамянти» на сюжет индийского эпоса «Махабхарата». В ее вступлении есть такие слова:
И ныне тихо, без волненья льется.
Поток моей уединенной жизни.
Смотря в лицо подруги, данной богом
На освященье сердца моего.
Смотря, как спит сном ангела на лоне
У матери младенец мой прекрасный,
Я чувствую глубоко тот покой,
Которого так жадно здесь мы ищем,
Не находя нигде; и слышу голос,
Земные все смиряющий тревоги…
1 января 1845 года у Жуковских родился сын Павел. Но от холеры умирает сестра Елизаветы, и молодой женщиной все чаще овладевает депрессия. Они ездят на воды в Эмс, живут во Франкфурте, иногда посещают Россию, где друзья поэта радостно приветствуют «рейнскую деву», восхищаясь ее молодостью и красотой, но за спинами супругов отпускают шутки, по подводу «дедушки-жениха» – шутки, которые кажутся им невинными.

П.В. Жуковский, сын поэта

А.В. Жуковская, дочь поэта
12 (24) апреля 1852 года Жуковский умирает в Баден-Бадене. Перед смертью он пишет жене такие строки: «Прежде всего из глубины моей души благодарю тебя за то, что ты пожелала стать моею женою; время, которое я провел в нашем союзе, было счастливейшим и лучшим в моей жизни. Несмотря на многие грустные минуты, происшедшие от внешних причин или от нас самих – и от которых не может быть свободна ничья жизнь, ибо они служат для нее благодетельным испытанием, – я с тобою наслаждался жизнью, в полном смысле этого слова; я лучше понял ее цену и становился все тверже в стремлении к ее цели, которая состоит не в чем ином, как в том, чтобы научиться повиноваться воле Господней. Этим я обязан тебе, прими же мою благодарность и вместе с тем уверение, что я любил тебя как лучшее сокровище души моей. Ты будешь плакать, что лишилась меня, но не приходи в отчаяние: „Любовь так же сильна, как и смерть“. Нет разлуки в царстве Божием. Я верю, что буду связан с тобою теснее, чем до смерти. В этой уверенности, дабы не смутить мира моей души, не тревожься, сохраняй мир в душе своей, и ее радости и горе будут принадлежать мне более, чем в земной жизни. Полагайся на Бога и заботься о наших детях; в их сердцах я завещаю тебе свое, – прочее же в руке Божией. Благословляю тебя, думай обо мне без печали и в разлуке со мною утешай себя мыслью, что я с тобою ежеминутно и делю с тобою все, что происходит в твоей душе».
Его прах перевезен в Россию и погребен в Петербурге на кладбище Александро-Невской лавры.
9
Елизавета Евграфовна с детьми переезжает в Россию, живет в Москве, переходит из протестантизма в православие.
Она написала воспоминания о муже, в которых рассказывала: «Я полюбила Жуковского, когда мне было еще 12 лет от роду. Это было на Женевском озере, где Жуковский проводил лето для поправления своего здоровья. Мысль, что я только с ним могла бы быть счастлива, поселилась во мне с первой минуты, как я его узнала. Мысль эта была тогда совсем ребяческая. Даже и теперь я стыжусь, когда подумаю, что я в 12 лет могла иметь подобную мысль. Но это было какое-то непреодолимое предчувствие, что-то невольное, чего себе объяснить не умеешь; тем более что он не подал мне никакого повода к тому. Он ласкал меня, как ребенка, и более ничего. Но вот он уехал в Россию; я осталась и чувствовала, что остаюсь одна, без него. Шесть лет прошло с тех пор, и шесть лет не могли изгладить из души моей этой мысли. Я чувствовала сама всю странность моих чувств. Я старалась уверять себя, что это наконец смешно, потому что совсем невозможно. И мой разум был совершенно согласен с тем, но сердце говорило другое, даже и не сердце, но (опять повторяю) что-то такое непостижимое для меня самой, как будто какое-то предназначение свыше, которое раз, но ясно сказало мне: „Ты должна быть его“. Шесть лет боролась я всеми силами души моей против этой мысли, которая часто представлялась мне каким-то искушением. Не раз, сидя одна, я силилась вслух повторять самой себе: „Нет! Нет! Нет! Это невозможно“. Но вместе со звуком слов моих разлеталась и уверенность в невозможности надежд моих. Наконец в 1840 году Жуковский снова приехал за границу с государем цесаревичем. Один слух о том, что он будет к нам, потряс меня до глубины души. – Я ожидала от этого приезда решения судьбы моей. Наконец он был у нас. Мне было тогда 18 лет; но он по-прежнему ласкал меня, как дитя: он дарил мне конфеты. Между тем в это посещение он сказал отцу моему: „Знаешь, что я думаю? Мне кажется, что я был бы счастлив, если бы дочь твоя была мне женою!“ Эти слова так удивили отца моего, что он принял это почти за неуместную шутку и потому сухо отвечал: „Какая странность так думать о ребенке!“ На это Жуковский замолчал. Я об этом ничего не знала. С тем мы опять расстались. Теперь только я почувствовала, что борьба моя с собою кончилась. Я была побеждена моею мыслию. Одно чувство наполняло меня теперь, это то, что дума моя принадлежит ему навеки, хотя бы то навсегда осталось ему неизвестным. Во мне поселилось убеждение, что мне суждено или жить с ним, или умереть. Я видела в этом задачу моей жизни, мое назначение на земле, без осуществления которого мне не оставалось ничего более на этом свете. Внутренняя борьба моя не могла более скрываться от внимания моих родителей, и я должна была сознаться в своих чувствах перед моею матерью. Ее добрые советы и наставления немного помогли моему положению. Ей удалось только убедить меня в невозможности исполнения моих мечтаний. С тех пор я стала жить надеждою на соединение души моей с его душою в вечности. Часто, глядя на небо, говорила я самой себе: моя душа живет уже с ним там! Но вот прошло несколько месяцев, и Жуковский снова посетил нас. Его приняли и на этот раз как старого друга нашего семейства. Раз вечером, как обыкновенно часто случалось, попросил он меня принести ему перо и чернила. Это было в сумерках, и я уверена, что только вечерний полумрак позволил ему произнести при этом никогда мною не ожиданные от него слова: „Хочу ли я быть его женою?“ Но тут же, как бы испугавшись сам, он прибавил: „Однако не отвечайте мне тотчас ни да, ни нет; потому что это такой важный шаг, что об этом надо сперва крепко подумать“. Каково же было его удивление, когда я тут же отвечала ему, что мне нечего было думать, что эта дума росла во мне шесть лет и созрела до того, что во мне давно уже на этот счет живет одно только: да. Здесь он позвал отца моего, и он возложил на нас обоих свою единственную руку. Мы были обручены. Вслед за тем Жуковский уехал в Петербург и целую зиму пробыл там. Но здесь начались его письма ко мне, и что это за письма! В них-то излилась душа его вполне, как она есть!»
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?