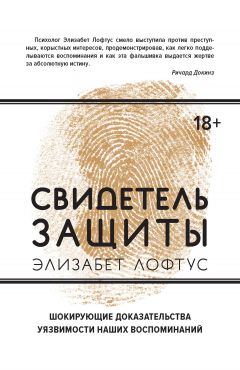
Автор книги: Элизабет Лофтус
Жанр: Зарубежная психология, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
– Боюсь, вам придется разделить комнату с Лютером. – О’Коннелл указал на невысокий комод, где стоял грязный аквариум, со дна которого на меня смотрела большая каймановая черепаха. – Лютер является многим нашим гостям в страшных снах, – признался О’Коннелл. – Надеюсь, вы не боитесь рептилий?
– Только змей! – ответила я, смеясь и чувствуя облегчение оттого, что смогу остаться в этом уютном, надежном доме. Когда я летела в Солт-Лейк-Сити (в тот же день, только раньше), мне пришла в голову мысль, что Тед Банди может предложить мне остаться в его квартире. Я просматривала свои заметки и изучала фото крупным планом, сделанные в ночь ареста Банди в августе 1974 года. Я сидела в самолете DC-10 возле прохода. Я поднесла снимок поближе и вгляделась в лицо Банди. Губы крепко сжаты, ноздри слегка раздуты, одна бровь приподнята – он показался мне наглым, дерзким и злым. Глаза холодные, безжизненные, пустые, было такое впечатление, что я могу смотреть прямо через них.
О’Коннелл протянул мне бокал белого вина и проводил меня в свой кабинет.
– Обсудим основные тезисы ваших завтрашних показаний, – сказал он, поудобнее устраивая свое сухое, долговязое тело в коричневом кожаном кресле. На полированном столе покоилась его ковбойская шляпа, огромная, как чемодан, и, вероятно, столько же и весившая. – Итак, первое: мы отказываемся от права на суд присяжных.
– Что? – переспросила я, и в моем голосе отчетливо проявился шок, который я испытала. Я осторожно поставила свой бокал и ждала, пока О’Коннелл объяснит это решение. Отказ от жюри присяжных – весьма необычный юридический маневр, который редко используется в делах с такими высокими ставками, как в данном случае. В суде присяжных судьбу Банди будут решать двенадцать мужчин и женщин, и все двенадцать должны согласиться в том, что он виновен вне всяких сомнений. В случае отказа от жюри присяжных, как решил О’Коннелл, решение о виновности или невиновности Банди будет принимать всего один человек – судья.
О’Коннелл взглянул мне в лицо и улыбнулся.
– Все просто: нам нужны ваши показания, – сказал он. – Обвинение базируется главным образом на опознании потерпевшей Кэрол Даронч Теда Банди как человека, который пытался похитить ее. Вы наш главный свидетель. Вы можете задавать вопросы, касающиеся опознания ею напавшего на нее человека, и обосновывать возможность искажений памяти и принципиально неоднозначную природу опознания преступника очевидцами. Как вы, наверное, понимаете, нам будет чертовски трудно получить эту информацию раньше присяжных: прокурор попытается сделать все возможное и невозможное, чтобы не допустить заслушивания ваших показаний. Но судья все же выслушает их, в этом я уверен.
О’Коннелл поднялся и начал ходить по комнате.
– Существует и еще одна причина, – сказал он. – Обычный, средний человек с улицы думает, что косвенные доказательства – это нечто неубедительное, но на самом деле они намного более надежны, чем показания очевидцев. Мы с вами знаем, что показания свидетелей – это хреновые показания, но присяжные, скорее всего, будут выносить приговор именно на основании показаний свидетелей.
О’Коннелл развернул руки ладонями вверх, как будто уже выступая в суде.
– Наша идея проста. Почему бы не выбрать вариант с одним «присяжным» – судьей, который, как мы знаем, человек умный, вместо того чтобы испытывать судьбу, доверяя решение двенадцати неизвестным?
Я глубоко вздохнула. О’Коннелл организовал весь этот процесс так, что я действительно смогу выступить в качестве эксперта-свидетеля. Это был рискованный ход. Судье придется выслушать мои показания, даже если прокурор будет протестовать, потому что О’Коннелл будет требовать «занести это в протокол». Известно, однако, что судьи относятся к обвиняемым строже, чем присяжные. Они каждый день имеют дело с закоренелыми преступниками и каждый день слышат одну и ту же песню: «Я невиновен, я не делал этого, это ошибка».
Это повторяется изо дня в день, с изучением всех подробностей ужасных преступлений, и от этого черствеет сердце. Своим жестким отношением к обвиняемым судьи напоминают мясников, привыкших к виду крови. Вот интересная неофициальная информация из жизни юристов. Мало кто знает, что мясников редко включают в число присяжных в уголовных судах – прокуроры сразу отвергают их, потому что примерно представляют себе, какую кучу ужасов нужно нагородить, чтобы шокировать человека, который по восемь часов в день режет на куски мертвых животных.
Я подумала, что, замышляя эту авантюру, О’Коннелл, наверное, учитывал личные качества и послужной список судьи по данному конкретному делу.
– Расскажите мне про судью, – попросила я.
– Его зовут Стюарт Хэнсон-младший, я с ним учился на юрфаке. – О’Коннелл взял трубку, чиркнул спичкой и несколько раз затянулся. – Он честный, справедливый, уважает закон и не боится полемики. Вот, в прошлом месяце он отклонил гражданский иск города против кинотеатра, демонстрировавшего фильм «Глубокая глотка». Хэнсон даже не дал ему дойти до суда, просто отклонил его. Мы думаем, что он сможет противостоять общественному давлению.
Я понадеялась, что Хэнсон будет вести себя в соответствии со сценарием О’Коннелла. Я хотела дать показания по этому делу не только в связи с возможностью ошибочного опознания, но и потому, что считаю, что исследования памяти пора уже выводить из лабораторий в реальную жизнь и что это может изменить мир к лучшему. Я исходила из презумпции невиновности и верила, что мои показания заслуживают того, чтобы их выслушали в суде.
– Давайте посмотрим основные пункты, касающиеся свидетелей по этому делу, – предложила я.
О’Коннелл порылся в лежавших на столе бумагах и протянул мне разлинованный лист формата 30 × 40 см, на самом верху которого от руки было написано «Лофтус – основные моменты».
– Я сделал кое-какие записи на основании наших телефонных разговоров, – пояснил он, ухмыляясь.
Я прочла первый пункт.
Восприятие и память работают не так, как видеокамера и видеомагнитофонная лента. Вспомнить можно только то, что было воспринято, то есть воспоминание нельзя «воспроизвести» снова, отмотав его назад таким образом, чтобы получить детали, которые отсутствовали в первоначальном восприятии. В качестве аналогии для сравнения можно использовать просмотр футбольного матча: если зритель не увидел событий, которые произошли на каком-то участке поля, потому что сосредоточился на действиях игрока с мячом, то он не сможет вызвать из памяти эти события, их там просто не будет (в отличие от видеозаписи игры, которая позволяет это сделать).
– Прекрасная аналогия, – сказала я.
– Я большой поклонник футбола, – сказал О’Коннелл, попыхивая трубкой. – Может, вы объясните мне эту концепцию видеоленты еще раз?
Я уже десятки раз читала студентам лекции на эту тему, и поэтому начала сразу, как на автопилоте.
– В большинстве теорий памяти этот процесс делится на три отдельных этапа, – начала я. – Первый этап – это восприятие, в ходе которого непосредственное ощущение данного события органами чувств встраивается в систему памяти; второй этап – это хранение, то есть период времени между событием и вызовом из памяти соответствующего конкретного блока информации; и третий этап – это извлечение, в ходе которого человек вспоминает сохраненную информацию.
Вопреки распространенному мнению, – продолжала я, – запечатлевшись в нашей памяти, факты не пребывают там пассивно, невредимые и не затрагиваемые дальнейшими событиями. На самом деле мы собираем фрагменты и характеристики окружающей нас среды, которые отправляются в память и там взаимодействуют с полученными ранее знаниями и ожиданиями – информацией, уже хранящейся в нашей памяти. Поэтому психологи-экспериментаторы представляют себе функционирование памяти как некий интегрирующий – и при этом конструктивный и творческий – процесс, а не пассивный процесс фиксации, подобный видеозаписи.
Потом я перешла от общих положений к конкретике.
– Все эти «я не знаю» и «я не помню» в показаниях Кэрол Даронч могут означать, что соответствующая информация никогда и не заносилась в память; иными словами, сбой произошел еще на стадии восприятия. Или это может означать, что информация хоть и была занесена в память, но потом была забыта, то есть имел место сбой на этапе хранения или на этапе поиска. Так или иначе, в реальности нет никакого способа узнать, что именно произошло.
Я снова посмотрела на список О’Коннелла и прочитала пункт 2: память разрушается в геометрической прогрессии.
– Накопленные к настоящему моменту результаты исследований показывают, что хранящаяся в памяти информация со временем разрушается и/или искажается, – пояснила я. – Через неделю информация, хранящаяся в памяти, будет менее точной, чем через день; через месяц она будет менее точной, чем через неделю; а через год она будет менее точной, чем через месяц.
– Одиннадцать месяцев хранить в памяти лицо Теда Банди – для Кэрол Даронч это, наверное, чертовски долго, – заметил О’Коннелл.
– Верно, – согласилась я, – хотя у многих людей существует ошибочное представление, что лица в памяти хранятся всю жизнь. Отчасти это так, но существует чрезвычайно важное различие между памятью на лица людей, которых мы знаем или знали на протяжении многих лет, и памятью на лица незнакомцев и незнакомок, которых мы видели лишь однажды и кратковременно. Многие люди сразу вспоминают лица друзей, которых они не видели многие годы или даже десятилетия. После окончания школы каждый из нас идет своим путем, но, когда через двадцать лет мы съезжаемся на встречу выпускников, мы обычно сразу узнаем лица наших бывших друзей.
Но с памятью на лица незнакомцев дело обстоит совсем иначе. Образы незнакомых людей, которых мы видели только мельком и только один раз, в подавляющем большинстве случаев со временем искажаются и размываются. Как правило, исследователи использовали периоды времени гораздо короче одиннадцати месяцев, и они обнаружили сильное разрушение образов незнакомцев в памяти.
О’Коннелл кивнул головой, посмотрел через мое плечо на список и прочитал: «Некоторые методы стимуляции улучшают восприятие и память, но сильный стресс затрудняет эти процессы. Негативно влияет на память страх, достигающий уровня истерики».
– Этот третий пункт относится к взаимосвязи между стрессом и памятью, – сказала я, – которая разъясняется в законе Йеркса – Додсона, названного так в честь двух исследователей, которые впервые установили наличие этой связи еще в 1908 году. При очень низких уровнях возбуждения (например, когда человек только просыпается утром) нервная система «включена» еще не полностью, и сенсорные сообщения могут не доходить по назначению. В такие моменты память работает не очень хорошо. При умеренных уровнях возбуждения (скажем, если вы немного нервничаете в связи с предстоящим судебным разбирательством или вас беспокоит конфликт с сыном-подростком) память работает наиболее эффективно. Наконец, при высоких уровнях возбуждения способность к запоминанию опять начинает снижаться и ухудшаться.
– Скажите, Элизабет, – начал О’Коннелл, – если бы вы ехали в машине с человеком, который представился сотрудником полиции, но при этом ехал к отделению полиции неверной дорогой да еще и в захудалом «фольксвагене», который затем скатился на обочину… Если бы этот человек защелкнул наручники у вас на запястье, размахивал перед вами пистолетом, а потом поднял монтировку и попытался ударить вас по голове, как вы оцените – это высокий уровень стресса?
– Конечно! – ответила я. – Но есть одно существенное потенциальное «но».
О’Коннелл приподнял брови.
– Дело в том, что в первые пять или десять минут контакта с «офицером Роузлендом» Кэрол Даронч не испытывала сильного эмоционального стресса, – сказала я. – Как минимум часть этого времени она шла рядом с ним по хорошо освещенному торговому центру. Поэтому можно утверждать, что уровень эмоционального возбуждения у нее был умеренный – такой, который, как правило, позволяет сохранять бдительность и обеспечивает достаточно хорошую запоминаемость и восстановление из памяти.
– Прокурор обязательно ухватится за это, – сказал О’Коннелл. – Однако все-таки, если собрать вместе все факты, мы можем убедительно заявить о возможном снижении точности памяти. – Он указал на пункт 4 в списке. – Трудно сохранять обособленные визуальные образы без переноса и слияния.
– Этот пункт относится к процессу, который обычно называют бессознательным, или непреднамеренным, переносом, – сказала я. – Когда человека, которого вы видели в одной ситуации, вы путаете с человеком, которого вы видели («вспоминаете») в другой ситуации. И опять же, применительно к данному конкретному случаю, когда полиция показала Кэрол Даронч две разные фотографии Теда Банди – крупно в профиль и анфас, а затем, через несколько дней, фото на водительском удостоверении, – они могли таким образом сформировать образ в ее памяти. «Вживить ей в мозг», как вы однажды выразились.
О’Коннелл снова кивнул головой. Он понимал этот пункт достаточно хорошо.
– Пункт 5, – сказала я, читая последний абзац в списке. – «Эффект предвзятости допрашивающего, в частности непреднамеренные сигналы и акцентирование». Соответствует предположению, что с 1 сентября (первоначальная подборка фотографий) до 2 октября (линейка опознания) у блюстителей порядка нарастали возбуждение и активность, и, соответственно, у свидетелей это спровоцировало эффект перехода от неуверенного опознания к уверенному. Вы всегда называете полицейских блюстителями порядка? – спросила я.
– Ну да, – ответил он. – Я называю их так, потому что они должны быть такими.
Но в данном случае О’Коннелл полагал, что «блюстители порядка» зашли слишком далеко и повлияли на потерпевшую, передав ей словами, жестами и другими «намеками» свою уверенность в том, что именно Тед Банди и был похитителем. После того как 1 сентября 1975 года Даронч неуверенно опознала Банди по фотографии, а затем через несколько дней более уверенно опознала его по другой фотографии, полицейские могли – намеренно или ненамеренно – общаться с ней, ощущая, что «клиент» у них уже есть. И она, стремясь помочь полиции и положить конец собственным мытарствам, могла уловить эти сигналы и решить для себя, что ее пытался похитить именно Банди. Вопросы, предполагающие определенные ответы, которые побуждают задавать более детальные вопросы, и этот механизм все раскручивается и раскручивается, махина движется вперед, затягивая Банди – виновного или невиновного? – под колеса.
– Вы же смотрели стенограмму, Элизабет, – сказал О’Коннелл. – Вы же видите, что по сравнению с показаниями, данными в ночь преступления, на предварительном слушании Даронч изменила показания. Почему она изменила в них так много деталей? Почему она изменила свое первоначальное высказывание «этот чем-то похож на того» на «это он»? Потому, что полицейские давили на нее. Потому, что они – намеренно или ненамеренно – сообщали ей, что Тед Банди – именно тот человек. Ее мягко зомбировали, в этом просто нет никаких сомнений.
О’Коннелл взял стенограмму предварительных слушаний и стал быстро переворачивать страницы.
– Вот, на странице 37, Йоком, прокурор, спрашивает Даронч про монтировку. Даронч отвечает, что похититель держал ее в правой руке. «Вы уверены, Кэрол, что он держал ее именно в правой руке?» – спрашивает Йоком. «Да», – отвечает она.
О’Коннелл усмехнулся.
– Йокому этот ответ ну совсем не понравился. Банди ведь левша.
Он перевернул еще несколько страниц.
– Страница 57, – сказал он. – Йоком спрашивает ее о цвете автомобиля. «Он был светло-бежевый или белый?» – спрашивает он. «Да», – отвечает она. Он провоцирует ее: «Может быть, он был голубой или зеленый?» – «Нет». Но вот здесь, в полицейском отчете, составленном всего лишь через час или два после этого события, она утверждает, что автомобиль был светло-голубой или белый. Как вы думаете, что случилось, почему она изменила свое мнение?
Вопрос был риторический. О’Коннелл считал, что, когда полиция нашла подозреваемого с бежевым автомобилем, память свидетельницы постепенно начала приспосабливаться к новой информации, и цвет машины стал потихоньку изменяться с белого или светло-голубого на бежевый.
– Страница 67, – продолжил О’Коннелл чтение расшифровки стенограммы. – В ходе перекрестного допроса я спросил Даронч, сколько раз она смотрела на фотографии в связи с этим делом. «Очень мало», – призналась она. «Ну хотя бы примерно? Раз десять?» – спросил я. «Пожалуй, да», – ответила она. – Он снова перевернул страницу. – «Сколько раз вы видели фото мистера Банди?» – «Несколько раз. Раза три или четыре». – «Вы видели его фото в газетах?» – «Да», – ответила она.
О’Коннелл откинул голову к левому плечу, потом к правому, поправил очки.
– Ну вот, я собираюсь прочитать следующие разделы дословно по стенограмме предварительных слушаний, страницы 79, 80. Я задаю потерпевшей вопросы, и мы говорим о подборке фотографий для опознания, которые ей показали через одиннадцать месяцев после попытки ее похищения. Одиннадцать месяцев, на протяжении которых она просмотрела сотни фотографий. И вот что мы здесь имеем:
Вопрос. Сколько фотографий вам показали?
Ответ. Ну, может быть, восемь или девять.
Вопрос. А что было, когда вы просмотрели их и сказали точно, что именно произошло в тот раз? Потом вы отдали их обратно, но вынули из пачки фото мистера Банди, затем отдали пачку обратно и сказали, что никого не узнаете, и они спросили: «Тогда почему вы вынули его из пачки?» – и вы сказали: «Ну, просто этот больше похож на него, чем люди на всех остальных фото», так?
Ответ. Да.
Вопрос. Итак, в первый раз вы утверждали, что фотографии этого человека, ну, человека, который это сделал, там нет, но что мистер Банди похож на него больше, чем другие люди?
Ответ. Да.
Вопрос. Хорошо. Теперь скажите, через какой срок вам снова принесли посмотреть фото мистера Банди?
Ответ. Я не знаю. Не помню. Через неделю или около того.
Вопрос. Хорошо. А какого типа были эти фотографии: крупный план, или фотографии с водительских прав, или какие-то иные?
Ответ. Я не помню, какие они были. Были и такие, и такие.
Вопрос. Во второй раз вы уверенно опознали человека?
Ответ. Нет.
Вопрос. Все опознания по фото были неуверенные, не так ли?
Ответ. Да.
О’Коннелл бросил 150-страничную стенограмму на стол, взглянул на часы и вздохнул.
– Уже двенадцатый час. Я прошу прощения, что так получается, но разрешите мне еще кратко рассказать о том, что произошло в суде за последние два дня. Йоком начал свой прямой допрос, опираясь на показания, данные в ночь похищения, и опознание Банди потерпевшей одиннадцать месяцев спустя. В ходе перекрестного допроса я указал на нестыковки при опознании: например, в самом начале она описала Теда как человека с усами, некоторое время спустя, вскоре после происшествия, решила, что их не было, а спустя еще некоторое время опять решила, что усы у него были.
Ладно, – день второй, сегодня. Черт возьми, это был длинный день. – О’Коннелл провел рукой по волосам. – Детектив Джерри Томпсон утверждает, что при обыске квартиры Банди он нашел две или три пары блестящих лакированных кожаных туфель. В своем первоначальном заявлении Даронч утверждала, что напавший на нее человек был в черных или темно-красных лакированных туфлях. У нас есть свидетели, которые утверждают, что Банди не то чтобы не вылезал из лакированных кожаных туфель, но в его квартире они были. Это не очень хорошо для нас.
О’Коннелл пожал плечами.
– Давайте вернемся к сентябрю 1975 года, когда детектив Томпсон показал потерпевшей Даронч пачку фотографий. Она просмотрела их, вынула фото Банди, а остальные вернула Томпсону со словами: «Я не вижу здесь никого, кто был бы на него похож». – «А что насчет этого?» – спросил Томпсон и показал на фотографию, которую она держала в руке. «Не знаю, – ответила она. – Мне кажется, этот похож на него». Но теперь, отвечая на вопросы прокурора в суде, Томпсон сообщил, что Даронч сказала: «Да, я считаю, что он очень похож на того человека, но я не уверена».
Итак, при перекрестном допросе я должен выделить два важных момента: во-первых, она сказала не «очень похож на того человека», а «вроде похож на него», и Томпсон именно так и написал в своем первоначальном отчете. Следующий пункт касается второго опознания по фото, когда Даронч показали фотографию с водительских прав Теда, и он критически важен для ваших показаний. «Вы знали, что это неправильно, не так ли, – спросил я Томпсона, – показать потерпевшей две разные фотографии одного и того же человека? Показать еще одну фотографию того же самого человека после того, как она уже один раз неуверенно его опознала: “Этот вроде похож на него”?» – «Я понимаю так, что было бы неправильно показать ту же самую фотографию, но совсем другую, которая выглядит совсем по-другому, – я не вижу в этом ничего плохого», – ответил Томпсон.
Но в этом, конечно, есть что-то неправильное, некорректное, – заключил О’Коннелл, – и именно тут пригодились бы ваши показания.
– Бессознательный перенос, – сказала я. – Даронч видит фотографию, детектив обращает на это внимание, а потом ей показывают еще одну фотографию того же самого человека. Теперь она уже кажется знакомой. Но, возможно, она просто опознала на этой фотографии человека, которого она видела раньше, на первой фотографии. Это воспоминание действительно могло быть «сформировано» у нее полицейскими.
– Именно! – улыбнулся мне О’Коннелл и в последний раз посмотрел на часы. – Хватит тренироваться, к девяти часам мы должны быть в суде. Готовы ли вы лицезреть Лютера, потрясающую каймановую черепаху?
* * *
На следующее утро в суде я сидела за столом в кабинете судьи. По другую сторону стола, достаточно близко ко мне, чтобы можно было дотянуться и прикоснуться к нему, сидел Тед Банди. «Он просто восхитителен», – подумала я и сама удивилась своему первому впечатлению, потому что представляла его себе угрюмым, мрачным и напряженным. Но он был полон обаяния, присущего выпускникам Лиги плюща, аккуратный, свежевыбритый, явно после душа, веселый и энергичный. Я запросто могла бы представить его себе мечущим фрисби на пляже в Калифорнии или сидящим на лужайке закрытого загородного клуба в безупречно белом костюме для тенниса, потягивающим джин с тоником и обсуждающим достоинства и недостатки удара закрытой ракеткой. У него было почти квадратное лицо с сильными, выступающими челюстями и скулами, подчеркнутыми красивыми линиями улыбки. На лбу у него, казалось, навсегда пролегли морщины, толстые складки кожи над хорошо сформированными бровями, приподнятыми с видом откровенного высокомерия и пренебрежения.
Мы сидели вокруг стола в кабинете судьи: О’Коннелл, Банди, сам судья Хэнсон, Йоком и я. Я отвела глаза от Теда Банди и сосредоточилась на юридических аргументах, которые позволили бы определиться с тем, буду или не буду я сегодня давать показания. Как и ожидалось, Йоком выступил против заслушивания моих показаний, сославшись на традиционные постановления Верховного суда о том, что свидетель-эксперт не может давать показания о том, что, как можно с полным основанием предполагать, должно быть известно и неспециалисту. Для оценки показаний Кэрол Даронч, утверждал Йоком, судье Хэнсону не нужна помощь «эксперта», поскольку судья, которому ежедневно приходится выслушивать ответы свидетелей на свои и чужие вопросы, безусловно, знает сильные и слабые стороны свидетельских показаний.
Хэнсон внимательно слушал и иногда кивал головой, принимая к сведению тщательно подготовленные прокурором убедительные аргументы. Он терпеливо ждал, пока Йоком закончит, а затем напомнил о том, что штат Юта и Верховный суд США официально признали, что именно показания очевидцев являются наиболее сомнительной категорией показаний. А то, что он сам в какой-то мере эксперт, как раз и должно помочь ему оценить сильные и слабые стороны моих показаний. В итоге протест Йокома был отклонен. Мне разрешили выступить с показаниями.
Когда мы покидали кабинет судьи, я взглянула на Банди, чтобы оценить его реакцию на решение Хэнсона, и увидела, что он улыбается Йокому какой-то заискивающей, вкрадчивой улыбкой, открывающей его ровные белые зубы. Эта улыбка, казалось, говорила: «Ну посмотри, я совсем не такой плохой, как ты думаешь! Ну дай мне передышку!» Я была поражена. Почему Банди улыбается прокурору, своему главному обвинителю? Какого черта он это делает?
Воспоминание об этой улыбке жгло мне мозг. Все остальное у Банди казалось правильным: его сдержанный серый костюм, аккуратно подстриженные волосы, даже морщины беспокойства на лбу. Но эта улыбка была какой-то неправильной, неуместной. Абсолютно неуместной.
Мне уже приходилось представлять интересы невинных людей, и я никогда не видела, чтобы кто-то из них, ну хоть один, улыбнулся прокурору. Это были ожесточенные, обозленные люди, которых ложно обвинили, которые были в ужасе от происходящих с ними событий, из-за которых они в конце концов и попали в зал суда, где им теперь нужно бороться за свою репутацию, а иногда и за свою жизнь и которые жили в страхе перед этой могучей системой, которая может уничтожить их. Для них прокурор был палачом, и эти невинные люди боялись его мощи.
А тут вдруг Тед Банди – уверенный в себе, расслабленный и улыбающийся своему прокурору.
Что-то здесь было не так. Выйдя на свидетельскую трибуну, подняв правую руку и поклявшись говорить правду, одну только правду и ничего, кроме правды, я взглянула на стол защиты. Судья Хэнсон распорядился поставить дополнительные стулья для членов семьи Банди, и его мать пристально смотрела на меня. Ее губы были раскрыты, глаза опухли от слез, голова немного откинута назад. В ее глазах я увидела ужас, и это не стало для меня неожиданностью.
О’Коннелл подошел к свидетельской трибуне.
– Доктор Лофтус, – начал он, воспользовавшись первой же возможностью, чтобы подчеркнуть мою принадлежность к академическим кругам, – что такое «бессознательный перенос»?
– Это термин, используемый для обозначения ошибочных воспоминаний или путаницы, когда вместо человека, которого видели в одной ситуации, «вспоминают» человека, которого видели в другой ситуации, – ответила я, стараясь говорить сильным, спокойным, «профессиональным» голосом. – Классический пример – случай ограбления кассира на железнодорожной станции, помнится, с использованием пистолета. Потом этот кассир из группы представленных ему людей опознал некоего матроса. Он утверждал, что вооруженное ограбление совершил именно этот матрос. Оказалось, однако, что у матроса было железное алиби, но раньше он трижды покупал у этого кассира билеты. Так что, когда кассир разглядывал членов группы, лицо матроса действительно показалось ему знакомым, но при этом он ошибся и вспомнил действительно знакомое ему лицо матроса как лицо грабителя, а не как лицо человека, ранее покупавшего у него билеты.
– Не могли бы вы рассказать нам о вашем собственном эксперименте?
– Я показала тридцати участникам моего эксперимента шесть фотографий, последовательно, по одной, и в это время они слушали рассказ о совершенном преступлении. Все люди, причастные к этому инциденту, были невиновны – кроме четвертого человека, который и совершил преступление. Участники эксперимента узнали, что этот человек и есть преступник. Через три дня они пришли снова. При этом они даже не знали, что им будут задавать вопросы (они думали, что их пригласили получить чеки, плату за участие в эксперименте). Мы показывали им фотографии четырех человек, которых они никогда раньше не видели, и одну фотографию невиновного человека, просто случайного свидетеля, героя предыдущего рассказа, и попросили их выбрать фото преступника. Правильный ответ должен был бы звучать так: «Преступника здесь нет». Но на самом деле случилось вот что: 60 % участников выбрали невиновного случайного свидетеля, 16 % выбрали другого, естественно, тоже невиновного человека – то есть 76 % ошиблись и так или иначе выбрали невиновного! И только 24 % отказались опознать кого-либо. Этот эксперимент показывает, что феномен бессознательного переноса можно наглядно продемонстрировать в лаборатории и что это вполне реальное явление.
Затем О’Коннелл вовлек меня в дискуссию о влиянии постсобытийной информации. Когда люди, ставшие свидетелями важного события, получают новую информацию, она может не только добавляться к информации, уже имеющейся в памяти, но и изменять ее, в частности, даже встраивать в ранее приобретенную память несуществующие детали. В нашем случае Кэрол Даронч изначально помнила, что знак у «офицера Роузленда» был «весь золотой». Но после того, как ей показали полицейские значки Мюррея, на которых присутствуют три цвета – золотой, серебряный и синий, она изменила показания, и значок у «офицера Роузленда» стал «золотой, серебряный и синий». Ее память, предположила я в зале суда, могла быть изменена последующим воздействием. Аналогичные изменения памяти могли иметь место и в отношении усов подозреваемого, которые в памяти Даронч сначала были, потом отсутствовали, а потом опять появились – как если бы «офицер Роузленд» был бумажной куклой, которую можно свободно одевать и раздевать.
По ходу моего выступления О’Коннелл задавал мне вопросы, которые, в частности, позволили мне подчеркнуть воздействие сильного стресса на память. Я попыталась донести до слушателей мысль, что страх и ужас не укрепляют память, сжимая ее в целостную и притом точную массу, но, напротив, создают пробелы в наших воспоминаниях. Теперь судьба Банди зависела от этого важнейшего пункта: были ли воспоминания Кэрол Даронч в ту ночь адекватными или она ошибалась?
Когда вопросы у О’Коннелла закончились, судья Хэнсон наклонился ко мне через свой массивный письменный стол.
– Доктор Лофтус, – заговорил он на удивление мягким голосом, – у вас есть данные, позволяющие сделать вывод относительно того, как потерпевшая могла подвергнуться воздействию в реальной ситуации?
Я поняла смысл его вопроса. Фактически он спросил меня, имеют ли все эти лабораторные исследования какую-либо связь с реальной жизнью.
– Исследования показывают, – сказала я, стараясь как можно тщательнее сформулировать свой ответ, – что, когда человек испытывает стресс, возбуждение или страх, память работает менее точно и подробно. Если вы предполагаете, что жертва преступления находилась в состоянии крайнего возбуждения, то ее воспоминания будут не так точны и подробны, как в случае более умеренного возбуждения.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































