Текст книги "Жили-были старик со старухой"
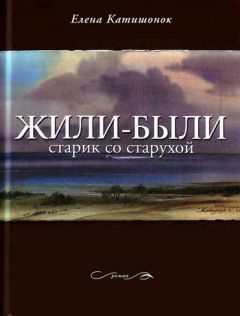
Автор книги: Эмиль Брагинский
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Смотреть было на что. Два ряда деревянных прилавков были густо уставлены копилками в виде глиняных раскрашенных кошек. Все кошки сидели на задних лапах, в одинаковых позах, отличаясь только величиной и раскраской. Цена была прямо пропорциональна яркости и размеру священных животных, но Лелька об этом не знала и напряженно думала, как можно с такой красотой играть. Когда же старик объяснил, что они не для игры, а для собирания денег, и даже приподнял, чтобы она рассмотрела щель для монет, недоумению девочки не было предела:
– А как доставать денежки?
– Разбить.
– Насовсем?!
Максимыч подтвердил, что насовсем, и обратно уже не слепить.
Мечта, уже почти оформившаяся, лопнула. А так хорошо было бы подарить вон ту, синенькую, бабушке Матрене, пусть берет с собой на базар вместо своего старого кошелька…
Старик смеялся, не выпуская ее руки, так что приходилось останавливаться, вынимать платок и промокать глаза и усы. Ах, ты…
В параллельном ряду продавались деревянные ложки, миски, подносы, подставки для яиц; многие тоже были ярко раскрашены. Зато игрушки почти все были сочно-разноцветные и сверкали лаком. Плодовитые матрешки, изящные солдатики в политически не определенной, но очень нарядной форме, зверюшки, вырезанные порой настолько искусно, что Максимыч останавливался, аккуратно брал в руки и рассматривал так уважительно, что продавец, не сразу заметив потертость макинтоша и ветхий шарф, уже приветливо улыбался девочке. Продавались разного размера ящички с сюрпризом: надавишь шпенек сбоку или просто откроешь крышку-и выскочит чертик с пронзительным верещаньем. Судя по количеству таких коробочек и их габаритам, на базаре продавалась средней руки преисподняя.
Старик не торопясь вел девочку за руку и, если игрушки были особенно забавные, поднимал ее к прилавку.
Умелец, сотворивший из светлого дерева эту веселую длинноносую куклу с круглыми, как у Лельки, глазами, мог смело бросить вызов папе Карло. Люди, которые перебирали гладкие, точеные скалки, невольно улыбались при виде Буратино, приценивались и, уважительно присвистнув, отходили. Трудно было поверить, что игрушку вырезал парень с ленивым, отекшим лицом, стоявший по ту сторону прилавка, руки в карманах ватника.
Максимыч купил девочке петушка на палочке. Петушок и вправду был золотым, как в сказке, и светился глубоким оранжевым светом. Они подошли к небольшой избушке с надписью «ПИВО», и старик взял полную кружку такого же, как петушок, цвета. После этого, отойдя под стенку красного кирпичного амбара, они прислонились к блестящим чугунным столбикам, и пир начался.
– Максимыч, а пиво сладкое?
– Не-е, горькое, – ответил старик, осторожно, словно горячую, сдув пену.
– А мне можно?
– На кой тебе? Разве глоточек. Ну! Плюнь, плюнь, это для больших!
– А ты зачем пьешь?
– Жидкий хлеб, – таинственно сказал прадед, вытирая усы.
Лелька заглянула в пустую кружку: крошек не было. Она повернулась вопросительно к старику, но увидела такое, от чего замерла на месте, сжимая его руку изо всей силы.
Через базарную площадь… не шли, нет: двигались, тяжелыми толчками отпихиваясь от земли, очень короткие дядьки, бросая себя вперед, прямо к ним, и крича Максимычу хриплыми голосами: «Браток! Папаша!..» Лелька зажмурилась и вцепилась в старика обеими руками, одна еще липкая от упавшего на землю петушка.
Инвалиды, перебивая друг друга, протягивали старику скомканные деньги. Он кивнул, подхватил девочку на руки и заспешил, прихрамывая, к пивному ларьку. Там он спустил ее с рук, взял, сколько мог, полных кружек и медленно, стараясь не расплескать, двинулся обратно, успокаивая правнучку:
– Что ты спуталась, они ж убогие. Их на войне покалечило; спасибо Царице Небесной, хоть живые остались. Сами-то и пива взять не могут: которая нальет, а другая облает. Конечно, добрые, вот дуреха-то! Они добрые, только убогонькие.
Убогонькие не были похожи на добрых, они все были хмурые и сердитые. Получив пиво, обрадовались; Лелька думала: вот они теперь хоть на ноги встанут, но не дождалась и смотрела, не могла отвести взгляда от их рук – огромных, фиолетовых и распухших. Они так и остались сидеть на своих кожаных подушках, оторвав руки от железных утюгов, и с наслаждением втягивая пиво, а кто-то уже закуривал и протягивал папиросы Максимычу. Девочка не отходила от старика и разглядывала татуировки на страшных руках. Максимыч был самым высоким, а она старалась не смотреть им в глаза, что было трудно, так как приходилось смотреть или в землю, или куда-то поверх голов. Хоть и необычные, дядьки вели себя, как все взрослые: спрашивали, как ее зовут, сколько ей лет и «что ты с дедушкой покупать пришла». Чтобы внести ясность, она сказала, что дедушку убили на войне, а это не дедушка, это Максимыч, и называется он прадедушка. Все начали хвалить Максимыча, и Лельке уже было не то чтобы нестрашно, а как-то неловко. Потом они стали прощаться и снова схватили в руки по утюгу, а самый ближний к ним вытащил мятый рубль и попросил: «Возьми, отец, внучке на конфеты», – и кивнул на Лелькин леденец, валяющийся в пыли. Максимыч замотал головой, но инвалид вдруг покраснел и закричал: «Бери, не обижай! – и добавил: – Я бы и своим купил, да где они, свои-то…» – бросил рублевку и устремился за товарищами.
Теперь их лиц не было видно, только подпрыгивающие от толчков, удаляющиеся спины, и стало ясно, почему они так и не встали: встать им было не на что.
Кончался октябрь, и неспокойно было синее море, если судить по резкому ветру, который гулял по городу и безжалостно гнал шелестящие листья; однако на море старики не бывали, да и что там делать осенью, золотую рыбку кликать?…
Старик брал девочку в старый парк за трамвайным депо. Это называлось «пойти пошуршать»: в парке росли огромные старые каштаны, и Лелька бродила, утонув ботинками в шелестящих листьях. Непонятно, кто из них больше любил собирать каштаны: правнучка или прадед? В отличие от жены старик никогда не задавался вопросом: «на что они надо?», поскольку, если здесь и было что-то ненужное, так это сам вопрос. Находить каштаны было так же интересно, как ловить рыбу: когда следишь за поплавком, вопросом «на кой» не задаешься; вместе с тем, если б рыба была несъедобной, разве он перестал бы ее ловить?
«Шуршали», то есть гуляли, долго и домой являлись с полными карманами лакированных шоколадных каштанов; все до одного находили приют у Иры в комнате. Она тоже любила бесполезные веселые ядрышки, и долго хранила их на тарелке, где они постепенно тускнели, твердели и ссыхались. Самый крупный девочка клала отдельно, на подоконник: для мамы, когда придет.
Раз уж зашел разговор о маме, то напрашивается вопрос, где же она пребывала все это время? Ответить трудно; известно только, что Таечка появлялась нечасто, всегда непредсказуемо и выглядела такой головокружительной красавицей, что даже мамынька как-то сникала от восхищения и не пиявила ее.
Старик же, всегда втайне гордившийся внучкиной яркой цыганистостью, никаких вопросов – упаси Господь! – не задавал. Он с улыбкой наблюдал, как Лелька, вскарабкавшись ей на коленки, взахлеб рассказывает о деревянной кукле и кошках-копилках редкой красоты, об убогоньких, о том, что лавровый лист в суп кладут для вкуса, но есть его нельзя, о каштанчиках и о том, что Максимыч поймает ей золотую рыбку. Конечно, ребенку мать надо, в который раз думал старик, но вслух не высказывался.
Жила Тайка то у одной подруги, то у другой, и получалось, что подруг этих пруд пруди; на дежурства, впрочем, больше не ссылалась, и на том спасибо. Время от времени подруги, по-видимому, давали приют кому-то другому, так что она даже оставалась ночевать, но уходила рано, когда дочка еще спала, и никто не знал, когда она появится в следующий раз. Самый большой каштан оставался лежать на подоконнике.
Единственный человек, который проявлял самый активный, живой, почти агрессивный интерес к ее появлениям и исчезновениям, была Надя. Ведь если есть где жить, пускай выпишется, чего ж она тут прописана, и так вон сколько народу, когда другие в проходной комнате должны толочься! Возмущенные эти мысли она не таясь высказывала мамыньке, по опыту зная, что ораторствовать перед Максимычем бесполезно: сверкнет черным глазом из-под бровей, как плеткой хлестнет, а отвечать ничего не ответит, будто не слышал. У мамыньки ее тирады тоже находили не много сочувствия, но та, по крайней мере, слушала, хоть и отвечала невпопад. Иными словами, высказаться Надежда могла, да что толку: свекруха и раньше ее не любила, а уж теперь-то, когда жили в тесноте… Она относилась к старухе хорошо, насколько могла, помня, как только что прожитый, день своего внедрения в квартиру, и то, что ей это удалось, привносило известную долю снисходительности к старухиному уму. «От большого ума досталась сума», – с особым удовольствием думала невестка. Что же касается свекра, то она надеялась, в строгом соответствии со своим именем, что старик не заживется: больница за больницей, да и одежда на нем висит, как с чужого плеча.
Задевало ее другое – вернее, уязвляло, и глубже, чем хотелось бы: как они цацкаются с нагульным ребенком, а ее дети будто и не внуки родные?! Ладно, она: невестка всегда невесткой и будет, тут нечего ждать, но дети?… Конечно, любая мать – тигрица, и Надя не была исключением, везде и всегда стараясь добыть вкусный, теплый и увесистый кусок и принести своим тигрятам; точно так же она надеялась урвать у стариков шмат любви и заботы, явно ими недоданные.
Оба «ежика» за эти годы подросли и, хоть остались такими же буками, пора, наверное, назвать их по именам, а так как мать звала их только «Генька» да «Людка», то и все остальные, включая маленькую Лельку, называли их точно так же. Последняя, кстати сказать, неоднократно получала от Надежды нарекания: «Какие они тебе "Генька и Людка", они тебе дядя и тетя», что очень смешило девочку. И «дядя», и «тетя» были крепкими, румяными двоечниками, переходившими из класса в класс благодаря своим спортивным успехам.
Но родственные отношения внуков и правнучки уж, конечно, были известны старикам, в семейной традиции которых было абсолютно закономерно и естественно баловать самых младших. Нельзя сказать, что бок о бок живущие внуки не вызывали у стариков теплых чувств, при всей своей какой-то недетской самодостаточности; казалось, ни дед, ни бабка им не нужны, да и никто не нужен, кроме «мамки». Между тем то у Максимыча, то у Матрены временами щемило сердце, когда смеющаяся внучка, повернув голову, вдруг оказывалась – показывалась – в профиль Андрюшей, с такими же, как у него, крупными рыжеватыми завитками; или внук, который из всех забав выбрал тоже Андрюшину – велосипед, и часами гонял на нем. Входная дверь приоткрывалась, вкатывалось блестящее никелированное колесо и набычившийся круторогий руль, так что оба вздрагивали: сейчас увидят сына, вспотевшего и радостного; но входил, придерживая велосипед за седло, румяный черноглазый подросток. Если старики обращались к внукам, то те вначале быстро и насмешливо переглядывались, словно решая, стоит ли затрудняться ответом, и только затем отвечали; это сбивало с толку деда с бабкой, оставляя странное чувство досады, даже обманутости, и от профиля, и от набычившегося велосипеда; а сердце все равно щемило.
13
Не исключено, что автора упрекнут в неровности повествования: дескать, какие-то периоды жизни стариков описаны слишком поверхностно и кратко, в то время как другие неизвестно почему растянуты, иногда с точностью до дня и мельчайшей детали, закатившийся ли это под шкаф каштан или ложка, в сердцах брошенная на подоконник Надей, лицом и так второстепенным.
Упрек был бы справедливым, будь рассказчик одет в жесткий мундир исторической хроники. Однако выбранный – или угаданный – жанр позволяет увидеть то, что не сковано требованиями исторической достоверности, оставаясь в то же время в рамках описываемого времени. В самом деле, никому же не придет в голову вести раскопки у самого синего моря, чтобы по найденным трухлявым щепкам воссоздать конструкцию разбитого корыта? Да и упреки можно отвести: ведь когда старик и старуха были еще молоды, то есть не были ни стариком, ни старухой, пульс их жизни был сильный и наполненный. Спорилась работа; рождались, вырастали и, увы, умирали дети; бурлил дом со всеми страстями землянки той или иной степени ветхости…
Теперь, когда их жизнь уже состоялась настолько, что они стали пра-стариками, время стало обозначаться другими вехами, и пульс его замедлился. Не только повествователь, но и они сами смогли теперь многое рассмотреть пристальней. Вся картина их жизни более всего похожа на карту, составленную из фрагментов разного масштаба, где какой-то крохотный квадратик вдруг выхватывается лупой и разрастается, позволяя увидеть забытые надписи, лица, имена, а то и ступеньки дома, которого давно уж нет на свете. Лупа передвигается, не ведая, чем является найденная точка: заброшенным населенным пунктом или знаком конца предложения. Следует допустить и то, что какие-то места карты истерлись на сгибах, края надорваны и лохматятся, да и стекло лупы замутилось – должно быть, капля упала, капля дождя.
Время тянулось, и старики жили свою стариковскую жизнь: иногда по отдельности, как старик и старуха, а временами – как старик со старухой; в этой полосе они вспоминали «мирное время», своих маленьких детей, умерших родственников и название улицы, которая всегда звалась Столбовой, а сейчас как-то иначе, ну да Бог с ней: Столбовая и есть Столбовая.
Время тянулось? – Нет, время ползло, хотя Федор Федорович дорого дал бы за то, чтобы оно двигалось как можно быстрее, пролетело бы так, словно его не было совсем, – вот взять этот кусок и вырезать. И не надо винить зятя ни с одной, ни с другой стороны – время навалилось анафемское, средневековое.
Он понял это еще до того, как начал думать о враче для Максимыча. По неписаному медицинскому цеховому уставу Федор Федорович мог обратиться к любому коллеге с вопросом о надежном диагносте, был бы направлен к коллеге этого коллеги, который специализируется как раз по язве желудка, в считанные недели получил бы мнение рентгенологов и по цепочке вышел бы на самого надежного хирурга, если бы «цепочка» склонилась к операции; словом, организовал бы самый настоящий консилиум в честь язвы, о чем ее обладатель, конечно же, и не узнал бы никогда.
Так ведь нет, никакого консилиума не получалось: цепочка рвалась в самых неожиданных и самых необходимых местах. Более того, один из коллег, врач, которому Феденька рассказал по телефону, что старик наблюдался в Еврейской больнице, вдруг провозгласил громко и назидательно, будто по радио выступал, что никакой Еврейской больницы не знает и ему, мол, желает того же. Федор Федорович долго сидел у телефона, растирая ладонью щеку, а на следующий день его телефонный собеседник заглянул в обеденный перерыв к нему в лабораторию и предложил «прогуляться, погодка-то какая».
Погодка и впрямь была на славу, будто календарь перелистать забыли: поредевшая, но яркая листва, безмятежное небо. Федор Федорович, еще не отошедший после вчерашнего, ругал себя, зачем согласился пойти, всегда был мямлей; оба закурили.
– Простите меня за вчерашний реприманд, Федор Федорович, – начал доктор, – но я ведь не самоубийца. Не только что обсуждать – название той больницы произносить по телефону отказываюсь! Что же до вашей просьбы, то ситуация аховая…
Они сидели вдвоем на самой высокой площадке, откуда была видна толстая башня старой крепости, театр и городской канал, и вполголоса говорили об «аховой ситуации», которая касалась не только тестевой язвы, но и ее тоже. Врач не просто подтвердил страшные и мерзкие слухи, ползущие по клинике, но и назвал много имен, которые не следовало упоминать в беседах с малознакомыми людьми, а лучше – ни с кем.
– В Медицинском институте уже было несколько чисток. Университет просто зачумлен; если вы хотите мое мнение, то его можно вообще закрыть – до лучших времен, если таковые наступят. Метут по всем больницам, Федор Федорович, да что я говорю: не метут, а прочесывают частым гребнем. Подождите, подождите: недолго осталось ждать, наша клиника давно под прицелом. Нас с вами не тронут; но с кем прикажете работать, с молодыми, простите за выражение, специалистами?! Так это не те специалисты, а те уже на дальней периферии – в лучшем случае.
Он бросил окурок в урну, расстегнул плащ и снова вынул портсигар.
– Подумайте: ведь ни одного еврея нам не прислали из последнего выпуска, ни одного! А пациентов видели? – Помолчал в негодовании, потом наклонился к Феде и продолжал: – У него флюс, щеку до ключицы раздуло, а он к врачу не идет: боится. Сепсиса не боится, а доктора Берковича боится!.. Вы такое видели? Нуда, вы ведь больше в лаборатории, вы с протезами работаете, а до меня такие откровения из коридора доносятся… Люди стыд потеряли. Признаться, все под Богом ходим; сегодня их прочесывают, а где гарантия, что за нас не возьмутся?
– Кто же работать будет, – хмуро вставил Феденька, – зубы-то надо лечить?
– К цирюльникам пойдут! – запальчиво воскликнул доктор. – В средние века это была прерогатива цирюльников, кровь пускать да зубы рвать.
Их «прогулку» трудно даже было назвать беседой; скорее, пожалуй, это был горький монолог «защищенного национальностью», как он сам выразился, врача, который не мог вступиться за своих собратьев по цеху, такой защиты не имеющих. Заканчивая, он предостерегающе поднял палец: никакой Еврейской больницы, запомните; Третья городская, и никак иначе.
Обобщая, можно сказать, что Федор Федорович узнал то, что уже знал, и теперь нужно было только научиться жить с этим знанием. Да и можно ли было оставаться наивным после всего, что он знал о войне, можно ли было надеяться, что проклятый плакат умер? Проходя по вестибюлю, он никогда, никогда не смотрел на стены, но щеку непроизвольно тер, ибо бессмертность плаката утверждалась самим окаянным временем.
Ёлку Максимыч выбирал на базаре сам, без девочки, и елка оказалась такая пушистая и славная, что хоть куда, так что обидеться Лелька забыла. Освоилась елочка быстро, словно всегда жила здесь, у Иры в комнате. Старик долго возился с какими-то банками, взбалтывая, переливая и смешивая, но правнучке ничего не говорил. А на следующее утро елка оказалась волшебно разряженной: на ней висели сосновые и еловые шишки, да не простые, а золотые; вернее, половина светилась тусклым серебром, половина золотом. Максимыч, выравнивая кончики усов, охотно подтвердил, что эти диковинные шишки выросли за ночь, а то как же. Матрена послушала-послушала, сказала «тьфуй» и велела отправляться гулять.
Какая ни есть, а все же елочка, думал старик, оттирая скипидаром пальцы; вот пойдет к Тоне, там диво, так диво; а и дома пускай порадуется.
Оставшись одна, мамынька с кряхтеньем вытащила из-под шкафа объемную жестяную коробку от печенья «Бон-Бон», намного пережившую самое фабрику, смахнула пыль и аккуратно сняла крышку.
Можно сразу поручиться, что если бы в квартиру забрались воры и «обчистили», чего старуха боялась больше всего на свете и поэтому давно переправила к Тоне весь свой не только золотой, но и серебряный фонд, так вот, если бы воры посягнули на эту коробку, то с негодованием выкинули бы ее со всем содержимым в ближайшую помойку. Только для мамыньки невзрачная жестянка содержала нечто ценное.
Что же? Сейчас станет видно, хоть это отнюдь не означает, что станет понятно. Итак, крышка снята, и прямо в перевернутую ее прямоугольную емкость мамынькины пухлые руки вынули и положили половинку свадебной тиары, вернее, ее скелетик; однако нужно быть поистине матримониальным Кювье, чтобы угадать трогательные цветки флердоранжа в нескольких измятых лоскутках. Чья это была тиара, неужели старухина? Неужели здесь и хранилась символическая завязь тех тугих апельсинов, когда-то, еще на Тониной свадьбе, разгаданных стариком? Но, может быть, старуха берегла дочкин флердоранж? Едва ли: слишком ветхий, да и старомодный.
Сейчас таких нет, сама себе говорила Матрена, бережно разворачивая, а потом вновь складывая убедительного размера dessous, некогда ослепительной белизны, а теперь цвета густых сливок. Пока она держала dessousраспяленными, можно было успеть заметить сложную застежку на окаменевших пуговицах, швы исключительной добротности и две торчащие накрахмаленные дыни, отделанные кружевами, которых сейчас тоже днем с огнем не сыщешь, это уж будьте благонадежны. Кое-где на полотне – ибо этот материал невозможно оскорбить словом «ткань» – видны пятнышки ржавчины, словно веснушки. Не оставляет сомнений, кстати, что придумавший бессмертную фразу про пифагоровы штаны явно видывал такие доспехи на бельевой веревке, застывшие от крахмала и морозного ветра.
Следом она достала маленький кошелек, почти игрушечный в своей миниатюрности. От времени и безукоризненной службы замша приобрела мягкость фланели, но кнопочка не заржавела, и вообще он молодцом.
Две крестильные сорочки неправдоподобно маленького размера; ведь если правнучка уже переросла стол, под который пешком ходила, то легко представить, как глаза и руки забывают крохотность новорожденных, – до следующего младенца. Вот эта – Лари, светлого сыночка Иллариона; а эта – Лизочки, красавицы моей, Царствие им Небесное. Старуха начинает считать, сколько лет было бы им сейчас, и благоговейно откладывает легкий, как перышко, батист.
Уже совсем близко дно, и под пальцами перекатываются бусины морковного цвета: то бывшее коралловое ожерелье, которое Матрена собиралась перенизать, да как-то руки не дошли. Вот еще один запасной воротничок к мужниной рубашке и даже запонки к нему, словно два обойных гвоздика легли валетом. Совершенно ни к чему напоминать, что сейчас таких нет, да и понятия такого нет: «запонка для воротничка».
Для чего-то хранились носовые платки, изношенные до марлевого состояния, но и выбросить их было невозможно. Две катушки с нитками настолько тонкими, что они казались нарисованными, и снова бусины.
Фотографическая карточка, снятая на тридцатилетие их свадьбы, сохранилась очень хорошо. Старуха внимательно вглядывалась в лица тех, чьи имена уже были вписаны в ее поминальный листок; потом в живых. Вот брат Мефодий с густыми, пушистыми усами, но почему-то без воротничка – снял, должно быть; Акулина, младшая сестра, сидит между Павой и стариком, а сам он сердитый, будто тоже воротник тесный. Она даже рассмотрела на левой руке у мужа кольцо, которое подарила ему, кольцо-печатку с черным агатом, да он как снял его, так и не носил больше. Долго смотрела на себя, уже оплывающую, но с гладким, совсем не старым лицом, в любимом платье бежевого шелка, и эту цепку на шее, что сейчас у Тони, тоже очень любила. Дети, все пятеро, во втором ряду, а Тайка здесь меньше, чем Лелька сейчас, Матерь Божия!..
Она отложила карточку лицом вниз, чтобы не отвлекаться, и развернула маленький тугой рулончик розоватых ассигнаций, все по двадцать пять рублей. Это ж какие деньги были, фунт сметаны три копейки стоил! Мамынька вспомнила, как муж доставал из кармана толстую пачку, добросовестно плевал на пальцы и принимался считать, а потом, махнув рукой, скидывал сапоги и шел, чуть покачиваясь, отсыпаться – и от заказа, и от трактира. Она же, пересчитав деньги, скручивала их в такой вот рулончик и засовывала Ирочке в чулок, наказывая нигде, Боже сохрани, не задерживаться: прямо в банк и обратно, одна нога здесь, другая там, что дочка исправно и выполняла, а уж в банке управляющий ее знал, не извольте беспокоиться. Хорошо жили, слава тебе, Господи, это ж мирное время было, благодать…
Разгладила розовато-зеленые ассигнации и еще раз посмотрела на Александра Второго. А у нашего-то Мефодия усы попышней… и отложила; дальше, дальше.
То, что старуха искала, лежало на самом дне, завернутое в ломкую, тусклую бумагу, рядом с профсоюзным билетом зятя, который Феденьке выдали когда-то в филиале ада – или в самом аду, как угодно.
Разумеется, здесь перечислены не все старухины реликвии, а лишь те, которые она брала в руки и держала какое-то время; что-то брякало на самом дне, а кое-что достаточно было отодвинуть «в сторонку», как говорили в семье. Напрашивается вопрос: почему столь явно дорогие сердцу вещи хранились не в шкафу, не в комоде, не в буфете, наконец, а в жестянке от печенья, пусть и «Бон-Бон», да еще под шкафом, в пыли?
Строго говоря, пыли на коробке было немного: очевидно, Матрена частенько кряхтела, чтобы прикоснуться к своим сокровищам. В комоде же она своих вещей не держала по той простой причине, что отдала комод в распоряжение невестки Нади, как только та водворилась: ведь никакой мебели у нее с собой не было, да и комод, если быть точными, старик когда-то делал для молодоженов, к Андриной свадьбе. Буфет – опять-таки с тех пор, как Надя вселилась, – уже не принадлежал полностью старухе; оставался шкаф, или, как называла его по старинке мамынька, «шкап».
Шкаф стоял в Ириной комнате, и его бездонной емкости вполне хватало, чтобы вмещать более чем скромный гардероб хозяйки, старика и старухи, не говоря уж о пустяковых Лелькиных платьицах, которых было раз-два и обчелся. Пару раз, однако же, мамынька заметила Геньку, осторожно закрывающего левую дверцу, и остолбенела. Ну, домыслить несложно: свой подзатыльник он получил, и громкая Надькина божба, что ничего не пропало, во внимание принята не была. Что там искал этот проныра, бесстыжие глаза, одному Богу ведомо; вот коробка и пригодилась. Чтоб какой-то сопляк, хоть и внук родной, руками лапал… не-е-ет. А под шкаф и залезть трудней, и заманчивости нету никакой – не на замке.
…Было уже темно, когда пришла Ира. Принесла маленькие, как черешни, райские яблочки и стала учить внучку завязывать петельку из нитки и вешать краснощекие плоды на елку. Где-то нашлись и цепкие подсвечники, которые защемляли еловую ветку и держали свечки образцово прямо. Таких невероятных достижений прогресса, как электрическая гирлянда из разноцветных лампочек, здесь еще не знали. Нашлось у бабушки Иры и немного ваты для снежных хлопьев, отчего в комнате стало светлей и прохладней, и все остановились на минуту, неотрывно глядя на елку и думая о чем-то праздничном. Тогда-то старуха и развернула ломкую хрустящую бумагу.
Это был ангел. Он сверкал, весь покрытый блестящей твердой изморозью; крылья за спиной были полуразвернуты, словно ангел поднял плечи, а опустить забыл. Одеяние из кисеи, настолько пышной, что оно с легкостью скрыло верхушку елки, тоже было украшено блестками, и чудом было то, что за все годы блестки почти не пострадали. Лицо… лицо было и радостным, и печальным одновременно, да каким еще могло быть лицо у ангела?!
Если бы девочка отвела взгляд от этого чуда, она бы увидела, что Ира вытирает слезы, Максимыч потрясенно смотрит на жену, а сама Матрена ни на кого не смотрит, кроме ангела, и лицо у нее торжественное. Что ж: завтра канун Нового года, хоть и по новому – Бог с ними – стилю.
Новый год никогда не был в доме значительным праздником, он только сопутствовал Рождеству Христову, и елка тоже называлась Рождественской. Точно так же в первую очередь праздновались именины, то есть дни ангела членов семьи, и к этому прилагались более скромные торжества: дни рождения. С течением времени последняя традиция все больше нравилась женщинам: день ангела – и к месту, но вызывала протест у детей, ревниво подгонявших время своей жизни. Нельзя забывать и то, что в советской школе устраивалась елка именно новогодняя, где никто не заикался о Рождестве – ни учителя, ни ученики. Наверное, поэтому само слово «елка» со временем утратило оба определения, то есть перестала называться как рождественской, так и новогодней. Было ясно, что словом «ель» обозначается дерево, а словом «елка» – то же самое дерево, только срубленное и в мишуре, свечках и бенгальских огнях, этой пародии на северное сияние.
Что же касается приоритета дня рождения или именин, то на стороне детей оказался поэт, приветствовавший как раз «ребенка милого рожденье», а не именины, что логично: не будь дитя рождено и одарено именем, то и ангел-хранитель не был бы откомандирован небесной канцелярией, а поэт еще когда вступился!..
Итак, Новый год особо не отмечали. Правда, между Рождеством и Крещением обычно собирались, чтобы встретить Старый Новый год: немного снисходительно, посмеиваясь, словно делая какую-то уступку традиции. В мирное время собирались, конечно, у мамыньки; после войны, несмотря на то, что время dejureбыло вроде мирное, признать его таковым defactoстаруха отказывалась. Кроме того, у Тони было и свободней, и сытней.
Собрались в этот раз не все: не было Тайки, Нади с детьми и – совсем уж непонятно – не пришел Симочка.
Зато елка, рождественская и новогодняя в одном лице, была наряжена на славу! Щедро и сухо струился серебряный дождик, переливались зеркальные шары, висели бахромчатые конфеты, более красивые, чем вкусные, и заиндевевшие сосульки, которые не таяли, а под нижними ветками притаился, как диверсант, игрушечный Дед Мороз в красном тулупе и с многообещающим мешком за спиной. Верхушку елки, которая, понятно, упиралась в потолок, украшало нечто блестящее, похожее на светофор. Ангела не было; да какой ангел мог бы осенить зловещее тринадцатое января 1953 года, день «Правительственного сообщения» о врачах-вредителях?!
Что собрались именно здесь, у Тони, было не только правильно, но и просто необходимо. Старики слышали все, что целый день исторгал из себя репродуктор в Надиной комнате; Ира с Мотей и Федор Федорович прослушали «Сообщение» на работе, а радио продолжало извергать жуткие слова, которые только Феденька мог бы разъяснить.
Зять пришел самым последним, ибо уйти с принудительного стихийно-добровольного митинга было невозможно. Первое, что он сделал – это выдернул шнур из розетки, и чеканный обличительный голос смолк – в одной, отдельно взятой квартире. Он вымыл руки – провод еще покачивался укоризненно – и вернулся в столовую. Отогнул манжеты, налил себе рюмку кагору, но не выпил, а сидел и тер щеку. Замерз, догадалась старуха; крещенский мороз не шутка. Лицо у Феди было усталое, и она впервые увидела, что он не молод, а под глазами оплыли воспаленные мешки.
– Ты мне скажи, – она требовательно повернулась к зятю, – это что же за бздуры такие, кто кого там был отравивши?
Федор Федорович посмотрел на детей, улегшихся прямо на паркет перед елкой, твердо встретил тревожные взгляды и произнес:
– С Новым годом!
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































