Текст книги "Жили-были старик со старухой"
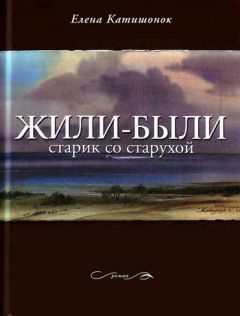
Автор книги: Эмиль Брагинский
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
– Кто ей шьет, неужели мать?…
– Зависит, сколько до этой работы ехать. Если по часу, так мне и денег этих не надо…
– Какая ты большая выросла, скоро в школу пойдешь!..
– Из селедки все кости вынешь, порубишь меленько…
– Сабинка, проше пани, как мою матку…
– Вот получит аттестат зрелости…
– Не, млека немае, нету…
– Я сказала: или – или, сколько можно на двух стульях…
– А он?…
– …в танке горел! Мы за Сталина жизнь отдавали!..
– Бывало, дашь дворнику гривенник, так потом…
– Потом яйцо крутое покроши, и опять майонез, но лучше…
– Лучше бы, может, по докторской части, ввиду того…
– Он сразу: «Что ты имеешь в виду?»…
– А ты?…
– Ты мне налей красненького, во-о-он того…
– Он «того», я тебе говорю, думает, на дуру напал…
– Ма-а-ам, а ты не уйдешь?…
– Чья это такая цыганочка? Тебе сколько лет?…
– Сколько лет, сколько зим, Камита Александровна, Христос Воскресе!..
– Когда все сложишь, вот так руками немножко помнешь…
– Осторожно, детка, ты мне помнешь платье новое…
– Это еще в мирное время было, когда приносили домой…
– Домой приходят, и по музыке, и по рисованию, а как же иначе?…
– Иначе, говорю, ты даже дорогу сюда забудь…
– А он?…
– Не забудь: желтки отдельно, белки отдельно…
– Отдельно, конечно. Пианино всегда в понедельник и в среду.
– В среду, на Страстной, мне во снях такое…
– Что такое там, на овальном блюде, во-он… Да!..
– Да я… Я хоть сейчас за Сталина драться готов!..
– И готов! Как вскипит, сразу поставь в холодное…
– Ты холодное не пробовала? Объедение!..
– Ма-а-м, ты не уйдешь с тетей, ма-а-ам, ты не…
– На третьем курсе, а в летнее время…
– А сколько время?…
Лето, пыльное, горячее и веселое, наступило быстро – как на велосипеде въехало – и громко звенело по городу. Максимыч намекнул правнучке, что сначала можно на речку, а потом в парк, но старуха и слышать об этом не хотела. Нет, и к месту.
Она была крепко не в духе, но если бы спросили почему, то разгневалась бы не на шутку, ибо и сама причины не знала. Даже молилась с напряженной бровью, что уже ни в какие ворота. Лельку, которая ходила за ней по пятам, чтобы послушать про «бывало», сурово отослала в комнату и велела собираться в баню. Девочка обреченно притихла: баня с бабушкой Матреной была испытанием на стойкость. Духота; все неприличные, потому что совсем голые, даже продавщица из хлебного магазина; вода нестерпимо горячая, и как ни жмурься, в глаза попадет мыло. Баба Матрена будет ругаться, что она плачет, а она не плачет, это из-за мыла слезы текут. Потом водой окатят и понесут вытираться. Тут не передохнешь: бабушка закрутит в пушистую простыню так, что трудно будет дышать. О том, как будут расчесывать волосы, лучше не думать.
Матрена яростно выдергивала из крахмальных стопок нужное, с досадой убеждалась, что вытащила не то, а «то» – в самом низу, и гневалась еще сильнее. Ос-с-поди, Исусе Христе, что же это делается?…
Все, что ни делалось, делалось, по мнению мамыньки, не так. Все жили неправильно и не только не слушались доброго совета (понятно чьего), но упорствовали в своем «не так». Уж на что Тонечка: всегда на ней сердце с отрадой успокаивалось, а поди ж ты – выкамаривает с детям сама не знает что. Ты научи девку, что сама умеешь, она тебе потом спасибо скажет; ей школу кончить – и замуж, на кой эта музыка?! И Юраше мозги спортили: нет, чтобы Федя к зубному делу парня привадил – и чисто, и благородно, и копейку считать не прискучит. Так нет: мало того что десять лет в школе сох, его в институт пихают – говорят, еще на пять лет волынка.
Ирка тоже хороша: то в молчанку играет, то платок завяжет и лежит – голова болит. А у кого не болит? В запальчивости риторического вопроса старуха упустила, что как раз она головной боли не знала. Кому бы помолчать, так это Надьке: как в двери, так и затрещит, так и закудахчет. Под воскресенье волоса закрутит, напудрится – и к сестре. Замуж ей надо; и сама еще хоть куда, и Геньке твердая рука нужна. Только не так все просто: вернется под вечер туча тучей, даже не трещит, туфли на каблуках так в угол шваркнет, что ясно – очередь не стоит ни за ней, ни за сестрой. Може, и стояли бы, да на войне остались, а кто вернулся, того не надо – вон ползают около базара, покромсаны, что короли да валеты, христарадничают…
Она с сердцем выдернула детский сарафанчик, переложила на стул. Да… Про Симочку думать было особенно больно, но не думать не получалось. Дармоедом живет, и хоть бы хны! Не сватался, не женился, а уж третий народился. Так все и записаны на маткину фамилию. Чем ему Валька плоха? Да если плоха, спохватилась старуха, что ж детей-то на свет пускать? Та тоже хороша: «Уеду, уеду, Польска, Поль-ска», однако дальше раковины – кровищу смыть – не едет, да Симочка и не пускает, все ее бумаги спрятавши. В кого, Господи?! Стыд, стыд-то какой!..
Вытащила махровую простыню для ребенка, льняную для себя: привычка. Так, теперь что? – исподнее и чулки.
На Мотю посмотреть. А что Мотя? Вроде все есть, живут как люди, дети здоровы, слава Богу, дом – что картинка, сад-огород, только радости в глазах нету. А откуда ей взяться? – Пава так и честит его, даже детей не стесняется. За что? – чистосердечно не понимала старуха, ведь домой вернулся, из дому ни шагу; за что?!
Мочалка большая, мочалка маленькая, мыло; расческу не забыть. Она выволокла из-под кровати овальную цинковую ванночку и большой эмалированный таз для себя: общие шайки – Боже сохрани.
Этот простофиля… чего удумал: ребенка на рыбалку тащить, унеси ты мое горе! Мамынька смутно догадывалась, что грехи детей, подлинные и вымышленные, в натуральную величину или несколько раздутые, стали привычны, как утренняя боль в пояснице, тогда как своеволие мужа настораживало, ибо к такому она не была готова. Не то чтоб он поперек говорил – до этого, слава Богу, не дошло, разве он смеет? – а только мамынька знала, что если не говорит поперек, так не потому, что не смеет, а просто не слушает ее, и от этого раздражалась пуще. Вот как сегодня: сказано, чтоб и думать забыл про свои бздуры, а он стоит с удочками, усы скубает и – ей-Богу! – улыбается. Передается мысль, передается.
Старуха остервенело упихала в полотняную торбу всю банную снасть и недовольным голосом позвала девочку:
– Я что, целый день тебя поджидать буду?
Хоть мысли и передаются, раздражение и недобрая досада жены не догнали Максимыча. Он сидел на берегу речки, удовлетворенно покручивая усы. Пару раз леска уже многообещающе натягивалась, и старик оставался на месте, хотя ныла спина, и надо бы походить, размять.
Старик много раз представлял себе, как внук открывает ящик и достает Фридрихов ножик. Вряд, чтоб у кого из парней другой такой был. Про тот крючок, что в рукоятке, он так Левочке и не рассказал, все отговаривался: подрастешь маленько, тогда. А сейчас внук кончает свое училище, и как домой приедет, так скажу: сам нипочем не догадается.
Мысли перескочили на Фридриха. Вот с кем больше не свидеться. Максимыч ругал себя, как мало знал о нем, мало расспрашивал. Откуда он – Германия тоже большая? Так и застряло в голове: «фатерлянд», даже голос Фридриха услышал. С какой семьи? Сам немец никогда не рассказывал; може, сирота? Одно знал: ни жены, ни невесты у Фридриха в «фатерлянде» не осталось, но старику было любопытно, каким он был в детстве. Человек начинается в ребенке. Улыбнулся, подумав о правнучке. Вся в Иру, матка там и не ночевала. Тоже из кротких, словно шепнул кто-то. Он полез за папиросой.
Сколько ни старался, не мог вообразить Фридриха мальчиком, зато осязаемо почувствовал теплую пыль под собственными босыми ногами: вспомнил, как бежал навстречу отцу, скачущему на коне, и храп осаживаемой лошади, а остаток пути к дому – с отцом, сидя впереди него на непривычной высоте, когда лиц других ребятишек уже не видно, а только макушки. Вспомнил отцову фуражку с красным околышем, которую всегда старался надеть таким же ловким движением, как он, а фуражка неизменно наползала на уши, норовя скрыть весь белый свет. Мать, выбежавшая на крыльцо, тревожно ощупывает глазами не мужа, а сына, и отец, должно быть, хмурится, но Гришка этого не видит. Он глядит на мать и немного стыдится ее маленькой, худенькой фигуры: точно девчонка, и не скажешь, что уже четверых родила; другие казачки вон какие дородные. Он знал, что был у матери любимцем – вот как Симочка у бабы. Усмехнулся. Опять вернувшись в тот летний полдень, увидел отца в доме, с влажными после умывания волосами на лбу. Все уже за столом, и он, перекрестившись, режет хлеб щедрыми ароматными ломтями, а потом первым погружает ложку в щи.
Клюнуло!.. Отбросив окурок, начал осторожно тянуть. Не зря ждал, выходит. Ну, ну… вот он, родимый, губастень-кий мой! Чисто конь казацкий. Налим отчаянно извивался, и в лепке головы действительно было что-то лошадиное. Вспомнилось отцовское присловье: «без коня казак хоть плачь сирота».
Старик легко опустил налима в бидон. Теперь можно и разговеться, тихонько сказал сам себе, вытащил из кармана початую бутылку с водкой и сделал аккуратный глоток. Потянув за цепочку, достал часы и начал собираться домой. Связывая удочки, представил себе, как поставит бидон… Куда, на стол или на буфет? – лучше на буфет. А потом можно и в баню сходить, попариться… Про баню вспомнил, а Лелькино ведерко – для золотой рыбки – чуть не оставил, Мать Честная!
Вот это и есть старость, вдруг догадался он, одолев подъем на Кленовую улицу, которая и вправду была засажена по обе стороны выпуклого булыжника кленами. Нет, не то, что стало трудно подыматься или тянет прилечь, а что сам себя дитем видишь, да так ясно, будто в книжке картинки разглядываешь. Хотя таких ярких картинок в книжках не бывает. Старость – это когда детство ближе, чем минувший день. Тут ведь что вчера, что завтра – один в один, как солдаты. Вот внук появится: скорей бы, давно не виделись; да не забыть про крючок. Мамынька костит-чихвостит всех до одного, а на кой?… Да скучно ей. Малолетство на память еще не приходит, вот и лается по-пустому.
Старик безнадежно взмахнул рукой, зацепив удочкой картуз. Остановился, поправил; вошел в прохладный сумрак парадного. Доживать надо, и чтоб в душе спокой был, а как это растолковать – Бог весть.
Вот неделя, другая проходит, а Левочки все нет как нет. Надеялись встретить в июне, а приехал он только к Спасу, уже август шел к концу. Задержался в связи с распределением, да и приехал всего на месяц: ждала служба в далеком Севастополе, а у молодых военных не бывает долгих отпусков. Мать, неистово ждавшая его приезда со дня на день, была и обрадована, и растеряна. Новенькая летчицкая форма поразила воображение не только племянницы, но и соседей, которые встречались на лестнице и почтительно отступали к перилам, от чего Лева конфузился, как девочка.
Максимыч тихо ликовал, глядя на внука. Старуха не отходила от плиты, что в августе было нелегко, но переубедить ее было невозможно: ребенок все на казенном да на казенном, должен домашнего поисть. Взрослый… какое там «взрослый», Ос-споди, совсем мальчик! – так вот, взрослый внук поглощал бабкины пироги за милую душу и улыбался, глядя в ее разгоряченное радостное лицо. Он многозначительно переглядывался с дедом: не оттого, что хотел сказать ему что-то важное, а пряча за мнимой многозначительностью отсутствие нужных слов, как всегда бывает между любящими и близкими людьми, долго бывшими в разлуке.
Разговора с сестрой, забежавшей, по обыкновению, ненадолго, не получилось. Тайка окинула брата насмешливым взглядом и послала почему-то воздушный поцелуй, сопроводив фальшиво спетой фразой:
Нам разум дал стальные руки-крылья,
А вместо сердца – пламенный мотор!..
В ее голосе была какая-то уязвленность, отчего не только Левочке, но и всем стало неловко. Может быть, оттого, что впервые дочка не выбежала ей навстречу, а снова и снова примеряла перед зеркалом новенькую дядину фуражку и так была поглощена этим занятием, что не заметила ее появления?
Глядя на заразительно жующего внука, Максимыч тоже поел, хоть и через силу, и теперь старался подавить накатившую дурноту.
– Ну, – спросил он, как будто и не расставались, – когда на рыбалку пойдем?
– Да когда хочешь, – внук с готовностью поднял голову, – хоть завтра! Дед, а чего ты такой худой?
– Исть не хочет, чимурит, – пожаловалась внуку старуха. – Пару ложек, вот и вся еда.
– А сколько мне надо? Я старый уже. Да и живот полный – не лезет больше, ремень чуть сходится.
– Дед, а давай лучше послезавтра? Тогда и дядю Федю с Юрашей позовем, а? Давно я не рыбачил!..
Поев, Левочка засобирался к крестным, хотя что там было собираться – он даже чемодан не распаковывал. Честно говоря, уходить было жалко, но у них просторней и, главное, привычней. Интересно, куда Юрашка поступает?…
Ехать – от силы полчаса на трамвае, но так не хотелось расставаться, что все тоже засобирались его проводить. Кроме сестры, впрочем: она ушла так же неожиданно и быстро, как и появилась.
На трамвайной остановке Матрена недовольным голосом провозгласила:
– Ишь, чисто табор цыганский.
Муж в который раз подивился: ну баба! Ведь такая радая, такая радая, а голос, будто ее в лавке обсчитали.
В трамвае, куда сели, конечно же, всем «табором», его снова затошнило от тряски. Лелька, глядя на дядю завороженными глазами, обдумывала, как попроситься к нему на самолет, старуха торжественно обещала пироги с яблоками: «Вот как Спас пройдет»; слава Богу, приехали.
У Тони сразу началась суматоха. Она кинулась накрывать на стол, а мамынька громко обижалась: «Он только от стола!» Дочь еще громче возражает, что не видела крестника три года; шутка, что ли, так теперь и чаю не попить?! Таточке велено было что-нибудь сыграть для двоюродного брата, и она смутилась до слез, однако села и послушно заиграла, но тут выяснилось, что тот не слушает, а разговаривает с Юрашей в кабинете, где, кстати, ставят уже его старую – еще с мирного времени, сейчас таких не делают – раскладушку. Тоня мечет на стол разные лакомства и одновременно готовит ванну для племянника. Хорошо, что Федор Федорович отвлек Ирину разговором: не нужно ей видеть этот покровительственный взгляд сестры; скорее всего, она и не видела.
Левочка садится рядом с Юрашей и улыбается всем сразу, а улыбка у него совершенно чудесная и ямочки на щеках. Он очень похож на мать округлостью лица и этой молчаливой улыбчивостью. День и ночь – парень и девка, дивится Максимыч. В одной семье выросли, Мать Честная! Отодвигает рюмку и чашку, тихонько отодвигает, чтобы Тоня не обиделась. Тошно сегодня что-то; видать, переел. Целый день он ждал оказии, чтобы поговорить с внуком о ножике – есть там секрет один; но не получалось. Теперь уж на рыбалке поговорим.
В среду, на следующий день, праздновали Спас. Несмотря на вторую смену, Ира решила поехать на работу с утра, похлопотать об отпуске, ведь сын приехал. Мать, собираясь в моленную и закалывая булавкой шелковый платок, уверенно сказала:
– Дадут! Не смеют не дать.
Покосилась на спящего Максимыча. Левая рука его лежала под головой, а правая на валике, непривычно худая и бескровная, так что крепкие квадратные ногти, казалось, были ей велики. И правда, совсем сдохлый стал, встревожилась она и решила не будить: пусть поспит, завтра на рыбалку вставать чуть свет. Должно быть, Ира подумала о том же и взяла внучку с собой.
Старик проснулся от солнечного луча. Не сумев разбудить Максимыча сразу, тот дотянулся до зеркала и уперся в шлифованный край лукавого стекла, заразился этим лукавством и перекинул шаловливую радугу на лоб и глаза, отчего веки задрожали и открылись, чтобы сразу же сощуриться, а лучик запрыгал на усах, и старик улыбнулся. «Ты зачем меня щекочешь, Лелька, – негромко сказал он и повернул голову к окну, – Лелька?…» Все проспал, одним словом сказать.
Никого дома не было. Преображение Господне, Спас, вспомнил старик; все в моленной. На столе из-под салфетки был виден край тарелки – для него. Он даже не приоткрыл: от запаха еды может вернуться вчерашняя муть. После умывания встал на молитву.
Молился долго, осеняя себя точными, скупыми крестами и низко кланяясь, потом застывал, сложив руки замком. Ничего не было слышно, кроме шелеста отдельных слов, хоть губы двигались, а взгляда он не отрывал от Той, кому посылал страстную мольбу. Всю жизнь он прибегал к Ней, единственной заступнице, в минуты горя, восторга, тоски, досады, ликования, растерянности, торжества, унижения, гнева, смирения и отрады, потому так часто от сердца к устам летели слова: Мать Честная, Царица Небесная!.. О чем он молил Ее? Чего просил в это августовское утро Святого Преображения?
Он так пытливо и просительно вглядывался в светлый лик, что сам себе напоминал написанного на иконе коленопреклоненного грешника. Богородица же, Мать Честная, наклонив с пониманием голову к плечу, смотрела не на того, нет! – на него, Максимыча, но смотрела с печальным сомнением: ох, не знаю, Гриша, словно и вправду не знала. А може, и не знает, внезапно догадался старик, ведь вот свое дите держит, а про Него… знает ли? Старик давно отошел от канонического текста молитвы и, по-прежнему стоя прямо, со сложенными на животе руками, горько жаловался на что-то и смиренно просил: силы, дай мне силы, Мать Честная, просил настойчиво, какребенокуматери. Разговор перешел на жену, и торопясь, обгоняя собственный шепот, старик оправдывался – и снова просил, теперь уже снисхождения. Ты не смотри, что она костопыжится, она добрая, просто нрав такой… как у полицейского. Вот она к Симочке что ни день бегает, думает, я не знаю, Мать Честная! Что Симочка – ей ребят жалко; да и Вальке легче. Ты не смотри, что дома она высмеивает Вальку: она жалеючи; Мать Честная, помоги! Кого ж просить, как не Тебя?…
Молился – и молил – о детях, о внуках, но о кротких ли паче гордых или наоборот, не слышно было, да и кому слушать-то? Разве зеркалу? Грешное стекло не отражало, слава Богу, святых ликов, но стоящего в профиль старика, со сложенными в замок руками, чуть задранной бородкой и усами, ни разу сегодня не приглаженными, – это лукавое стекло увидело и запомнило навсегда.
Ни души не было в квартире, однако Максимыч так и не поднял голоса, только шепот шелестел неразборчиво. Известно ведь: чем тише и смиренней молитва, тем скорее она будет услышана.
16
Весь день получился ленивый. Иногда старик дремал, и ему виделось, как они с внуком пойдут на рыбалку, и зять с Юрашей. Вернее, все будет не так: сам-то он с Федей пойдет, а мальцы впереди. Да так и надо, они ж соскучились; пусть. А сесть поближе к Левочке и так, в разговоре, спохватиться: я сегодня ножик не взял; у тебя с собой? Ну и сказать…
Уже темнело, когда старуха позвала пить чай, но Максимыч был такой вялый, что даже лукавить не пришлось. Так и спит не евши? А завтра чуть свет… Однако тревожить не решилась.
Он спал и удивлялся во сне: знал, что внук уже приехал, а ведь только что посылку ему отправил, как раз с почты идет. Впереди мелькнул знакомый платок, и Максимыч торопится, обгоняет людей; так и есть – та самая цыганка. Она тоже узнала его, кивает и манит за собой. Старик удивляется, но идет. Вот они оказываются на Песках, идут по Калужской улице, а идти все трудней: ноги вязнут в рыхлом песке. Он уже не удивляется, что цыганка уверенно заходит в их старый дом; просто идет следом. Женщина садится за стол, почему-то спиной к нему, и вынимает карты, ловко щелкнув колодой, будто веер раскрыла. «Я тебе погадаю», – говорит, и карты мягко шаркают по столу. Цыганка резко выдергивает несколько, и платок у нее развязывается. Она поворачивается – и он видит мать. Оторопев от радости, хочет спросить, когда и как они померли, но застывает: раз мамаша живая, то и отец, должно быть, жив, она ж молодая совсем. Бросается подымать упавший платок, но мать его останавливает и показывает карты: они все – чистые. Пустые.
«Чуть свет» – это было сильно сказано, конечно. Левочка прибежал в восьмом часу, один: Юраша сидит, зубрит, а дяде Феде сегодня на работу.
Мамынька провела увлекательнейшее утро: старик поделился своим сном, и теперь она, имея такой богатый материал, вслух примеряла все сочетания и знаки, которые должны были лечь в основу наиболее гармоничного пасьянса.
– Цыган всегда хорошо видеть, – звучал ее высокий, уверенный голос. – Вот мне, бывало, во снях сколько раз то цыган приснится, то цыганка – так все к прибыли.
Муж не стал интересоваться, о какой прибыли она говорит, только ус подергал, чтоб улыбки не было видно. Матрена азартно продолжала:
– Мать увидеть – счастье тебе будет. – Задумалась: – Постой; это когда живую. А если померши?… Знала я, да сейчас на ум не приходит. Надо у Тоньки спросить. Вот про карты знаю, но если играть. А что ж такое, когда тебе гадают, да еще родная матка-покойница? Только, если пустые, так може, это и не карты были?
– Карты. Целая колода, я и рубашки видел.
– Что ж такое, что пустые выпали? Дай спокой, не скубай ты усы Христа ради!
Внук, терпеливо слушавший старухины гипотезы, быстро соскучился:
– Дед, а у тебя удочка найдется?
– А то! Вон, я у дверей поставил, и мне, и тебе.
– Ты смотри там, – значительно наказывала внуку старуха, – дед вчера совсем расквасивши был; долго не сидите. Мне к Тоне надо, у ней книжка есть…
Вставая из-за стола, Максимыч поперхнулся, но вместо того, чтобы сказать свое обыкновенное «Мать Честная!», бросился к раковине.
– Подавился, Ос-с-споди. Дай я тебя по спине стукну! Но в раковине старуха увидела кровь.
Внук беспомощно сжимал в руке удочку. В училище бы сразу санчасть вызвали, а тут…
– Сынок, – закричала Матрена, – бежи скорей в аптеку, скажи, что коркой подавился, пусть позвонят, скоренько!
Левочка помнил этого аптекаря всю жизнь: толстые седые волосы зачесаны набок и чем-то густо пропитаны, а лицо такое красное, словно пемзой тер. Аптекарь посмотрел куда-то поверх его уха, выслушал и поднял трубку, повернувшись к Леве в профиль. Узнав адрес и ожидая ответа, спросил вполголоса: «Мастеру Иванову внук будете?…», но тут же вернулся к трубке и строго произнес: «Горловое кровотечение»… И опять к Левочке:
– Вы идите, сейчас «скорая помощь» приедет. Осторожно в дверях, – но Левочка не понял почему, он уже мчался обратно. С ним поеду, не хочу, чтоб один.
«Скорая помощь» оказалась очень скорой, и два дядьки привязали Максимыча к носилкам. Бабка кричала, что корка острая попалась, «може, протолкнуть надо, я по спине хотела постучать…» Бородка была в крови, и ему подставили под щеку кривую ванночку. Чтобы вырвало, догадался внук. Ира кинулась было следом, но санитар посмотрел хмуро: «Не надо, мамаша. Вон парень пусть поедет», и начали спускаться.
– Придерживай, парень, голову, чтоб не задохнулся, да не так: чуть набок и выше; нуда. Не разговаривай, нельзя ему.
Ехали быстро; миновали дедову больницу. Левочка удивился, но спросить было неловко. Вихрем проскочили центр и покатили через мост. Мокрым полотенцем, которое сунула в руку бабка, он осторожно вытер кровь с бороды, и Максимыч улыбнулся. Дед поглядел куда-то вбок над его головой и подмигнул, но Лева ничего не понял. Старик закашлялся, санитары осторожно приподняли его с двух сторон и посадили.
«Скорая помощь» сделала плавную дугу и остановилась, обрезав надпись: «…лезная больница». «Полезная»? «Железная»? Его подтолкнули:
– Парень, ты первый выходи, да в дверях осторожно.
Но он уже спрыгнул на тротуар прямо перед застекленной дверью: «Городская туберкулезная больница. Приемный покой». Деда ловко пересадили в кресло на колесиках и тут же укатили за дверь с матовым стеклом; Леву туда не пустили.
Из другой двери появилась пожилая врачиха и начала задавать вопросы про деда. Фамилия, имя, отчество? Национальность? Адрес? Год рождения? Он запнулся, припоминая, но точно вспомнить не смог. Пока докторша записывала его ответы, окуная ручку в широкую, как ступенька, мраморную чернильницу, Левочка бездумно рассматривал крахмальный белый колпак и странно накрашенные губы, словно она окунала их в помаду, как в варенье, а не мазала, так что рот принял совсем другую форму.
– Давно в мокроте кровь?
Он не понял. Врачиха объяснила. Левочка пытался рассказать про язву, а вообще-то дед здоровый, мы сегодня на рыбалку собирались, и…
– Это ясно, – усмехнулась врачиха своим неприятным ртом.
Может, она не знает, а то давно бы стерла лишнюю помаду?
– Субфебрилитет есть?… Температура, спрашиваю, какая?
– Не знаю. Нормальная, наверное.
– Снижения веса не отмечали?
– Да, – торопливо заговорил он. – Три года назад, когда я на каникулы приезжал, он был… он не был такой худой.
Докторша начала кивать, как человек, наконец-то добившийся понимания.
– Распишитесь вот здесь, внизу. Значит, мы вашего дедушку госпитализируем. Не могу сказать пока. Нет. После рентгена, только после рентгена. Нет, к нему нельзя. Не волнуйтесь, тут все сделают.
– До свидания. – Он не знал, что еще сказать.
– До свидания. Молодой человек!
Лева обернулся.
– Здесь больница, а не аквариум, – произнес рот. – Вы хоть в дверях аккуратней!
Садясь в трамвай, он удивился, что не помнит врачихины глаза; даже не мог сказать, в очках она или нет.
Хорошо, что крестная сунула в карман деньги. Через час он уже вбежал в парадное и взлетел на второй этаж. Тоня открыла дверь и всплеснула руками:
– Лева, на кой ты удочку принес?…
Так безмятежно начался старухин день, так много сулил интересного! Она только начала обживать мужнин сон, расставляя, по своему представлению об уюте, все на свои места, даже к Тоне собралась: что там в сонной книжке написано, а потом и к Симочке забежать – благо, рядом. Только все, как известно, пошло кувырком. Растерянно пометавшись по кухне и наговорив Ире на весь отпуск вперед, она бросилась к Тоне, но отнюдь не за сонником; про Симочку и думать забыла. В прихожей столкнулась с потным, растерянным внуком, которого они с Тоней тут же закидали вопросами.
– Это что же, к чахоточным отвезли?! Он там Бог знает какую заразу подцепит и в дом притащит! Я говорю, корка острая попала… – Сама себя оборвала и подвела итог: – Федю надо.
Дочь и сама это знала, как знала и то, что муж вернется только вечером.
– Ты покорми ребят, мама, – сказала властно, совсем как мамынька! – а я к Федору Федоровичу в клинику съезжу.
Фразу она договаривала уже в передней, надевая перед зеркалом шляпку. Щелкнул замок сумочки, а потом и дверной, а Матрена сидела, обмахиваясь платком и обводя требовательным взглядом стол и плиту. Что ж, детям исть надо.
* * *
Федор Федорович выслушал все подробности, включая, естественно, острую корку, записывая что-то на календарном листочке, и мягко выпроводил жену домой. Нужно было сосредоточиться, а Тоня говорила, как дома, громко и авторитетно; ассистентка не поднимала глаз от журнала, но страницы не перелистывала.
Оставшись один, он вытащил записную книжку, но не раскрыл. Сидел, потирая щеку и крепко зажмурившись. Как стыдно, Господи! Проворонил, проворонил. Крутился возле сына, как наседка, а тут… В туберкулез Феденька не верил, но… лучше бы туберкулез: санаторий, питание – дай Бог каждому, и – как новенький.
Щека горела. Он нетерпеливо листал книжечку. Кто там остался в туббольнице? Зильбермана, Зильбермана надо… он даже застонал чуть слышно. Февраль 53-го, инфаркт. Айбиндер? – Перевелась куда-то на Дальний Восток. Гельфанд, Гриндин, Девякович, Кушлер, Цейдлин, Шур… С кем же они теперь работают?! Кто, собственно, «они», кто там главный? Можно, конечно, позвонить, представиться… После пароля «коллега» трубку не бросят – предложат зайти в приемные часы, когда один дежурный врач на отделение. Рискнуть? А, пан или пропал! Замер. Вот кто нужен, не там искал: пан Ранцевич!
Высокий и худощавый, совершенно лысый в свои неполные шестьдесят, но неизменно веселый, с насмешливыми голубыми глазами навыкате, доктор Ранцевич был таким ярко выраженным поляком, что иначе как «пан Ранцевич» его не называли. Бонвиван и женолюб, перед которым ни одна женщина, будь то медуза горгона из Минздрава или юная лаборантка с обкусанными ногтями, не могла устоять, и даже кариатиды, казалось, готовы были бросить балкон и идти за ним по коридору. При этом чаще всего он прогуливался по набережной в обществе матери, назвать которую старушкой было бы то же самое, что его самого – просто Ранцевичем.
Мужчины ему завидовали. Поговаривали даже, что на прием к Ранцевичу записываются дамы со здоровыми зубами. Женщины молчали. И с теми, и с другими пан Ранцевич был приветливо ровен и доброжелателен. О его доброте и отзывчивости, особенно в 52-м, знали немногие.
Федя – знал. Это было время, когда в день зарплаты пан Ранцевич заглядывал в тот или другой кабинет и собирал деньги, первым делая нескудный взнос, потом сам обходил квартиры арестованных коллег. Риск был огромный, но пан Ранцевич интуитивно знал, к кому обращаться не следует, высказываясь в обычной своей насмешливо-загадочной манере: «К пролетариям я не адресуюсь: этим нечего терять, а значит, не дадут». После паузы неожиданно добавлял: «Они только приобретают».
Курил он редко, но в верхнем кармашке всегда носил тонкий янтарный мундштук, который часто вынимал и быстрым движением проводил над верхней губой, вдыхая запах. Если бы вместо мундштука оказался карандаш или стебелек травы, этот жест был бы так же уместен не из-за какого-то особого изящества, а потому только, что принадлежал пану Ранцевичу.
Не прошло и десяти минут после телефонного разговора, как в дверь постучали и в проеме показалась лысая голова. Ассистентка Феденьки, заалев, потянулась к сумочке за зеркальцем, но пан Ранцевич уперся костяшками пальцев в ее стол и попросил «Вестник дантиста», номер м-м-м… третий. Нет, за прошлый. И четвертый… тоже.
– Проше, пани, – добавил ласково, склонив голову к плечу, и «пани» сломя голову бросилась в библиотеку.
Повернувшись к Федору Федоровичу, доктор проделал манипуляции с мундштуком, сел и тоже вынул записную книжку.
– Туберкулезная, вы сказали? Найдется, найдется кто-нибудь. Уже… И вот. И еще! Вопрос, кто нам полезнее. Вот что: я позвоню прямо сейчас, а поедем вместе, сразу после приема – м-м-м… через два часа, згода?
Это был очень хороший знак. Пан Ранцевич щеголял польскими словечками только перед теми, к кому был особенно расположен. Федор Федорович оценил, сказав «так» вместо «да», чем привел поляка в неописуемый восторг.
– Доктор, – спохватился Феденька, – мне, право, неудобно затруднять вас…
– О, то бздуры, – поляк укоризненно покачал блестящей лысиной, уже набирая номер и трубкой прижимая разворот книжечки.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































