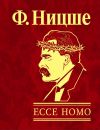Текст книги "Философский экспресс. Уроки жизни от великих мыслителей"

Автор книги: Эрик Вейнер
Жанр: Прочая образовательная литература, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Я остановился, гляжу на него и говорю: «Дэвид Генри, а Дэвид Генри, а что это ты там делаешь-то?» А он не повернулся и даже на меня не взглянул. Так и смотрел туда в пруд и сказал, будто раздумывал о светилах небесных: «Я, мистер Мюррей, изучаю… повадки… лягушки-вола!» И так он там и стоял, этот дурень, весь день напролет, изучал – повадки – лягушки-вола![64]64
Цит. по: Walter Harding, «The Adventures of a Literary Detective in Search of Thoreau», Virginia Quarterly Review, Spring, 1992.
[Закрыть]
Это непросто – видеть медленно, как Торо. Зрение – самое быстрое из наших чувств, гораздо быстрее, скажем, вкуса. Не существует зрительного аналога «смакования». (Можно сказать, что мы «задержали взгляд» на чем-либо, но этому выражению недостает чувственности «смакования».)
Я – ленивый наблюдатель. Я рассчитываю, что предмет рассмотрения все сделает за меня. Удиви меня, пейзаж. Ну же, давай, будь прекрасным! Когда же предмет – будь то Альпы или картина Моне – неизбежно не оправдывает моих раздутых ожиданий, я виню его, а не себя. Торо мыслил иначе. Если человек настроен видеть красоту, он увидит ее даже на мусорной свалке, тогда как «придира даже в раю найдет к чему придраться».
Я добрался до лесной прогалины. Здесь стояла уолденская хижина Торо. Теперь это место обозначено грудой камней и обнесено кованой изгородью. (Самого домика давно уже нет.) «Под этими камнями, – гласит выгравированная надпись, – находится фундамент дымовой трубы Хижины Торо, где он жил в 1845–1847 годах».
Место, где вершился величайший в истории эксперимент по добровольному уединению, естественно, забито народом: вот орет в мобильник женщина с огромным стаканом из «Старбакса»; вот группа китайских туристов наводит длинные объективы камер, словно артиллерийские стволы, на памятные камни. Они мешают моему одиночеству, моему моменту единения с Торо. Мне хочется, чтобы они ушли, но они не уходят.
Это, конечно, несправедливо с моей стороны. У них столько же прав здесь находиться, сколько и у меня. Это как в пробках на дорогах: застряв, мы ругаем «чертовы пробки», забывая о том, что сами же их и создаем. Мы – часть проблемы.
Вот пара средних лет разглядывает камни. Я замечаю, что мужчина особенно увлечен. Он вполголоса говорит что-то о том, как он восхищен Торо.
– Ну что, – поддразнивает его жена, – когда уходишь в лес?
Мужчина сникает и замолкает. Да не уйдет он жить в лес. Вы поедете на своем минивэне домой, он выгрузит багаж и продолжит влачить свою жизнь в тихом отчаянии.
В этом-то и проблема Торо. То, что делал он, нельзя повторить. Нельзя бросить все и поселиться в лесу, даже в непосредственной близости от маминой домашней выпечки. Нам надо платить по счетам, ходить на концерты, участвовать в конференц-звонках. Собственно, Торо никого и не призывал следовать своему примеру. «Уолден» по задумке должен встряхнуть читателя, а не давать руководство к действию.
Пройдя еще чуть дальше, я вижу следующую надпись. Это цитата из «Уолдена», самые, пожалуй, знаменитые слова Торо: «Я ушел в лес потому, что хотел жить осознанно, иметь дело лишь с важнейшими фактами жизни и попробовать чему-то от нее научиться, чтобы не оказалось перед смертью, что я вовсе не жил».
Мне нравятся эти слова, но я внес бы маленькую коррективу. Вместо «жить осознанно» – «видеть осознанно». Не думаю, что Торо возражал бы. Именно возможность видеть и была смыслом его эксперимента. Все прочее – уединение, простота – было лишь средством на пути к этой цели.
* * *
Торо видел слишком много. И очень от этого уставал. «Я привык обращать внимание на множество лишних вещей, так что чувства мои не находят отдыха, страдая от постоянного напряжения», – пишет он в дневнике.
Мы считаем наши чувства антеннами, анализирующими окружающее пространство и улавливающими информацию. Но они скорее подобны фильтрам, отсеивающим из шума вокруг немногие важные сигналы, если только поток чувственно воспринимаемой информации не переполняет нас. Мы сделаны так, чтобы, по словам Торо, получить «свою долю бесконечности» – и ни каплей более.
Видение – акт добровольный. Это всегда наш выбор, даже если мы не осознаём этого. Чтобы правильно видеть, говорит Торо, требуется «особое намерение глаза». Весь вопрос в угле зрения. И никто не умел настраивать его лучше Торо. Измените угол зрения – и изменится не только то, как вы видите, но и то, что вы видите: «С правильной точки зрения каждая гроза и каждая капля дождя – это радуга».
Торо наблюдал Уолденский пруд со всех возможных точек: с вершины холма, с берега, из лодки на поверхности воды, из-под воды. Одну и ту же картину он изучал в дневном свете и при луне, зимой и летом.
Торо редко смотрел на что-то напрямую. Предпочитал искоса. В этом есть физиологический резон[65]65
Поскольку свет воздействует на более чувствительную, периферическую часть нашей сетчатки.
[Закрыть]. В приглушенном свете предметы лучше всего видны, если смотреть со стороны. Торо мог это знать, а мог и не знать. Он до всего доходил опытным путем.
Не желая завязнуть в визуальной рутине, он менял угол зрения. Порой даже минимальный сдвиг перспективы, на волосок, может открыть новые миры. Холодным декабрьским днем 1855 года Торо заметил птичку щура, залетевшую «необычно далеко на юг», лишь благодаря тому, что прогуливался не по той же дороге, что всегда.
Иногда он действовал и более решительно: наклонялся и смотрел на перевернутый мир у себя за спиной. (Торо вообще любил все переворачивать, даже свое имя он изменил с «Дэвид Генри» на «Генри Дэвид».) Переверни мир с ног на голову – и увидишь его по-новому.
Я нахожу относительно уединенное местечко на берегу пруда и, убедившись, что никто меня не видит, проделываю этот трюк сам. Наклоняюсь и смотрю назад между ног. Небо и земля поменялись местами. К голове прилила кровь, она закружилась. Я встаю: небо и земля возвращаются на обычные места. Может, я что-то делаю не так?
Нет. Я упускаю смысл. Потрясающее умение Торо видеть не было результатом лишь технических ухищрений и оптических фокусов[66]66
Торо, мастер видеть, не стремился увидеть все без исключения. Когда один фермер позвал его посмотреть на двухголового теленка, Торо отказался. «Мы живем не для потехи», – заявил он.
[Закрыть]. Это была черта характера. Восприятие красоты он считал «критерием нравственности». Красота не в глазах смотрящего, она в его сердце. Нельзя научиться лучше видеть, не став лучше самому. И этот процесс работает в обе стороны. То, кто мы такие, определяет то, что мы видим; и то, что мы видим, определяет нас. Как сказано в Ведах, «что ты видишь – тем становишься».
* * *
Права была Лесли Уилсон. Пруд, конечно, очень красив, по берегам его растут деревья, вода искрится в сиянии летнего солнца. Но это просто пруд. Даже, может быть, не самый умиротворяющий в мире. Идя по берегу, я слышу шум проходящего поезда – как когда-то слышал и Торо. Период его жизни совпал со временем расцвета железнодорожной отрасли. Из своей хижины он слышал свисток паровоза, похожий на «крик ястреба, парящего над птичьим двором».
Относительно новых технологий Торо испытывал смешанные чувства. Его зачаровывала необузданная сила паровозов, но страшило то, что железная дорога нарушает привычные ритмы жизни. Раньше фермеры определяли время по солнцу – теперь они сверяли часы по двухчасовому поезду из Бостона. В уолденских лесах вырубали деревья на топливо для поездов. «Не мы едем по железной дороге, – заключал Торо, – а она – по нашим телам».
Добравшись до информационного центра для посетителей Уолденского пруда, я обнаруживаю уменьшенную копию домика Торо. Там приятнее, чем я думал. Хижина выполнена в форме аккуратного треугольника, здесь есть дровяная печь, письменный стол, крышка погреба, стулья (для гостей), небольшая, но удобная постель. Большое окно смотрит на юг. Не Версаль, но уж и не помойка.
Экскурсию ведет смотритель парка по имени Ник. Явно не впервые, и его рассказ был бы затасканной нудятиной, если бы не искреннее восхищение Торо. Я заметил такое отношение у последователей Торо. Что-то есть такое в Генри (последователи всегда зовут его просто Генри), к чему не липнет непроизвольный цинизм, обычно сопровождающий излишнюю фамильярность.
Ник заканчивает с подготовленным текстом и просит задавать вопросы. Вопросы не заставляют себя ждать.
– Во сколько ему обошлось строительство хижины?
– Двадцать восемь долларов двенадцать с половиной центов. Дороже всего оказались гвозди.
– Чем он занимался весь день?
– Читал и писал.
– А зачем вот это вот все? – спрашивает какой-то подросток таким потрясенным тоном, словно Торо растратил миллионы долларов или стал адептом опасной секты, а не просто прожил пару лет в лесу.
– Так сказать, эксперимент: каково это – жить просто, – отвечает Ник-смотритель. – Кроме того, ему уже исполнилось 28. Пора было отселяться от мамы с папой.
Подросток кивает – такой ответ его явно устраивает.
Торо и в самом деле жил просто, кое-что из своей пищи выращивая сам. Он вышел из системы задолго до появления системы. Но главное здесь – простота эта была ради самой простоты. Торо, изучавший восточную философию, решил очиститься. Протереть стекло, через которое воспринимал мир.
Французский философ Мишель Фуко писал о потребности стать «восприимчивым к познанию». В «Уолдене» Торо сделал себя восприимчивым к видению. Он знал, что лучше всего мы видим, когда ничем не обременены и ничто не загораживает нам свет. Он сравнивал себя с математиком, который, столкнувшись со сложной задачей, освобождает ее от всего внешнего и достигает самой сути уравнения.
* * *
Торо был поверхностным. В самом лучшем смысле. Поверхностность обычно ругают и используют как синоним внутренней пустоты, но здесь совсем другое дело. Ограниченность – в определенном смысле отсутствие глубины. Поверхностность – это рассеянная глубина. Наша доля бесконечности, размазанная очень тонким слоем, но по огромной поверхности[67]67
Словами Витгенштейна: «Глубины таятся на поверхности».
[Закрыть].
«Почему мы отвергаем все внешнее? – удивлялся Торо. – Восприятие поверхностей производит чудесный эффект на здравый ум». Вот поэтому Торо не вглядывался. Он скользил взглядом. Его глаза останавливались то на одном, то на другом предмете, словно шмель в поисках пыльцы. «Прогулка взгляда» – так он это называл.
Люди смотрят подобно тому, как другие животные обнюхивают: цель и первых и вторых – оценить обстановку. Скользящий взгляд способен выхватить нечто чудесное.
Скольжение взгляда – наше естественное состояние. Человеческий взгляд редко совершенно неподвижен, даже когда мы думаем, что это так. Он делает быстрые подрагивающие движения – так называемые саккады, – между ними ненадолго останавливаясь. Обычно наши глаза двигаются не менее трех раз в секунду, то есть около 100 000 раз за день.
Подвижный взгляд помогает нам, например, приготовить обед из трех блюд или пилотировать самолет[68]68
Не все философы так его уважали. Кант, к примеру, презирал Herumtappen – «бессмысленное беганье глаз».
[Закрыть]. Много лет назад я получил лицензию частного пилота. С тех пор я уже многое забыл, но одно врезалось в память: как следует наблюдать за приборами.
– Не таращись! – орал мне инструктор. – Смотри сразу на все!
Высотометр. Указатель воздушной скорости. Авиагоризонт. На каждом из приборов взгляд должен задерживаться не больше секунды-другой, затем двигаться дальше. Взгляд (и внимание) должен быть в постоянном движении. Стоит пилоту застрять на одном приборе, и начинаются проблемы. «Залипнешь» на высотомере – отклонишься от курса. Сосредоточишься на курсе – «поплывет» скорость. Видеть надо сразу все. Очень ценный урок. Блуждающий взгляд приносит больше информации, чем сосредоточенный.
И вот я продолжаю свою прогулку по песчаному берегу Уолденского пруда. Знаки предупреждают меня о подводных ямах и опасных местах для купания. Уолденский пруд не идеален, но, чтобы быть прекрасным, не нужно быть идеальным, и даже функциональным быть не обязательно. Торо всегда видел красоту в несовершенствах природы. Разглядывая пруд тихим сентябрьским днем, он заметил, что на идеальной глади воды все еще остаются мелкие брызги, пылинки. Кто-то увидит в этом «изъяны», но для Торо «и немногие пятнышки на ней тоже чисты и прекрасны, как бывают изъяны на стекле». Он рассказывает, как неподалеку от своего домика обнаружил гниющие останки лошади – и они показались ему не отвратительными, но на свой манер жизнеутверждающими. И даже красивыми. Мудрость природы в действии.
* * *
Я много думал о напутствии Торо найти собственный Уолден. Реальный Уолден мне понравился не слишком. Слишком много комарья и туристов. Неважно с кондиционерами, нет хорошего кофе. Итак, мой личный Уолден. Где же он?
На следующий день я задаю этот вопрос Джеффу Креймеру, куратору коллекций в проекте Walden Woods. Это подтянутый мужчина с гладко выбритой головой и аккуратно подстриженной бородкой. К Торо он пришел уже немолодым. Работал в Бостонской публичной библиотеке на непыльной работе и вдруг бросил все и перебрался в Конкорд.
Джефф заслужил свою репутацию последователя Торо. Я верю ему. И он мне симпатичен, особенно когда делится своей любимой цитатой из Торо (а он, надо понимать, был редактором сборника его афоризмов): «Если я – не я, то кто будет мной?»
Я хочу, безусловно хочу быть мной. Но лучшим, не таким меланхоличным мной. Мной – последователем Торо. Умеющим видеть, как Торо. Хочу научиться, как и где по-настоящему видеть. Я мыслю пространственно, и эти слова для меня неразделимы: «как» равно «где», «где» равно «как».
– Давай подумаем, – говорит Джефф. – Можешь перейти Северный мост, двинуться через лес, который будет слева, и…
– Лес? Типа деревья, жучки?
– Ну, типа да.
– А еще какие есть варианты?
– Можешь отправиться к Южному мосту через реку и взять напрокат байдарку.
– Байдарку типа лодку?
– Ага.
– А еще?
– Сонная лощина – очень приятное место.
– Это где кладбище?
– Ну да.
– Что еще предложишь?
– Так. Можешь пойти в «Старбакс».
– Так-так.
– Возьми с собой «Уолден» и, может быть, что-то из дневников и изучай.
– В «Старбаксе»? Серьезно?
– Ну да. Важнее всего слова Торо. Его вдохновляла земля вокруг нас. Благодаря ей он стал тем, кем стал. Но тебя тобой она не сделает.
Эта идея мне нравится. Во времена Торо в Конкорде тоже была кофейня, куда он регулярно захаживал. Кроме того, если мудрость Торо, как и любая подлинная мудрость, всегда с тобой, то она никуда не денется – попиваю ли я дорогущий кофе или продираюсь по лесу. Ну его, этот Уолден. Иду в «Старбакс».
* * *
Проснувшись пораньше, я собираю свой Торо-набор – «Уолден», эссе под названием «Ходьба», собрание писем к одному духовному искателю[69]69
Не путать с английским поэтом Уильямом Блейком.
[Закрыть] по имени Уильям Блейк, избранные дневники (я с ними почти закончил). И направляюсь в сторону единственного в Конкорде «Старбакса».
Он такой типично конкордский – свет чуть мягче, чем обычно, обстановка чуть поизящнее. Но это все равно «Старбакс», так же как Уолденский пруд – все равно пруд.
Я заказываю черный кофе, плюхаюсь в большое кожаное кресло и раскрываю книгу Генри. «Красота – там, где ее увидели», – говорит он мне. Что, даже здесь, в «Старбаксе»? Оглянувшись, я не обнаруживаю признаков красоты. Мысль по привычке винит в этом окружающий мир – мой Уолден.
Но я останавливаю себя. Не будь таким пассивным. Не видишь красоты – создай ее. Дай волю воображению. Доверься чувствам.
Это работает, но на первый план вылезает не то чувство, которое нужно: срабатывает мой острый слух. Я слышу красоту повсюду: вот легкое жужжание кондиционера, вот музыкальное позвякивание кубиков льда, вот пищит кассовый аппарат, пересмеиваются бариста, фраза «Большой зеленый чай со льдом!» звучит музыкой, а где-то вдалеке воют сирены.
По совету Торо – «оставь все чувства, кроме того, которое используешь», – я пытаюсь сосредоточиться только на зрении. Я, конечно, вижу. Вижу, как молодой отец в солнечных очках, поднятых на лоб, качает в сильных руках маленького сына. У стойки с молоком и сахаром двое танцуют: шаг вперед, шаг назад! «Ой, прости, ой, я на тебя наступила». – «Нет-нет, это я». Обращаю внимание на то, как люди ждут свои заказы: одни наседают на девушку-бариста, другие держат дистанцию. Одни стоят спокойно, другие переминаются на месте.
Скользи взглядом. Снова папаша с мускулистыми руками. Теперь он, усадив сына на столик, раскачивает его вперед-назад. Интересно, правильно ли он сделал. Скользи! Девчонки из команды по софтболу в сине-бело-оранжевой форме «дают пять» тренеру. Скользи! Мужчина рядом со мной читает Монтеня. Заметив, что я читаю Торо, он одобрительно кивает – разумеется, не слишком навязчиво. Конкорд – это «тихий вагон» Новой Англии.
Проходят минуты, потом часы. Папа с сыном ушли. Ушла софтбольная команда, ушел человек с Монтенем. А я все здесь – скольжу взглядом вокруг. Пускаю я в ход и другие приемы из арсенала Торо: меняю местоположение (постоял недолго у двери), прогуливаюсь до кофейной стойки, верчу головой по сторонам. Думаю, не просунуть ли опять голову между ногами, но решаю воздержаться. Даже здесь, в городе Торо, это слишком.
Несколько часов спустя возвращается тот, кто читал Монтеня. Видя меня в том же кресле с теми же книгами, он замечает:
– Вы здесь как-то уж очень долго.
– Ну вообще-то, – поднимаю я на него ясный взгляд, – не так уж и долго.
И я не лукавлю. Мне нужно еще время. Пусть здесь, в моем личном Уолдене, я и начал видеть яснее, мне все еще далеко до визуального озарения, «расширения сознания», какого достигал Торо. Я разочарован, но нахожу утешение в словах – кого бы вы думали – Генри Дэвида Торо. Чтобы видеть, нужно не только время, но и расстояние, говорит он мне. «Чтобы увидеть что-то – удались от него».
5.
Слушать, как Шопенгауэр
Время: 14 часов 32 минуты. Поезд Deutsche Bahn № 151, следующий из Гамбурга во Франкфурт.
Поезда издают почти те же звуки, что и люди. Локомотивы умеют пыхтеть, свистеть, а иногда будто страдают отрыжкой. Вагоны стонут, визжат, спорят.
Но немецкая железнодорожная компания Deutsche Bahn эти звуки решительно приглушает. Здесь «тихий вагон» не требуется. Здесь все вагоны тихие. Все в поезде шепчет об умеренности. Не только спокойная обстановка, но и деревянная внутренняя обшивка вагонов, и то, что кофе подают в настоящих чашках, а не в пластиковых стаканчиках.
Потягивая кофе, я изучаю столь недооцененную знатоками германскую сельскую местность. Проходит встречный поезд – его свисток вспарывает тишину. Звук резко усиливается с приближением поезда, затем ослабевает, когда поезд удаляется. Или не ослабевает?
На самом деле громкость свистка не меняется. Это звуковая иллюзия, так называемый эффект Доплера. Из-за движения поезда мой чувствительный мозг решил, будто свисток зазвучал иначе. Я неверно воспринял реальность.
А вдруг и все в жизни так? Что, если весь мир – сплошная иллюзия? Около 2400 лет назад точно таким же вопросом задавался Платон. В своем мифе о пещере, изложенном в «Государстве», он просит читателя представить себе пленников, прикованных в пещере лицом к стене. В таком положении они находятся с самого рождения, не могут двигаться и не могут поэтому видеть друг друга и даже самих себя. Все, что им видно, – это тени на стене. Они не понимают, что смотрят на тени. Тени – единственная известная им реальность.
Философия, предполагает Платон, позволяет нам покинуть мир теней и понять их источник – свет. Мы не всегда видим свет. Иногда мы слышим его.
* * *
Я просыпаюсь от неожиданной тишины. Долгое путешествие на поезде меня утомило, и так и хочется остаться под одеялом – как Марку. Но, собрав волю в кулак, я все же встаю и направляюсь завтракать. Потом, подобно Руссо, я прогуливаюсь, осмысливая каждый шаг, – только чтобы понять, что улицы Франкфурта, несмотря на будний день, пустынны. Вернувшись в отель, я, подобно Сократу, начинаю задавать вопросы.
– А где все?
– Так национальный праздник, – отвечает портье. – Вы не знали?
Я так и слышу, как осуждает меня Торо. Смотри! Наблюдай! Изучай мир глазами ребенка и разумом мудреца. Открой, черт побери, глаза!
Мне нужно придумать новый план. Я собирался в архив Шопенгауэра. Очевидно, он закрыт, но должны же быть открыты другие места.
Похоже, нет. У европейцев уж если праздник, так праздник. Я прохожу мимо запертых наглухо магазинов и кафе – должно быть, прохожу целую милю, пока наконец не обнаруживаю отщепенца: открытую кофейню. И хорошую, судя по тому, что здесь кофе из экзотических краев, а у бариста серьезные лица настоящих трудяг.
Я заказываю суматранский пуровер, и его готовят с такой тщательностью, с какой обычно организуют нейрохирургические операции и свадьбы. Когда я прошу молоко, бариста поджимает губы и замечает (сдержанно, разумеется), что добавлять молоко к этому кофе эксклюзивной обжарки, естественно без кислоты, идеально сбалансированному Напитку богов – значит оскорбить все доброе и прекрасное в этом мире.
– Да, да, конечно, – говорю я. – Ни в коем случае.
Жду, пока он уйдет, – возможно, чтобы прочесть лекцию еще одному посетителю, – и лью в кофе молоко. Нахожу столик на улице и прочитываю первую страницу избранных сочинений Шопенгауэра.
Надвигается тьма, и это, похоже, надолго. Пессимизмом пронизана каждая страница, каждое слово, примерно как мой кофе – привкусом шоколада, только пессимизм горше. Шопенгауэр даже не пытается скрывать свою мрачность. Взять хотя бы названия: «О страдании мира» или, скажем, «О самоубийстве».
В его пессимизме вряд ли следует винить философию. Столь мрачный взгляд на жизнь он демонстрировал и совсем молодым, задолго до знакомства с Платоном или Декартом. В семнадцать лет во время поездки по Европе с родителями он заключил: «Этот мир не мог быть сотворен вселюбящим существом, скорее, дьяволом, который создал все живое, чтобы находить удовольствие в его страданиях». Несколько лет спустя, начав философские штудии, он пишет другу: «Жизнь – премерзкая затея. Я решил потратить ее на попытки ее понять».
И с возрастом пессимизм его не смягчился. Напротив – он возрастал, сгущаясь в черную дыру отчаяния. «Сегодня плохо, и день за днем все будет лишь хуже – пока не придет самый ужасный из дней», – пишет он. Все мы вниз головой падаем в бездну «полного, неизбежного, непоправимого крушения». Откладываю книгу, вздыхаю. День будет долгий. Заказываю еще одну чашку суматранского кофе и решительно продолжаю чтение.
Мы живем в «наихудшем из возможных миров», извещает меня идеолог пессимизма. Еще чуть хуже – и такого мира просто не было бы. Что, в общем-то, было бы неплохо. «Жизнь радостнее всего, когда мы меньше всего воспринимаем ее», – пишет он.
Делаю паузу: мне нужно немного воздуха и света. Их нет. Клянусь, я так и чувствую, как на меня надвигается черная тень Шопенгауэра. Присмотревшись, я различаю, что это пожилая дама в мешковатых мятых штанах. Зубов у нее больше выпало, чем осталось. Она явно бездомная или вроде того. Указывая на второй стул за моим столиком, она говорит что-то по-немецки. В ее словах нет ни одного из тех четырех, что я знаю. Первое, что приходит в голову, – это что она спрашивает, можно ли взять стул. “Ja, bitte”, – отвечаю я, используя – определенно с апломбом – два из моих четырех немецких слов.
Делать допущения на родном языке – не всегда разумно. Делать допущения на незнакомом иностранном языке откровенно глупо. Не просила она стул. Она спросила, можно ли ей присесть и поговорить со мной. Выговориться. И вот она говорит и говорит, я киваю и киваю, время от времени выдавая “ja, ja”.
Разговор односторонний. Я из него понимаю мизерные крохи. Она – Oma, то есть бабушка (мое третье слово на немецком). Остальное – звуковой шум.
Я надеюсь, что она скоро выдохнется, но она даже темпа не сбавляет. Что бы сделал на моем месте Сократ? Разумеется, стал бы общаться, но как?
Официант приносит ей кофе – за счет заведения, конечно же. Она многословно благодарит. Благодарность – язык универсальный, его выражают глазами, всем телом гораздо больше, чем словами.
Шопенгауэр, философ пессимизма, не чурался благодарности – и сочувствия. Нам кажется, что мир состоит из обособленных сущностей, но, как считал Шопенгауэр вслед за восточными мистиками, такое восприятие – иллюзия. Мир един. Помогая другому, мы помогаем себе самим. Чужую боль можно чувствовать так же, как боль в собственном пальце. Не как что-то чуждое, а как часть самого себя.
Моя гостья продолжает говорить, даже когда ей приносят кофе. Я решаю послушать. Я ничего не понимаю, но слушать я могу.
Для Шопенгауэра слушать было очень важно. Слушать музыку, этот, как он говорил, «универсальный язык сердца». И другие вещи тоже. Слушать свою интуицию, поднявшись выше шума и трезвона окружающего мира. Слушать голоса других, говорить на иностранных языках – ведь никогда не знаешь, откуда выглянет мудрость. И да – слушать тех, кто страдает. Будучи мизантропом и хроническим брюзгой, он тем не менее высоко ценил сочувствие, проявляя его даже не столько к людям, сколько к животным.
Слушание – акт сочувствия, акт любви. Соглашаясь слушать, мы тем самым дарим свое сердце. Уметь хорошо слушать – такой же навык, как уметь и хорошо видеть; как любому навыку, этому можно научиться.
Женщина, похоже, оценила мою внимательность, судя по улыбке ее беззубого рта. И вот она встает, собираясь уходить. Мы прощаемся – говорим друг другу tschüss – до свидания. Мое четвертое немецкое слово!
* * *
Шопенгауэр не первый и не последний философ-пессимист, но он в своем роде уникален. Его отличает от других не столько хмурость настроений, сколько та система философских взглядов, метафизика несчастья, которую он возвел, чтобы объяснить ее. Философов пессимистического настроя немало, но подлинный философ пессимизма – лишь он один.
Все изложено в его работе «Мир как воля и представление» – такое название могло понравиться только философу. Он написал ее, когда ему не было и тридцати лет, и «то, что она должна сообщить, заключается в одной-единственной мысли». Эту самую мысль он изложил на 1156 страницах. Не будем к Артуру слишком строги. Вот такая большая у него была мысль. Уже первое предложение сногсшибательно: «Мир есть мое представление».
Конкретно в этом случае мы не имеем дело с высокомерием Шопенгауэра. Такова его философия. Он не утверждает, будто он создатель всего мира: он говорит, что каждый из нас в своем уме формирует реальность. Его мир – его представление, ваш мир – ваше.
Шопенгауэр был идеалистом. В философском смысле идеалист – это не человек с высокими идеалами. Это тот, кто считает, что все наши ощущения суть психическая репрезентация мира, а не сам мир. Физические объекты существуют, лишь когда мы их воспринимаем. Мир – это моя идея, мое представление.
Я понимаю, что это звучит странно, возможно бредово, и все же это не так уж далеко от реальности. Современный философ Найджел Уорбертон прибегает к образу огромного кинозала, где все смотрят один и тот же фильм из разных просмотровых комнат. «Уйти нельзя – снаружи нет ничего, – говорит он. – Фильмы и есть наша реальность. Когда никто не смотрит на экран, свет проектора выключается, но фильм в проекторе все еще идет»[70]70
Nigel Warburton, Philosophy: The Basics (London: Routledge, 1992), 100.
[Закрыть].
Идеалисты не склонны считать, будто существует лишь наше сознание (такое видение называют солипсизмом). Мир, говорят они, существует, но в виде психического конструкта и лишь тогда, когда мы его воспринимаем. Вот другая аналогия: возьмем лампочку в холодильнике. Она горит, когда вы открываете дверцу. Может показаться, что она горит всегда, но это не так. Вы не знаете, что происходит, когда дверца закрывается. Точно так же нам неизвестно, что происходит за пределами способностей нашего разума к восприятию.
Каждый день своей жизни мы ощущаем психически сконструированный, или феноменальный, мир. Он реален – подобно тому, как реальна поверхность озера. Но точно так же, как блестящая поверхность не является всем озером, феноменологический мир – лишь часть реальности. Глубин он не охватывает.
Глубины эти, по мнению таких идеалистов, как Иммануил Кант, лежат за пределами чувственного восприятия, но абсолютно так же реальны, как невидимое глазу дно озера. И даже более реальны, чем зыбкие явления чувственного мира, с которыми мы обычно имеем дело. Эту невидимую глазу реальность философы называли по-разному. Кант – ноуменом, вещью в себе. Платон – миром идей. Индийские философы – брахманом. Названия разные, суть одна: уровень существования, недоступный нам, пока мы бежим на работу, залипаем в «Нетфликс» и вообще живем своей жизнью в мире теней.
Шопенгауэр разделял точку зрения о существовании этого мира-за-пределами-мира, но добавлял свой собственный, интригующий и, разумеется, мрачный нюанс. В отличие от Канта, он считал, что вещь в себе – это единая сущность, которой мы можем, хоть и не напрямую, достичь. Сущность эта включает в себя всех людей и животных, и даже неодушевленные объекты. Она не имеет целей и стремлений, а кроме того, она безжалостно, бесцеремонно зла.
Эту силу Шопенгауэр называл «Волей». Не самое удачное название, как мне кажется. Под «Волей» он подразумевал не силу воли, а скорее определенную силу как энергию. Вроде гравитации, но более злонамеренную. Вот как он пишет:
Ее желания беспредельны, ее притязания неисчерпаемы, и каждое удовлетворенное желание рождает новое. Нет в мире такого удовлетворения, которое могло бы утишить ее порывы, положить конец ее вожделениям и заполнить бездонную пропасть ее сердца.
Два замечания. Во-первых, Воля ужасно напоминает мне девушку, с которой я встречался в колледже. Во-вторых, света в конце этого тоннеля не видать.
Воля – бесконечная жажда. Это желание, не находящее удовлетворения. Тизер без фильма. Секс без оргазма. Именно Воля заставляет заказывать третий виски, когда двух явно было достаточно. Именно Воля издает этот скрежещущий звук в голове; иногда его удается приглушить, но полностью он никогда не замолкает, даже после четырех порций виски.
Становится только хуже. Воля обречена на то, чтобы вредить самой себе. «В сущности, – говорит Шопенгауэр, – это происходит от того, что воля должна пожирать самое себя, ибо кроме нее нет ничего, и она есть голодная воля». Лев, вонзая зубы в тело газели, ранит при этом собственную шкуру.
Однажды Шопенгауэр, зоолог-любитель, услышал о том, что в Австралии открыли новый род муравьев. Австралийские муравьи-бульдоги, или Myrmecia, заслуженно пользуются репутацией злонравных существ. Вцепившись в жертву мощными челюстями, муравей несколько раз жалит ее смертельным ядом. Если разрезать такого муравья пополам, голова вступает в смертельную схватку с жалящим хвостом. «Борьба обыкновенно продолжается около получаса, пока части не замрут или пока их не оттащат другие муравьи», – отмечает Шопенгауэр.
Пожирать самого себя муравья побуждает не злоба, не мазохизм – но Воля. Он не более способен сопротивляться ей, думал Шопенгауэр, чем чашка кофе в моей руке смогла бы сопротивляться гравитации, разожми я пальцы. Подобно муравьям-бульдогам, мы сами – и автор и читатель собственной жестокости, и жертва и агрессор. Мы обречены пожирать самих себя, претерпев перед этим много страданий.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?