Текст книги "Зелёная земля"
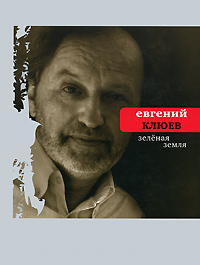
Автор книги: Евгений Клюев
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
её надежд блестящие обломки,
её имён цветные лоскутки.
* * *
…хоть весёлое Да золотое,
как и прежде, стоит наготове,
да не требуется никогда.
И мерещится тень декабриста,
где колючее Нет серебрится -
ломкой кромкой высокого льда.
Дух строптивый не любит согласья -
и повадка бесшумная лисья
не родна ему и не мила:
ни рожна ему в жизни не надо,
он граница, и он же – преграда,
вот и все, понимаешь, дела.
Было время… да ладно об этом:
о былом, о пустом, о забытом,
о старье обветшавших эпох!
Дух строптивый давно не кивает -
вскинет взгляд, как ружьё – и, бывает,
убивает на месте, врасплох.
Вот и все, понимаешь ли, песни -
спеты, стало быть: челюсти стисни -
и… пошла она прочь, чехарда
обольщений столичного рая -
где живёшь, даже не вспоминая
золотую провинцию Да…
* * *
Чай зелёный, как лес, чай зелёный, как сад,
чай зелёный, как Ваш растерявшийся взгляд,
моя грустная радость со взглядом зелёным!
Чай зелёный, как детство, которое – Вы,
и, наверное, мне не сносить головы
под зелёным, как детство и чай, небосклоном.
Но, зелёный немыслимый цвет, столько лет
я повсюду искал твой изменчивый след,
что уже не страшны никакие угрозы!
Чай зелёный, как миф – это ж надо понять,
значит, полно в тяжёлую чашку ронять,
моя грустная радость, зелёные слёзы.
Мы давайте-ка лучше посмотрим в окно:
там давно уже всё зеленым-зелено -
и пропащий апрель там слоняется пьяным.
А у Бога, небось, слишком много забот -
и уж если не он нас к рукам приберёт,
ничего, говорю, мы столкуемся с Паном.
* * *
А дело обстояло так,
что день, по площади идущий,
смущал испуганную душу
и приглашал её летать.
Ан, между тем кончался март,
и грозовою пахло тучей… -
но всё ж душа была летучей,
а это надо понимать!
И тот, кто это понимал,
он душу отпускал на волю -
и получал назад с лихвою
и свет, и утро, и туман,
и поцелуи под зонтом…
А на какое-то мгновенье -
и божество, и вдохновенье,
и всё, что следует потом.
ERLKONIG
На весь этот город – один этот лес,
с аллеей, несущейся наперерез
всем тайным прогулкам и страхам смешным, -
и солнце заходит, и мы не спешим.
На всю эту землю – один этот кров,
простёртый поверх наших буйных голов:
дурацкое счастье под небом чужим,
где солнце заходит, и мы не спешим.
На всю эту вечность – один этот шаг
в аллею, как в бездну, до звона в ушах:
дитя, что ж ты медлишь, опомнись, бежим!
Но солнце заходит, и мы не спешим.
Какой бы у повести ни был финал -
ездок-погоняет-ездок-доскакал! -
и кто б ни таился средь тёмных вершин,
а солнце заходит, и мы не спешим.
* * *
Я-хорошо-живу – как Вы живёте?
Я хорошо стою на эшафоте:
последнее желанье у меня, -
я хорошо, – узнать, как Вы живёте
к исходу безысходнейшего дня?
Вон комары на нитке серебристой -
смешное комариное монисто,
оно звенит о будущем уже.
Но как живёте Вы на Вашем триста…
нет, восемьсот тридцатом этаже?
Вон крохотная лампочка в два ватта
качается и смотрит виновато
в колоду карт, упавших со стола.
А на планете под названьем Вето
я всё равно не знаю, как дела.
И плод запретный – невпопад миндальный -
совсем неразличим из наших далей,
где ночью не слышны ничьи шаги,
откуда мне видны огни ордалий,
но вообще-то – не видать ни зги.
* * *
Как бы долго мы ни толковали,
а пора потихоньку домой.
Что ж ты хочешь своими словами
от души моей глухонемой?
Чтоб какого высокого жара
задала она нашей тоске?
Чтоб она тебе что выражала
на неведомом ей языке?
Как бы ни объяснять, ни пенять ей,
как бы строго себя ни вести -
всё же облачко дымных понятий
уплывает и тает в пути!
Очертания мира размякли,
растворившись в туманностях луж -
так на влажной японской бумаге
расплывается лёгкая тушь,
так какой-нибудь светленький плащик
быстро сходит на нет – дотемна…
Только плачет душа, только пляшет,
только плачет и пляшет она.
* * *
В сентябре, в государстве оранжевом
проживём на пустых мостовых
сумасшедшим зелёным бесстрашием
в Ваших детских глазах луговых.
В час, когда осторожная улица
огибает какой-нибудь ГУМ,
луг шумит, и блестит, и беснуется,
и совсем не берётся за ум -
выбегает на площадь Отчаянья
с бесполезным чудесным флажком,
с бубенцом золотого бренчания
и одним бесшабашным прыжком
перемахивает через пропасти
Будь-Здоров, Созвонимся, Прощай,
перемахивает через крепости
Здравый-Смысл и Порядок-Вещей.
И, весёлая, буйная, дикая,
жизнь пахнёт виноградным вином,
кардамоном, корицей, гвоздикою
и незрелым кофейным зерном.
* * *
Гремите, колокольчики, опять,
узорчатые, лапчатые, птичьи, -
гремите о простом моём величьи:
я научился глупо поступать!
Меняю жизнь мою – на полчаса,
на завтрак, преисполненный восторга,
под колокольчиком Горпищеторга:
заветренное чудо – колбаса,
богов напиток – тепловатый сок
из ягод, не имеющих названья,
и… – чтобы тучка полугрозовая
от завтрака плыла наискосок,
и чтоб один степенный разговор
был начат – и продолжен – и закончен…
Ловушкам несть числа, но мы проскочим,
заклеим только дыры новым скотчем -
и с нас все взятки гладки с этих пор!
Небо в сердце и небо на шляпе,
и ещё одно небо – во рту.
И разверзлись небесные хляби,
и обрушили вниз высоту.
И не стало совсем уже света
над прибежищем нашим Земля -
Безделушка, Игрушка, Комета
или Палуба Корабля.
И владели судьбой как хотели
все стихии, сцепившись в клубок, -
дни летели без смысла и цели,
и бездействовал Бог…
Вечерело, штормило, знобило,
волочило кормой по песку,
а потом ненароком прибило
наконец к одному островку,
где последний забрезжил мне берег
на беспамятном чёрном ветру -
разговор за пятнадцать копеек
обо всём, без чего я умру.
* * *
Как на маленьком парусе
детства – или далече -
нас качает на паузе
в ожидании встречи:
вы откуда отчалили,
побросав свои флаги,
два внезапных отчаянья,
две весёлых отваги?
Я – от шумного общества,
что почти незнакомо,
я же – от одиночества
в людном хаосе дома.
Леденея от ужаса,
без единого звука
нас баюкает лужица
на окраине века.
А стихия незрячая
всё колдует над чашей
моего красноречия
и безмолвности Вашей.
* * *
Жизнь снова бьёт через края
и снова кажется иная -
так ничего не знать, как я,
нельзя… но так я и не знаю:
мне ощупью в кромешной тьме -
поди пойми по очертанью -
мир перемалывать в уме,
за тайной тайну!
Сухая белая мука
далёких смутных истин, манна…
нет ничего наверняка,
нет ничего, усни, осанна!
Спи, славословье, спи, тоска, -
без снов, без просыпа, без звука
и на границе городка
чужого – спи, моя разлука:
жизнь не добра, но и не зла,
а так… нема лишь.
Что морок мой тебе и мгла -
забыв про все свои дела,
ты спишь во все колокола
и всё на свете понимаешь!
* * *
Напрасные хлопоты, карточный домик надежды,
сердечко и пика, квадратный бубенчик, трилистник -
дорожка шагов, бесконечно лукавых и лисьих,
обманщицы-жизни, чьи речи темны и мятежны!
Всё слушать, и слушать, и слушать мятежные речи -
пустые слова: позабудем, оставим, уедем…
все наши дороги известны дотошным соседям,
все наши дороги кончаются тут, недалече.
И сыпятся наземь сердечки, трилистники, пики
под звуки бубенчика – частые и золотые,
и сыпятся вслед двоеточья, тире, запятые:
ах, жизни мятежные речи бессвязны и дики!
Куда как нелепы все эти возьмите, храните… -
напрасные хлопоты, карточный домик надежды!
Но там, где кончается время и дни безмятежны,
две парки, пожалуй, уже перепутали нити.
* * *
Искусимся, пожалуй, немного
белым светом в начале весны -
ну-ка, что это тут за дорога,
где не видно ни чёрта, ни Бога,
ни дороги… не думай, рискни:
мы ещё никогда не ходили
мимо стольких далёких вещей -
мимо тонкого этого шпиля,
капителей коринфского стиля…
мимо всех, мимо вся – вообще!
Мимо маленькой, но златоглавой
светлой церкви о трёх куполах,
мимо славы и мимо расправы,
мимо прав, мимо льгот, мимо благ…
Небо ласково, небо сурово
смотрит сверху на милых людей -
и молчит, и не скажет ни слова,
а прекрасная Vita Nuova
лёгкой лодкой плывёт по воде.
* * *
Это всё уже неважно,
это всё уже не суть:
скрипка-и-немножко-лажа -
Бог желает отдохнуть.
Бог сказал, ничто не ново.
Мирозданье, поостынь!
Всё равно до Дня Седьмого -
сколько? Ровно шесть пустынь.
Как это – воздать сторицей
или, скажем, рваться в бой?
Если что-то сотворится,
то не мной – само собой.
Из каких-нибудь материй,
неизвестных естеству,
из фантазий, из мистерий
не во сне – так наяву.
Помнишь музыку былого
в переплёте золотом?
Там, в Начале, было Слово,
да забылось, что потом.
МЕЖДУ ДВУХ СТУЛЬЕВ
…В этом городе прекрасных миражей,
где действительность не знает, что ей делать,
было столько уже разных виражей
на мостах и мостовых заледенелых!
Появлялось божество из-за угла,
и два призрака владели нищей нишей,
и судьба моя меня подстерегла
львиной мордой, неожиданно возникшей…
Это было – я не помню, на каких
длинных улицах без всякого названья
и в каких-то переулочках глухих,
где встречались вы не с нами, мы не с вами,
где к утру уже от жизни кочевой
и от жизни вообще – такая жалость! -
вдруг совсем не оставалось ничего,
сновиденья – и того не оставалось!
* * *
А был когда-то розоват
наш белый свет – и, между нами,
приятно было называть
своими – вещи – именами
и говорить: кольцо, стрела
и поплавок из пенопласта! -
какие громкие дела,
какое лёгкое богатство…
Вот так, длина, и ширина,
и угловатость, и овальность:
мы называли имена -
и вещи тут же отзывались.
Но искоса, не в полный глаз
всё это время жизнь другая
хитро разглядывала нас,
наш смутный час подстерегая, -
Искусство… кто же виноват,
что ты всегда шутило с нами
и заставляло называть
чужими – вещи – именами!
* * *
Минувшая жизнь, имперфект и аорист -
подумайте, что за дела!
Я вдаль проводил мою повесть, как поезд,
и повесть, как поезд, ушла.
Зелёный фонарик далёкой свободы
уже догорает – и вот
затеплился красный фонарик: субботы
и милых домашних забот.
Убрать со стола, заварить себе кофе -
и долго смотреть из окна
на двор в сентябре, на качели в покое,
на облако в виде слона.
И вдруг – отойти от окна: беспокоясь,
как с этого самого дня
невнятная совесть по имени Повесть
одна проживёт, без меня.
* * *
Ступать из полымя в огонь
нетвёрдою ногой,
из одного дождя в другой,
из сумрака в другой -
по двум концам одной прямой
нас развели с тобой:
шаг из не-дома не-домой -
словно из боя в бой.
Из полыньи да в полынью,
с обрыва на обрыв,
с моей планеты на твою -
зонта не приоткрыв:
я дважды вымок и просох,
пройдя из шквала в шквал,
я дважды умер, видит Бог,
и дважды выживал -
кидаясь из броска в бросок
по скользкой мостовой,
как маятник твоих часов,
бессменный сторож твой.
ПСАЛОМ
Где безумные люди в безумии дней
уповают на зыбкий песчаник
и на нём воздвигают постройку – и в ней
пребывают в делах беспечальных,
там для нас нет ни родины, нет ни родни,
ни прибежищ – ни явных, ни тайных!
Ибо нам с тобой светят иные огни
в наших лёгких и бедных скитаньях.
И пока, окликая нас словом чужим,
в отдаленьи беснуется форум,
мы в дешёвом кафе переждём нашу жизнь
за сердечным одним разговором:
переждём как какой-нибудь дождь или как
полоумный какой-нибудь морок -
в двух шагах от того, кто живёт в облаках…
Ибо Он приготовил нам Город.
* * *
Среди всегда кочующих громад,
прикинувшихся жизнью и искусством,
мне – сколько места можно занимать
не в жизни вообще… в твоей, допустим?
Аршин-другой, но дальше – ни ногой,
ни взглядом и ни помыслом случайным:
там не моя земля, там я изгой,
чужой твоим преданиям и тайнам.
Полпесенки оттуда, полсловца,
полпирога, полплитки шоколада,
одна восьмая светлого лица…
И хорошо, и правильно, и ладно:
благослови, Господь, твои шаги,
твой разговор со мной вполоборота
и все твои не-предо-мной-долги,
и все твои не-обо-мне-заботы.
* * *
В честь уже наступившего лета
на пустынной одной мостовой
вот тебе одуванчик салюта
надо всею твоею Москвой.
Это что-нибудь вроде подарка -
одуванчик, смешной сувенир,
это так, как от бублика дырка
или след от бесцветных чернил.
Это что-нибудь вроде привета.
Только так и могу я, увы,
посигналить тебе – через лето,
через тёмную бездну Москвы.
* * *
Осень, осень, золотая мишура,
бросим, бросим эту жизнь: давно пора
нам на лодочке какой-нибудь убогой
отправляться, захватив с собой черпак!
В самых общих, как мне кажется, чертах
мы поедем с Вами с печки на чердак -
пропылённою скрипучею дорогой,
чтоб однажды, через много-много лет,
вдруг прибыть на отобеданный обед,
на котором ни друзей, ни близких нет,
и закончить всё беспечной чашкой кофе
за одним столом с надеждой дорогой!
Хорошо, когда в печи трещит огонь.
Хорошо, пугая пламя кочергой,
золотые собирать в щепотку крохи
этой жизни, не жалея о другой.
* * *
То, что мы когда-то знали,
мы забыли позабыть -
и всё теми же глазами
плохо видим новизну,
и умеем мимоходом
поздороваться с чужим,
с незнакомым небосводом,
как с приятелем: привет!
Два тысячелетья с лишним
пронеслись во весь опор -
и не слушаем, а слышим
стук подков издалека.
Время, полчище Мамая,
в сумраке пороховом -
там, где жизнь глухонемая
бьётся в танце вековом.
* * *
Прекрасный белый особняк,
в котором были мы на днях,
стоит, задумавшись глубоко.
И в тонкой галерее сбоку
гуляет маленький сквозняк.
Нас больше нет в особняке -
и друг от друга вдалеке
мы совершаем нашу память,
к которой нечего прибавить,
весь мир сжимая в кулаке.
И, если силой сквозняка,
нас, как вот эти облака,
однажды вынесет со свету,
дай Бог нам встретить участь эту,
не разжимая кулака:
в котором мост, за ним дворец,
а дальше – лес, и в нём скворец,
минутной вечности глашатай…
И мир нам сладок, как зажатый
в ладошке детской – леденец.
* * *
Мир дольный и мир дальний,
долина и небеса…
Мир данный и не-данный -
нет, данный на полчаса
и взятый назад – вольным
движеньем: поднять флаг!
Мне пусто в моём, дольном,
а в дальнем твоём – как?
Оранжевым занавешен
на окнах твоих свет.
Я в дольном моём – грешен,
ты в дальнем твоём – нет.
И с тёмной моей тайной
на горнее божество
смотрю я – на твой, дальний,
из дольного – моего.
FORTUNA PRIVATA
1989–1990
Это облако не виновато,
это дерево тут ни при чём -
виновата Fortuna Privata,
громыхнувшая тонким ключом, -
и такие забытые бездны
приоткрылись в покое моём,
и такие безумные песни
полетели в зелёный проём!
Ах, фортуна с повадками феи,
как умело взялась ты за нас -
молчаливой старушкой в кофейне,
предлагающей кофе вразнос,
продавщицей в газетном киоске,
выставляющей всякую чушь,
чужестранкой на беглом наброске
на арбатском – бумага и тушь.
У цыганки есть сладкая вата:
что ни ком, то пушистый цветок!
Это тоже Fortuna Privata,
только носит беспечный платок
и игривые бусы на шее,
и бесценную цепь иногда…
И всё длится чреда превращений,
бесконечная эта чреда.
* * *
Несовершеннолетнюю каргу
Психею – к карусели привязали:
мелькают дни, летят перед глазами -
не знаю ничего, стой на кругу!
Не знаю ничего, стой на кругу -
на тонком берегу, бок о бок с бездной,
и неизбежность силы центробежной
ещё спасёт тебя, стой на кругу.
амри и никогда не отмирай,
зажмурь глаза и думай о Лауре -
какие б ни свистели мимо бури,
каким бы дальним ни казался рай,
как ни томили б старые долги,
как старые грехи ни звали б с круга…
И будет петь шальная центрифуга,
нестись вперёд и не видать ни зги!
Я прилечу так скоро, как смогу,
на сером волке, на лошадке белой -
ты ничего для этого не делай,
ты лишь постой ещё… стой на кругу!
* * *
Милый случай, проводник слепой,
как ты знаешь нежную дорогу,
милый случай, предстоящий року,
лёгкой управляющий стопой!
Милый случай, златокудрый бог,
потерявший в небе погремушку,
будь здоров и счастлив, потому что
ты однажды мной не пренебрёг.
Хорошо, взлетевши над толпой
и держась за поручень небрежно,
на подножке бешеной надежды
зайцем путешествовать с тобой!
* * *
И снова нам встречаться не с руки,
и снова нет в пучине жизни брода…
Ты пересчитываешь лоскутки
бесценной, золотой твоей свободы,
а я всё тку и тку – из тонких строк,
тку день и ночь… я многорук, как Шива,
тку ткань одну, да только всё не впрок:
никто не просит ничего большого!
Однако я – хоть хохочи, хоть плачь -
какой-нибудь заржавленной железкой
всё тку, и тку, и тку – силезский ткач,
всё тку, и тку, и тку – паук силезский.
Я что… я полотно сплошное тку-
хотя куда уж правильней и легче
взять лоскуток, приставить к лоскутку -
полвстречи, да потом ещё полвстречи,
да четверть… дескать, так и наберём,
лоскутники, себе на одеяло -
в метро, да под вечерним фонарём,
да около киоска у вокзала!
* * *
«Увидимся через два дня…»
Два дня короче, чем неделя, видит Бог,
два дня короче четырёх, короче трёх,
два дня короче очень многого на свете,
но, к сожаленью, не короче, чем один.
К двум дням уже подходит слово «чемодан»,
и, скажем, «аэровокзал», и «Магадан»,
два дня есть маленькая свита – в этой свите
я замыкающий и плохо вижу цель.
А цепь звенит, и на цепи поёт свирель,
поёт о жизни нескончаемой своей
в теченье двух в теченье дней… в теченье века -
какой тут век у нас и что тут за страна?
Два дня – Великая Китайская Стена,
в сон уходящая, пришедшая из сна,
два дня – река, строка гекзаметра, улика…
ЦЕРКОВНЫЙ ХОР
Послушаешь: поют! А жизнь, сама собою,
проходит стороной – такой напрасный труд…
но мы идём за ней тяжёлою гурьбою -
замрёшь на полчаса, послушаешь: поют!
О чём они, когда так тесно в расписаньи
сгустившимся часам, когда не до молитв, -
забыв про небеса, живём под небесами,
а вспомнишь небеса, послушаешь: болит!
Внутри болит – и жмут плащи, пальто и шубы,
жмут хижины, дворцы, и все пространства – жмут,
и музыки почти совсем не помнят губы,
и полотно судьбы почти свернулось в жгут,
и жгут лучи светил – дневного и ночного,
воспоминанья жгут, свистя, как тонкий прут,
но больше жгут стихи: в них жжёт любое слово -
опомнишься от них, послушаешь: поют!
Бумажный храм мечты, надежды храм картонный,
светлопроцветшии крест, как сон твой, невесом…
Но как они поют – над бездной, у которой
гуляем мы с тобой, забывши обо всём!
* * *
Как объяснишь, что нет невинней нас!
Невинны все, кто попадает в бурю,
невинны все, бредущие вслепую,
и все, кто верит в случай и в Богдаст.
Невинны все гонимые и все
отверженные, ибо – за чертою,
и все, кто говорит «я вас не стою»,
и все, чья жизнь висит на волоске.
А нам осталось жить – ну, день один,
ну, триста лет, ну, сколько пожелаем:
ведь всё равно за быстрым поцелуем
мы жизнь и всё на свете проглядим -
и нету никакой вины на нас:
невинны, кто отведали лавины.
А те, кто любят, много раз невинны -
они и умирают много раз.
И. СТРАВИНСКИЙ. ПЕТРУШКА
1
Февраль весь белый, весь в извёстке -
и даром что молодцеват!
Сейчас я выйду на подмостки
и стану плохо танцевать,
и все увидят, как увяли
мои пустые рукава,
и денежку дадут едва ли:
я деревянный, я дрова.
Но будет музыка, как мука,
меня к движенью понукать
и помыкать мной: дескать, ну-ка -
и будет ниже поникать
колпак, чьи бубенцы озябли,
пока пылал ваш карнавал…
Потом прибьёт меня хозяин
за то, что плохо танцевал -
до крови… и, трясясь на нити,
я повторю свои слова:
я деревянный, извините,
я деревянный, я дрова.
2
А она балерина, а я…
на нея обращают вниманье:
она кружится, снег поднимая, -
будто вовсе и нету ея!
У нея голубые глаза,
а на туфельках множество пряжек -
золотистых: она ими пляшет,
а глазами – глядит… и нельзя
потому не любить ея глаз,
и нельзя не любить ея пряжек -
тех, которыми так она пляшет,
исчезаючи в танце от нас!
Она пляшет и снег бередит -
и не видит меня на отшибе:
почему мы такие чужие
и она на арапа глядит?
Он ведь ей не родня, не ровня -
он из дальней страны окаянной…
Я не буду такой деревянный:
Госпожа, погляди на меня!
3
Это балаган, балаган, балаган -
балаганный дед веселит, веселит,
барабанщик бьёт в барабан, барабан -
барабан гудит, басовит, басовит.
А шарманка тоненько этак поёт,
и шарманщик крутит за ручку мотив,
и шарманщик розовый билетик даёт -
то-то будешь счастлив, ему заплатив!
Кто бы мне билетик такой подарил -
я ему за это спляшу и спою!
В ящике чудесном полно балерин -
может, я найду среди них и свою.
Ан – проходят мимо, и то… балаган:
что им до Петрушкиных малых забот! -
Там с лотка торгуют, там страшный цыган
медведя ручного на цепке ведёт…
4
Вот они наконец наигралися мной -
я им тут вроде, как бы сказать, тамбурина.
Но закончился день этот, злой и смешной,
и ко мне приходила моя балерина!
Шла дорогой своею, по лестнице шла
и – зашла на минуту, зашла – и пропала:
перепутала дверь… так планета мала!
И растаяла облачком тонкого пара.
Я сегодня, наверно, уже не умру -
я сегодня богат: пусть чуть-чуть, пусть нечестно!
Пронеслась себе тучкой на летнем ветру,
и растаяла вся, и – растаяв – исчезла.
Жизнь прекрасна, она потому и пройдёт -
о, как много мне счастья она подарила:
карусели кружились, резвился народ
и ко мне приходила моя балерина!
5
Да что ж арап… он прислан на потеху,
и в его жилах чёрная вода,
он зол и глуп, он молится ореху -
ты с ним, мой ангел, не танцуй тогда!
Смотри, как я умею прыгать: оп-ля!..
А он – тяжёлый, что твоя руда,
и страшный: у него большая сабля -
ты с ним, мой ангел, не танцуй тогда!
Ему не внятен твой чудесный щебет,
но он тебя похитит из гнезда:
он никого на всей земле не любит -
ты с ним, мой ангел, не танцуй тогда!
Он саблею меня загонит в угол
и не оставит от меня следа.
Ты и тогда с ним не танцуй, мой ангел, -
танцуй со мною… даже и тогда!
6
Если фокусник прикажет мне: пляши! -
я спляшу ему: как фокусник прикажет.
Если фокусник прикажет: не пляши! -
так не буду.
Если фокусник прикажет: хохочи! -
я ему захохочу: как он прикажет.
Если он прикажет мне: не хохочи! -
так не буду.
Если фокусник прикажет мне: умри! -
я умру ему: как фокусник прикажет.
Если фокусник прикажет: не умри! -
так не буду.
Если фокусник прикажет мне: люби! -
полюблю я балерину балерину.
Если фокусник прикажет: не люби! -
полюблю я балерину балерину.
7
Славное гуляние: кони летят…
карусели крутятся – кони и львы!
На коне оранжевом скачет дитя,
а на льве лазоревом – я или вы.
Славное гуляние: искры летят!
Каблучки цыганочек – точно кремень.
Тут у жизни праздничной все мы в гостях:
разумей, голубчики, ах, разумей!
Славное гуляние: сполохи летят!
Что ж это за музыка, столько огня… -
шапито приветствует: бейтесь в сетях
без меня, голубчики, ах, без меня.
Славное гуляние: головы летят!
Вон моя валяется возле крыльца:
тут у жизни праздничной все мы в гостях -
распотешь нас, Масленица… Мас-ле-ни-ца!
* * *
И вечер неплох, и погода совсем неплоха -
и есть полстиха, и ещё полстиха наворкую,
но невыносимо горят и горят облака
над далью твоею, куда мне нельзя ни в какую.
Вот, тоже мне… средневековье – на самом краю
двадцатого века, в Москве, на Суворовском, в десять!
Не странно ль, что я ещё жив – и, к тому же, пою,
в то время как надо б давно меня было повесить?
Хотя ведь… меня не возьмёшь: у меня есть копьё,
копьё и улыбка – и с ними я выйду сражаться
за имя твоё, за короткое имя твоё -
ах, нет ни копья, ни улыбки, и это ужасно.
А небо горит и горит над толпою окон:
и там твоя жизнь, среди них, – золотая, другая,
чей чистый огонь, чей высокий и чистый огонь
мне крыльями машет – оттуда меня обжигая.
* * *
Ты, как браслет, сняла запрет -
и сразу всё переменилось:
и на углу стоит Конь Бред,
копытом бьёт, скажи на милость…
Как безмятежно нам теперь,
как дерзко нам и как нелепо!
Привет, полубиблейский зверь,
ты с неба к нам? Ну, что там – небо?
Всё бредит жизнью без конца
и облаками золотыми,
всё заговаривается
и то же поминает имя,
всё треплет старенький мотив
по тем пространствам ненаглядным,
куда и мы с тобой, мой ангел,
махнём, поводья отпустив?
* * *
Когда сухому снегопаду,
когда слепому музыканту
наскучат площадь и зима,
он убежит с пустого бала
играть о чём и как попало,
бесчинствовать, сходить сума
и путать карты и маршруты,
тысячелетья и минуты,
а также ноты и слова,
а также всё, что было с нами
и не было, а было снами:
Шираз, Венеция, Москва…
И мы заблудимся в метели -
мы не хотели, не хотели:
мы шли за музыкантом вслед,
чья музыка была сначала
тиха, а после одичала -
и больше нас на свете нет.
* * *
И увидел я новое небо и новую землю,
ибо прежнее небо и прежняя земля миновали…
Иоанн Богослов
И увидел я… нет, я сперва ничего не увидел -
я совсем ничего не увидел, я понял с усильем
сразу всё: почему называется идолом идол,
почему идеал – идеалом и символом – символ.
И ослеп, и оглох, и запутался в фразе невинной:
что-то вроде поймите-простите-позвольте-не-надо -
и потом онемел, и меня задавило лавиной
листопада любви, снегопада любви, камнепада.
И валилось из рук всё, за что я хватался руками:
было землетрясенье в Москве, в безмятежном апреле -
и все смерчи сцепились в клубок, все изверглись вулканы,
и все реки из всех берегов выходили, кипели и пели.
И все реки кипели и пели, неслись и рыдали
и смеялись, как будто напившись зелёного зелья…
Пелена спала с глаз – и открылись незримые дали,
и увидел я новое небо и новую землю.
* * *
Ты возьмёшь себе это и то -
и, сестричка-фортуна,
мы сойдёмся за детским лото
из цветного картона:
это – яблоко, это – ружьё…
С дружелюбной враждою
мы сыграем в твоё и моё -
и в ничьё и чужое.
А когда уже всё раздадут -
даже всякую мелочь,
я останусь внакладе и тут.
Ничего, что ж поделать:
слишком мало на свете вещей
(это – хлеб, это – вишня) -
кто-то должен остаться ни с чем:
извините-так-вышло.
За вещами уйдут имена
(это – снег, это – порох) -
из всего, чего нет у меня,
можно выстроить город.
А представишь себе, что – потом:
ад, чистилище, дескать… -
всё вокруг только пёстрый картон
этих карточек детских!
* * *
Что память, что обманщица поёт,
когда трещат основы мирозданья
и забивают наглухо, гвоздями,
вольнолюбивый – на ночь – небосвод?
Какая там луна или звезда -
не нужно благородного металла,
а нужно, чтобы небо никуда,
любезное, ночами не летало,
чтоб посреди вселенской пустоты
дремучая, как лес и совесть, дрёма
привязывала буйные кусты
к стене полуобрушенного дома.
Но память-лгунья, в зарослях шурша
прелестными, бесчестными словами,
рисует очертанья шалаша,
и юность, и очей очарованье,
и может статься – почему бы нет? -
что, напевая песенку кривую,
обманщица сия, сия певунья
нас как-нибудь да выведет на свет!
* * *
Всего и дела что – вздохнуть,
расширив суток промежуток!
Как знать, а вдруг от этих суток
и мне перепадёт чуть-чуть?
Минут пятнадцать возле Вас,
не веря этакой удаче,
не думая, что будет дальше,
но – набирая про запас
два взмаха рук, два слова уст:
мне жить ещё!..
И, между нами,
сухой паёк воспоминаний
не так-то уж и плох на вкус:
слезой разбавишь и – живёшь
на хлебе и воде былого,
весь день твердя два Ваших слова,
а прочих слов не ставя в грош.
У встреч обуглены края.
У вечности шаг черепаший.
А эти клочья жизни Вашей -
они и есть вся жизнь моя.
ОКТЯБРЬ
Ещё и завтра будет жизнь у нас:
ещё не вся природа облетела,
ещё не вся душа ушла из тела
и не настал последний раз и час -
ещё и завтра будет жизнь у нас.
Шарф завтра дошуршит свою балладу
зонт высохнет до завтра как-нибудь -
и начатый в апреле крестный путь
продолжим завтра мы по снегопаду:
ещё и завтра будет жизнь у нас.
И будет в небесах сиять Парнас,
и будет намекать на близость рая.
Ещё и завтра будет жизнь у нас -
я говорю, сегодня умирая.
Ещё и завтра будет жизнь у нас.
СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ
В Москве светает, а тебя увозят.
В Москве суббота, а тебя увозят.
На девяти вокзалах стон стоит
и плач стоит: это тебя увозят.
Тебя увозят – и звонят все церкви,
летят все птицы, и звонят все церкви -
все сорок сокрушённых сороков,
но нет других – и вот: звонят все церкви.
Звонят все церкви, все мосты сгорают:
пожар в Москве – и все мосты сгорают,
я на пылающий ступаю мост
и знаю, знаю: все мосты сгорают.
Мосты сгорают, а тебя увозят.
Куда бежать? Они тебя увозят!
Проснись, глупец, опомнись: кто – «они»?
Не знаю, но они тебя увозят…
КАК ВЕРИЛ БИСЭЙ
Ради этой минуты я ехал, и ехал, и ехал -
в обезумевшем поезде, полном рассвета и дыма,
оставляя свой дом, свою родину – махом и чохом,
нелюдимо косясь на соседей, куря нелюдимо.
И потом я стоял, и стоял, и стоял: изваяньем,
истуканом, болваном – на самом краю ожиданья,
и мелькала в толпе золочёная пряжка твоя мне,
но была не твоя, а чужая и снова чужая.
Я там прожил ещё одну жизнь: я родился и вырос
прямо возле метро – в самой гуще кишащей, прохожей -
и навеки впитал в себя злую рассветную сырость
всем моим существом: всей душою, всем сердцем, всей кожей.
А настала пора умирать – я сказал себе: полно,
человек-не-пришёл-значит-так-человеку-угодно.
И меня поглотили холодные чёрные волны
безысходной толпы у подземного у перехода.
* * *
Спасаться стихами – чужим, бестолковым их шумом, -
ловить журавлей по холодным, по зимним бульварам,
быть призраком лета косматым размашистым шубам
в пальто – моложавом и узком, но грузном и старом.
Я вам прихожусь, дорогие мои, неизвестным,
двумя неизвестными – маем и вместе июнем,
я вам пригожусь – вашим спальням, огням, занавескам -
как тень или воспоминанье о чём-нибудь юном.
Бульварный напев, стиховой перепев журавлиный,
молох снеговой!., и, запрятав тепло под ресницы,
я вижу оттуда снега – неизбывной лавиной,
и мёртвые падают под ноги с неба – синицы.
* * *
Скажи, копеечка-орлом,
могу ль я под твоим крылом
в таком горячем мятеже
не пребывать уже -
и не молиться до утра
о том, чтоб жизнь была добра
с зеленоглазым существом,
с которым Бог нас свёл?
Скажи, копеечка-орлом,
ведь нет опасности в былом
и можно не бояться за
зелёные глаза -
переходя пучину вброд,
пока судьба слепа, как крот,
пока безмолвствует народ
и дурачок поёт?
Скажи, копеечка-орлом,
не сам ли Бог ли за углом
с улыбкой стережёт меня,
монетками звеня?
«Пой, говорит, мой дурачок», -
и поддевает на крючок
надежды, и блестит крючок,
и счастлив дурачок.
* * *
…а пока я Вас чуть-чуть ревновал
то к деревьям, то к траве, то к воде,
позади меня случился обвал -
я не знаю, как случился и где.
Даже, в общем, не обвал никакой -
просто осыпь небольшою волной,
просто гравия щепотку рукой
кто-то тронул у меня за спиной.
А за осыпью за этой вослед
потянулись, как стихи наизусть,
тридцать, стало быть, с верёвочкой лет -
за которую пока что держусь,
и которая не так уж прочна,
и которая не так уж нужна -
и которая дрожит, как струна,
как натянутая Вами струна.
* * *
Туман обвис и поредел,
и смилостивилась природа,
а золотая-рыбка-день
блеснул, плеснул – и снова в воду.
Но сразу несколько надежд
успело промелькнуть в просвете,
заполнив золотую брешь:
на жизнь, на счастье, на бессмертье.
Сегодня к завтраку капель
и разговор по-итальянски,
а к ним – нежнейшая свирель
и гиацинты в тонкой склянке,
но это позже, а пока
туман сползает с низких веток -
и так светла и коротка
улыбка ночи напоследок!
* * *
Гуляй, моё счастье, не тут – так там,
не там – так ещё где-нибудь:
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































