Текст книги "Смертию смерть поправ"
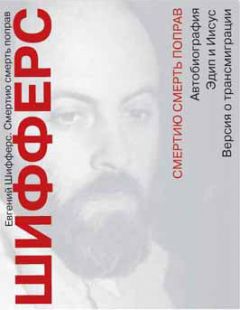
Автор книги: Евгений Шифферс
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Пациент № 3
Отчим Фомы был строгим существом в крахмальном воротничке и коричневой шеей на нем, которые (воротнички и шею) он наследовал вместе с многими старыми книгами по психологии, вместе со своим естественным интересом к ней, потому что и отец его, и дед были профессорами сей славной науки, привили к ней уважение маленькому отчиму Фомы, сделали его желание продолжить дела предков естественным, веселым, единственно нужным и возможным, и Фома, который так просто и отобразил его в своих диалогах «Круги», не врал, когда отмечал, что щечки профессора победно алели после какой-нибудь удачной выкладки. Нечто подобное говорил Фома мальчугану, который прикрыл его на девятом этаже и стал бывать в доме, потому что очень полюбился Ирине, а сейчас неторопливо качался вместе с ним на скамейке чертова колеса под скрип ржавости и весны. Нет, ты знаешь, когда я увидел в списке отца своего отчима, я удивился, прямо-таки, скажу тебе, чуть не лопнул от удивления, потому что, понимаешь, выходит, что они были знакомы, а? Вели беседы? Или они не знали о своем странном сродстве? Здесь очень много вопросов, спаситель, почти так же много, как и ответов на них, и ни один из них, уж поверь мне, не будет решен нами верно, ни в чем нельзя быть уверенным, когда имеешь дело с такими людьми, как отчим, суди сам, кто бы мог думать, что этот лощеный господин из ватаги отца, из ватаги Арахны, что и он пробит неторопливо брести по кругу, и знает о своих кандалах? Ей-же-е-й, малыш, то, что я рассказал о нем в «Кругах», лишь десятая доля того, что в нем есть, хотя да, ты ведь не читал всего этого, но если поднатужишься и представишь всех старых учителей химии с вечно мытыми руками и носом, ищущим яд, с глазами настороже, не сожрал ли кто мышьяку на уроке, так вот, если соединить их всех в одного, то и будет мой отчим, и он-то, ты понимаешь, с их высокой горы?
А куда это, куда, куда, куда, денет он свои полосатые английские брюки и короткий твидовый пиджак? Повесит там на горе пугать ворон пугалом? Что ты скажешь на это? А булавку с камнем из жилета? Нет, я тебя спрашиваю, малыш, ты меня спас, ты должен был знать, на что идешь, так отвечай мне, отвечай, куда он денет булавку с фамильным камнем из жилета? И батистовые сорочки? И трубку, прекрасную прямую трубку, подаренную коллегой из Кембриджа, куда он денет ее? И халат? И пилку для ногтей? Ну, что ты уткнул нос в свой драный шарф, отвечай мне, раз уж ты прикрыл меня цыпленком, круглоглазым цыпленком с пушком на шее, раз оставил меня опять пастырем, отвечай, или я брошу тебя вниз, и мы поджарим тебя сосиской со смазчиком, и запьем, запьем-заглотнем? И его мышиный дог останется выть по ночам? Кто бросит ему кость в мясе с корицей?
ОГЛЯНИСЬ-ОГЛЯНИСЬ-ОГЛЯНИСЬ-ОГЛЯНИСЬ-ОГЛЯНИСЬ-ОГЛЯНИСЬ-ОГЛЯНИСЬ.
ПОСМОТРИ ВНИЗ-ВНИЗ-ВНИЗ-ПОСМОТРИ-ПОСМОТРИ-ПОСМОТРИ-ВНИЗ-СЮДА.
Раскачивая качалки, обрывая мышиную кожу о крючья и гвозди сидений, снизу-вверх-раз-раз-раз-с коротким задавленным хрипом, лез к ним сильный зверь, он даже стал вращать колесо, так ловко и ритмично его лапы били назад тяжесть, все ускоряя вращение, как бежит лиса или куница в замкнутой своей круглой клетке, – все ближе и ближе к ним, к Фоме и мальчику, лез серый дог отчима.
Фома перегнулся и с интересом ждал, потом ему вдруг представилось, что вот сейчас, между этой и этой скамейкой, зверь сорвется, скребнет передними лапами, откачнет опору и с злобным криком, изгибаясь, ища упругость четырех лап, прянет вниз, Фома даже руки вытянул перед собой, так напрягся он в своем падении. Пес тревожно притих, его испугал чей-то приказ не достать и пасть вниз, но он все же прыгнул, неловко поскреб когтями о податливое железо, провыл вниз, остался лежать; мальчик заплакал, а Фома провел по глазам, вдавливая их, закрывая, убирая их прочь, он знал, Фома, что виновен в этой глупой смерти посланника, потому что забылся и прожил его смерть, и тот получил приказ, и ждал последние секунды, недоумевая, неторопливо недоумевая, что же это за странность приключилась с ним, кто же это вмешался и не дал ему выполнить волю хозяина, не дал притащить Фому вниз, где там, куда он упал сейчас, стоит отчим; хорошо хоть он смог, пес, немного поискать в воздухе и присмиреть у знакомых ног, босых ног, совсем босых, необутых, странно мерзлых в этой весне, странно беззащитных, как и сам хозяин эти последние дни, когда он совсем перестал следить за собой, да и за ним, за псом, хорошо хоть удалось подползти немного и прикрыть эти холодные стыдные ступни, немного пригреть их в оставшийся раз.
Смазчик дал свою кирку из пожарного инструмента, пса зарыли, пошли по домам, а Фома и отчим Фомы потом тихо вернулись, вернулись, не сговариваясь прежде, а просто каждый знал, чтобы прийти назад к огню, чтобы понять, чтобы уж не откладывать и попытаться сговориться, и каждый умел, что другой придет, что суждено. Мальчик, которому дали покопать наравне со всеми, немного успокоился, но все же плакал, потому что очень устал эти дни, эти этажи, устал дракой, они пошли со смазчиком вместе, и тот грел его пахучей телогрейкой, немного даже нес на руках. Сегодня смазчик кончил в основном чистку, везде, где достал, снял ржавчину, лечил колесо густо маслом, оставил его вертеться, чтобы сработалось и притерлось все в нем, чтобы завтра в обед сдать начальству; колесо тихо и хорошо пошло, шумнуло легким ветром, и костер прилег к земле.
Глава одиннадцатаяФома читает вслух
Отчим Фомы сидел и смотрел в огонь, молчал, сидел и смотрел. Его поведение отличалось от прежних пациентов, которые сами начинали беседу, здоровались, просили, признавали в Фоме пастыря и ждали, что и как он решит, с ними было легко, устанавливалась сразу какая-то ясность, было из чего выбирать, а сейчас вот сидишь на пеньке и не знаешь, как быть, может, отчим и не пациент вовсе, а Фома не пастырь? Сидел отчим Фомы просто и строго, его совсем не стесняли рваность одежды и босые белые ноги в темноте, он просто не знал о том, что не одет, и голову держал так же прямо, словно торчала в кадык свая воротничка, не давая ей наклониться никогда-никогда-никогда. Иногда отчим Фомы протягивал к огню руки, но тут же отводил их, не донося до тепла, и это было как-то обидно и странно, вот протянул, чтобы явно согреть, и вот забыл на пол пути об этом, вот взял их назад, положил рядом на мокрую землю. Потом отчим Фомы привстал и шагнул немного влево, где был небольшой холмик над собакой, сел там, опять протягивая вперед руки, и отводя их назад, но там огня не было, и Фома услышал собачий вой из земли, прощальный, тягучий, чтобы припомнил кто. Фома стал рыться по карманам, доставая какие-то смятые бумажки, расправлять их у огня костра, одна или две упали и зажглись, но он искать их не стал, а смотрел, как они догорели, как стали ломкими и черными; потом он сел так, чтобы огонь позволил ему прочесть написанное и грел спину, сказал, что вот он тут недавно написал историю, которую хорошо бы снять в кино, вот он сейчас ее почитает, а о деле отчима они поговорят как-нибудь в другой раз, и начал не очень разборчиво, вглядываясь в мятость листков, запинаясь, складывая прочитанные под коленку, сказал, что пусть будет название «ЧИСЛА». Отчим сидел тихо, двигал иногда руками.
1.
Мальчик в белой форме гимназиста смотрит в одну точку, смотрит неизбывно, жадно, словно пьет.
Он стоит на коленях на белом полу белой церкви; и лики святых сзади и сверху, и вокруг – вариации белого цвета. Слышно бормотание и всхлипы, невнятные и аритмичные в звуке, не подчиненные нашим законам, а их законов не знаем мы. Мальчик (ОН) жадно пьет и эти звуки. Иногда его трогает в лицо синий дым.
2.
Мальчик понимает и дым, и смотрит, смотрит в свое горе, и благодарен дыму за ласковое прикосновение к коже. Благодарен он дыму еще и потому, что дым помог найти слезы, которые так нужны, и которые никак не могли упасть, а сейчас вот принесли облегчение, большое облегчение, потому что был еще к горю примешан острый стыд, что нет слез, что вроде не жаль отца, правда, стыд людской, перед людьми, потому что бог знает, как он любит отца, но все же было стыдно перед этими белыми людьми в длинных одеждах, и теперь вот пришло облегчение.
3.
Пришел в тишину звук плача, и люди, поплывшие по белому кругу, тихо, чтобы не вспугнуть, покойно и добро улыбаются.
4.
Покоен и улыбчив отец, который лежит, что-то познав иное, он слушает воркотню отпевающих, слушает всплески плакальщиц, знает, что ему нужно потерпеть, чтобы живые могли до устали и пустоты поиграться в эту красивую игру, чтобы пришла вместо горя, сухого, дерущего песком нутро, горя, пришла тихая и светлая, белая печаль. Отец знает, что надо потерпеть, и рад, что вот услышал, наконец, слезы сына, рад, что тот сумел.
5.
Бродит в каком-то своем ритме, белом ритме, белый священник, слепо тыкается в разные стороны, вздрагивает испуганно кадилом. Он отпевает своего приятеля, такого же, как он, иногда думает, что отпевает самого себя, пугается еще больше, начинает резко и ненатурально взмахивать руками.
6.
Об этой его пугливой игре знает отец и знает сын, мальчик, который сумел заплакать, и РАДОСТНО ощущает, как прохладой сохнут полоски слез. Он смотрит и тихо-тихо улыбается боли в себе.
7.
Он и услышит злобный, жадный, лиловый собачий лай, собачий вой, собачий шелест и писк.
8.
По пустой белой церкви, где только вон там в углу белая точка мальчишки, а в другом белая неподвижность гроба, рыщут лиловые псы.
Пять или шесть крупных вожаков, оставляющих лиловые следы на белом бескрайнем полу, и шелестящая, почти безликая, просто вся целиком движущаяся и меняющаяся стая шавок.
Самое томительное, что они рыщут просто так, играясь и ворча, ищут свой запах, чтобы сделать отметку, но раньше здесь не было собак.
9.
Один уселся на гробе и лижет себя.
10.
Шелестит стая других.
11.
Мальчик открыл рот в крике.
12.
И вот уж бежит по желтому-желтому, вязко-желтому песку мальчик в белой форме гимназиста, бежит-несет на вытянутых руках белого своего отца.
Он бежит надрывно, пот и слезы текут в соленый рот, он бежит, как зверь, с всхлипами и криком, бежит-вязнет в желто-вязком песке.
И шелестящая лиловая стая заметает его следы хвостами, языками, лапами. А впереди желтая-желтая бесконечность, которая колышется в такт его хрипу и бегу.
13.
Вот здесь, за маленьким бугром из песка со спокойными, ласковыми ребрышками замерших волн, отцу будет хорошо. Мальчик быстро и воровато оглядывается по сторонам, где пока еще не видно собак, да и их воя и шелеста не слышно в тиши. Мальчик засыпает отца ласковым песком, ласковыми плавными движениями, как мы играем в жаркой одури пляжа, когда хороним друг друга.
Мальчик играет песком, пропускает его между пальцев, тихо-тихо, забыв обо всем, улыбается отцу.
14.
И вот опять он слышит лиловый вой.
И вот он стоит на коленях, и скребущими, пугливыми, нехорошими движениями кошки, забрасывает за себя песок, которым бьет отца по глазам, насыпаясь в их впадины и осыпаясь на скулах, превращает спокойное и доброе лицо отца в белое пятно с желтыми засыпанными кругами глаз.
15.
Поворачивается мальчик, чтобы поцеловать отца в последний раз, видит СОДЕЯННОЕ им, кричит и закусывает костяшки пальцев.
16.
Старенький будильник в полутемной комнате на стуле не испугался, а по-прежнему тикает себе свое, меряет меру. Рядом на стуле пузырьки с лекарствами, пепельница, спички, сигареты, книжка с закладкой. Все это лежит спокойно в долгой неподвижности, и полутьма, и эта полутемная неподвижность, и неподвижное в одинаковости тиканье часов, и неподвижный тонкий луч сквозь дырку в занавеске, и неподвижная пыль в этом луче, – вся эта неподвижность хочет успокоить, хочет забыть зыбкость и текучесть желтого песка, когда по нему бежит от погони, белизну и желтую пустоту мертвого отца, белизну и одинокость собственного детства.
17.
Хочет успокоить сердце этого старого человека, который молчал в полутемной неподвижности комнаты, а сейчас сидит в постели, придавив пальцами надбровье. Седая голова, хорошо и чисто постриженные ногти сухой коричневой руки, не слабой, горячей и живой. Неяркая фланелевая пижама.
Он сидит так долго, а потом проводит рукой вниз, сильно стирая, убирая ночь и сны с лица, закусывает знакомо согнутую костяшку указательного пальца.
Потом машинальным движением рука ищет и находит сигареты и спички, и спичка дрожит неярко. Курит СТАРИК жадно и медленно, знает, какая тоска бывает без курева, теперь вот почти мистически соблюдает весь ритуал.
18.
Дым, синеватый, ласкаясь ползет по морщинистым щекам, залетает во все рытвины и дороги, и там затихает, это похоже на уже виденное в его сне, стало быть, они сдружились, дым и человек, и пронесли эту близость в пути, сами не догадываясь об этом, а может быть, просто зная это про себя, и не говоря иным.
Дым не хочет отходить от человека, и СТАРИК гонит его погулять по комнате сильным выдыхом, смотрит, как тот, сизый и легкий, бежит в знакомые и любимые уголки, где спит и молчит ДОЛГАЯ НЕПОДВИЖНОСТЬ.
19.
Молчат книги по стенам, молчат пузырьки из-под нитроглицерина, чисто вымытые, блестящие и живые, они сгрудились в авоське, которая висит на крючке, рядом с пальто и шапкой, на двери.
20.
Долго и неподвижно старое кресло, с лысинами кожи на сиденьи и подлокотниках, в изголовьи, оно греется, щурится, по-стариковски, радо, что солнечный луч, который иглой влезает в дырку занавески, всегда (и первым делом) навестит его стариковскую НЕПОДВИЖНОСТЬ.
30.
Старые, древние занавески, которые разрешили себя продырявить соседской девчонке, никогда не требовали от хозяина починки, потому что видели, ЗНАЛИ, что СТАРИКУ нравится смотреть, как лезет день сквозь дырки в его окно. Они, занавески, шуршат и посмеиваются над СТАРИКОМ, когда он встает и подходит к окну, устраиваясь так, чтобы лучи попадали ему на нос и глаза, именно на нос и глаз, который он щурит, долго и тихо.
31.
Вот и сейчас они молча и неподвижно давятся от смеха, глядя на СТАРИКА, который сегодня проделал этот фокус, эдакие веселые старушки, шутницы, да и только. Вот и сейчас будут старушки цепляться кольцами за палку, чтобы СТАРИК поворчал, открывая занавески, подергал их посильнее, а им этого только и надо, они уж и сильно рады.
32.
Двор посмотрит старику в окно, и СТАРИК посмотрит во двор: они знают друг друга лет пятьдесят, эти стены и СТАРИК, раньше они не молчали друг с другом, теперь вот поняли эту науку молчания и долгой неподвижности, и смотрят по утрам друг на друга, смотрят и молчат, что живы.
СТАРИК не спешит открыть форточку, высокую фортку добрых старых квартир, со шнуром, много раз надвязанным к рукоятке. Он не спешит, потому что знает, как ворвется сейчас голос двора в его тишину, как надо будет жить следующий день. Но вот открыл. И двор крикнул ему что-то.
33.
СТАРИК постоял у стола, где старая пишущая машинка ждет неоконченной страницей. СТАРИК прикрыл ладошкой зайчик, который сидел на клавишах, и сразу выпрыгнул из плена на руку. СТАРИК опять подкрадывается к нему рукой, опять накрывает его ладонью, а тот опять уселся сразу сверху и застыл, грея, лаская старика. Эта работа как раз для меня, ловить вот таких зайчиков, улыбнулся СТАРИК и провел доброй рукой по теплому металлу машинки.
34.
Вдох – глубокий, вдох-выдох – долгий, неподвижный, выдох-вдох – глубокий вдох-выдох – долгий неподвижный выдох – руки вверх – в стороны – вниз – руки вверх – в стороны – вниз – это называется физическая зарядка, и говорят, она очень полезна. СТАРИК любит делать зарядку, но не потому, что она полезна, тут у него есть основания посомневаться, нет, СТАРИКУ просто нравится этот иронический ритм, и эти странные движения руками – руки вверх – сдаюсь – ой, сдаюсь – руки в сторону – ей-богу, не знаю – руки вниз – слушаюсь – слушаюсь.
А какое это удовольствие приседать на два счета вниз, точно не зная, сумеешь ли подняться. Раз-два-раз-два-два. Раз.
35.
Если посмотреть на кухонные столы, то можно с уверенностью сказать, что здесь живут две семьи, а разноцветные трусишки и майки на бельевой веревке кричат, что их хозяйка мала и весела, чистые, белые и в ряпушку эмалевые разновидности, на белой доске над белым столом, говорят об несколько наивном, но явно современном вкусе хозяев и об их явном достатке.
36.
СТАРИК подошел к другому столику старому военной московской поры. СТАРИК элегантен. Светлая рубашка и рукава завернуты хорошо, лихо, только на два оборота манжет. Галстук естественно, немного ослаблен, ворот расстегнут. Он потрогал трусики и майки, и некоторые снял, чтобы не пересыхали, да и не болтались пестротой над головой, положил аккуратной стопкой на белый соседский стол.
37.
Старую заварку он вылил. Долго моет чайник холодной водой, потом сыпет из старой пузатой чайницы, вытертого временем китайца, большую горсть чая. Ставит все это на газ, варит чай по-английски.
38.
Заходит в ванную, и оттуда слышен шум электробритвы. Жужжит бритва, стоит на газовой плите чайник, покачивается пузатый китаец-чайник. Висят на длинной-длинной бельевой веревке детские добрые пустяки.
Долгое неподвижное одиночество.
39.
Он пьет крепкий чай с лимоном из старого толстого стакана. На черном, когда-то серебряном подносе масленка, сыр под стеклянной крышечкой с куском сахара, чтобы не засыхал. Ложка в стакане, он пьет, прижав ее указательным пальцем, просматривает газету.
Сидит некоторое время, бездумно опустив руку с газетой вниз и глядя перед собой.
Потом составляет все аккуратно на подносе и прикрывает газетой, которую сложил крышей домика. Опять немного постоял, словно понимая всю смехотворность его движений, словно открывая их скрытую ненужность и печаль.
Захлопнул лыжной бамбуковой палкой, которая стоит в щелях батареи, форточку, две плоскости стекла и дерева постукались друг о друга, потом стало опять тихо, ушел в тишину и говор двора.
Он втыкает острием лыжной палки в щель паркета, чуть качает палку, она клонится и успокаивается между ребер батареи. Все в порядке. СТАРИК садится за стол, закуривает, придвигает к себе машинку. Смотрит, но не видит написанного вчера. Крутит валик.
Начинает печатать. По сноровке, по спокойствию, по веселому стрекоту ясно, что это занятие знакомо СТАРИКУ, доставляет радость.
40.
Стучит в своем ритме машинка, заполняют черные буквы белую пустоту бумаги, белую пустоту экрана, белую пустоту тишины.
«14 мая, пятница.
Вот мы и добрели с тобой до этого дня, старушка. Хотя какая же ты старушка, ведь я купил тебя всего лишь лет тридцать пять назад совсем новенькой и очень важной, но ведь никто не знает, по какому счету вы там измеряете у себя старость, да и назвал я тебя старушкой, совсем не имея в виду возраст, а скорее нашу с тобой долгую дружбу. Сегодня день особенный вдвойне. Во-первых, и это, конечно, главное, сегодня – пятница, а в этот день по долгим традициям нашей славной квартиры мы убираем места общего пользования, а нынешняя неделя принадлежит мне, стало быть, и Великую Уборку предстоит делать мне сегодня. Конечно, я мог бы согласиться на предложение соседей убирать за меня, тем более что, как они говорили, их дочка играет на моем пианино, когда готовится к музыкальной школе, но нет, мы не позволим себе жить в роскоши, не отнимем у себя права и гордости творить добро безвозмездно, ну вот, ты посмеялась колокольчиком, и я рад, что мои странные шутки не сердят тебя.
Мы с тобой вообще, заметь, становимся забавно похожими друг на друга, я стучу по твоим клавишам, ты что-то там делаешь внутри, и получаются буквы и слова, а ведь так и со мной: кто-то или все, как тебе больше нравится, нажимают на мои клавиши, что-то происходит внутри меня, и получаются слова, жизнь, сны. Да, кстати, проклятье с этими снами, совсем замучили меня, уж я знаю теперь, почему старики не спят по ночам, они просто боятся своих снов. А тебе снятся какие-нибудь сны? И вообще, что ты помнишь о себе, о нас, которые были рядом с тобой? Что помнит старое кресло? О чем все время шуршат шторы, а? Я знаю, что вы тайком смеетесь надо мной, над моими привычками, но знайте также, что я и сам здорово смеюсь и потешаюсь над собой, иногда так весело, что просто жуть. Соседская девочка тоже знает все про вас, и ваши хитрости, и интриги, вашу неподвижную грусть, потому что мы с ней большие приятели, очень большие, почти такие, как с тобой. Я иногда подглядываю за ней, как она тихо трогает всех вас, как она открывает пианино, как улыбается звукам. Я прозвал ее Ленточка, как тебе это нравится, а?
Ты останавливай мою болтовню, ты же знаешь, что у меня много всяких дел, а я, намолчавшись со всеми, болтаю и болтаю с тобой. Во-вторых, сегодняшний день особенный еще и потому, что сегодня день моего рождения, мне стукнуло столько же, сколько двадцатому веку, а, эдакий ровесник века, как тебе нравится это определение, о, не звени, не звени, я сам знаю, что не нравится, слишком много в нем треска, но тебе этот день должен быть приятен: ведь именно в этот торжественный день мы меняем в тебе ленту, которая, что греха таить, порядком выцветает и дряхлеет за год, я сегодня куплю тебе новую, черную молодость. Потом сегодня я отношу в аптеку за углом, надо бы тебе как-нибудь показать ее, все пузырьки из-под нитроглицерина, который я съел за год, и мы будем шутить по этому поводу со старым аптекарем, вернее, шутить будет он, а я буду молчать и улыбаться.»
41.
СТАРИК стоит на кухне и смотрит в окно, синеватый дым сигареты скручивает солнечные лучи в забавную живую вязь. Течет звук воды из крана, которая льется и бьется в ведро, а рядом прислонилась к раковине бамбуковая лыжная палка, из которой сделана швабра.
СТАРИК смотрит в окно.
42.
Вот ведро стало полным, гладь воды успокаивается постепенно, и сразу же начинает схватываться льдом по краям, сюда же ворвался пар и хрип дыхания, и две руки в рваных рукавицах, плеская воду, поднимают и трогают ведро с места.
43.
Это ОН (наш СТАРИК средних лет), в оборванном зимнем тряпье, в сизом, морозном и мглистом пятичасье северного утра, тащит ведро с водой к бараку по пустому двору, который был бы недвижным и строгим, если бы не клубы людского дыхания, которые рвутся наружу сквозь щели запертых дверей. Холодно очень, потому что даже от ведра с холодной водой дымится пар. ОН тащит ведро неловко двумя руками перед собой, плескает воду на себя, чтобы сделать лед, словно нарочно, словно играет в детстве.
Вот вихревое крутенье теплого пара у двери.
44.
Тусклая и долгая неподвижность пустого барака, с геометрией клеток, с прокрашенностью неживой белой известью, с инеем, с одиночеством лампочек, под невысоким и долгим потолком. На этом ДОЛГОМ НЕПОДВИЖНОМ одиночестве барака слышен надсадный, сухой, белый кашель.
45.
Потом на дощатый пол барака плеснут сзади воду, и она растечется черным чернильным пятном, и ОН начнет тереть и тереть впереди себя этот длинный неподвижный пол, тереть руками, головой, кашлем своим тереть. Так он и будет двигаться по неподвижному проходу барака, белого барака, вначале неподвижные клетки, потом дощатая дорога, потом черное пятно на ней, потом кашель и руки, которые трут и трут, голова, которая трет и трет, вверх и вниз, и кашель, и кашель, которому нет конца, как нет конца белым клеткам и дощатой неподвижной дороге внизу.
46.
Потом там вдалеке в далеком белом углу барака ОН увидит старика в светлой рубахе, с приспущенным галстуком, с сигаретой в чистых руках. СТАРИК стоит и смотрит на себя, моющего пол, идущего на коленях в этом ритме-клетки-дорога-пятно-воды-колени-кашель-голова вверх и вниз – бедные мои руки. Вот ОН остановился, стоит на коленях, испуганно, устало и зло смотрит на нас. (Похоже, как гимназист стоял на коленях, когда отбрасывал назад песок в сне старика). ОН дышит в согнутый локоть, чтобы там найти кроху тепла для своей сухой наждачной груди, где только кашель, кашель и кашель, и сердца уж даже нет. Он смотрит на нас, ОН видит нас, видит СТАРИКА, который идет к нему, он кричит сквозь кашель, оглядывается, боится и кричит:
Беги отсюда, беги скорее, если можешь, а ты, видно, можешь, раз как-то попал сюда, смог пробраться, да еще с сигаретой, да в такой светлой рубахе с засученными рукавами, а на улице такой холод. Беги, беги, слышишь, и не приходи сюда больше днем, я так боюсь, что тебя убьют здесь. Приходи, как всегда, по ночам, ты знаешь, я вижу тебя по ночам, только вот галстук у тебя не тот, да зубов не вижу у тебя во сне.
47.
И опять долгая неподвижность пустого барака, когда СТАРИКА уж нет, и потому еще больше пустого и одинокого; и опять дощатая дорога, и вылитая черным пятном вода, и ход на коленях, и кашель, и кашель, и руки, и голова, которая только и умеет теперь, что вверх и вниз, вверх и вниз.
48.
СТАРИК стоит на кухне и смотрит в окно, и синеватый дым сигареты скручивает солнечные лучи в забавную живую вязь. Льется и бьется с шумом вода через край ведра, а рядом бамбуковая палка. СТАРИК смешно побежал к раковине и закрыл воду.
Стало тихо.
СТАРИК вытаскивает ведро из раковины двумя руками, плещет на себя и на пол, потом ставит ведро к двери на вытянутых вперед руках, смешно и неловко.
49.
Вот он стоит на асфальте двора, на дне каменного колодца, и вокруг молчаливые стены и окна. Рядом со СТАРИКОМ ведро с водой и бамбуковая палка-швабра. СТАРИК щурится от дыма сигареты, который лезет в глаза, берет швабру, макает ее в ведро, начинает молча и спокойно тереть асфальт. Начиная с сорок шестого года он делает это в день своего рождения, как когда-то задумал в лагерях. Он делает это ненавязчиво, для самого себя, улыбается иногда, хорошо, что родился в мае, а то бы приходилось выгребать снег или еще что, сразу не придумаешь.
Открываются окна на этажах, веселые люди кричат во двор: Эй, поздравляем тебя, Ника! Живите дольше, дядя Ника!
И из других подъездов, молча кивая друг другу, выходят старики с ведрами, они, также не глядя ни на кого, начинают тереть асфальт на своих кусочках, иногда только взглядывая на один все еще не занятый участок, и успокаиваются совсем, когда и там появляется старушка и клоп-девочка с ней, они трут пол и девочка льет из игрушечного ведра.
Старики моют двор. Они танцуют свой ироничный танец жизни, ритуальный танец памяти, ритуальный танец печали.
50.
А в воротах этого двора стоят люди и смотрят на дивное диво, кто-то хотел бы позубоскалить на этот счет, но что-то неведомо печальное, печальное, опаленно-печальное есть в стариках, и все молчат, а некоторые даже утирают слезы, хотя уж это-то ни к чему.
Сквозь людей в воротах протискиваются дети, которые идут сейчас из школы, они тоже замирают и смотрят на своих, или не своих, старших.
Одна из девочек (соседка нашего СТАРИКА) смотрит долго, особенно долго, почти так долго и жадно, как смотрел гимназист, белый гимназист, когда отпевали его белого отца. Она шевелит носиком, глотает детскую боль, светит, светит нам большими глазами, потом усмехается, потому что иначе заплачет.
ЛЕНТОЧКА Сегодня у дяди Ники день рождения, он всегда выходит во двор в этот день, и все из дедушек, кто вернулся с войны, выходят в его день, потому что это он придумал мыть наш двор. А потом он пойдет в аптеку сдавать пузырьки, а потом покупать новую ленту для своей пишущей машинки.
ЕЕ ДРУГ А ты откуда это знаешь?
ЛЕНТОЧКА Так ведь мы с дядей Никой всю жизнь соседи, всю жизнь соседи, спроси у моей бабушки, она говорит, что дядя Ника до войны работал послом, или еще кем-то, я точно не помню, или в ООН был…
ЕЕ ДРУГ Тогда ООН еще не было.
ЛЕНТОЧКА Ну я же говорю, что не знаю точно, спроси у бабушки. Давай, Глеб, крикнем ему, а?
И они кричат ему, СТАРИКУ, кричат, маленькие наши люди:
ПОЗДРАВЛЯЕМ ТЕБЯ, ДЯДЯ НИКА! ПОЗДРАВЛЯЕМ-ЕМ-ЕМ, ДЯДЯ НИКА!
51.
И все старики в ответ подняли свои швабры, и помахали ими гордо в воздухе, что дескать, и мы поздравляем тебя, Ника, но не можем вот так вот кричать, потому что мы старые люди, и это было бы смешно.
И СТАРИК поклонился всем.
И взял ведро свое и молча пошел в подъезд.
52.
ЛЕНТОЧКА сидит за своим белым столом на кухне и ест суп, а СТАРИК греет ей на газовой плите второе, там что-то шипит вкусное.
ЛЕНТОЧКА И в музыкальную школу тоже ты меня сегодня поведешь?
СТАРИК кивает.
ЛЕНТОЧКА Это здорово. Слушай, дядя Ника, я хочу у тебя спросить, честно ли я поступила. Вот слушай. Наша Нина Константиновна заболела, и пришла вести уроки другая, которая нашего класса совсем не знает, и на практике. Вот, горячо очень, дядя Ник. Вот. Ирка Кроф кинула голубя, а учительница повернулась, и говорит, что это Глеб, и пусть идет сейчас же к директору, а я-то видела, что это не Глеб, а Кроф, а учительница еще и говорит, кто дежурный сегодня, я говорю, что я, так она сказала, чтобы я проследила, как Глеб Волков пойдет к директору, чтобы я его отвела. Мы встали и пошли, потому что она и слушать ничего не захотела, что это не Глеб. По дороге мы, конечно, Кроф дали как следует, и она даже не пискнула, а вообще-то пискля. Вот. Дальше. Дальше я вывела Глеба в коридор, а потом заперла его в уборную к мальчишкам, чтобы его никто не видел, а сама вернулась и сказала, что отвела его к директору. Понимаешь? Ну, а Глеб-то там сидит, выйти не может, я же его заперла, понимаешь? Я попросилась выйти, она меня выпустила, я пошла и выпустила Глеба, а потом пришла и села, а потом и он входит, тоскливый такой, я чуть не умерла от смеха. Училка его спрашивает, ну, что? А он печально так говорит, на первый раз простили, а потом сказали, что выгонят из школы. И сам чуть не плачет. А тут Ирка Кроф встает и своим тоненьким голоском говорит, что это она голубя кинула, и что Волков совсем не виноват, понимаешь. Учительница покраснела-покраснела, и сказала, что уроки окончены, потому что звонок. Дядя Ника, скажи, я ведь честно поступила, а?
СТАРИК кивает головой, что да, по его мнению, честно.
ЛЕНТОЧКА Слушай, дядя Ника, а если из школы придут, ты скажи, ладно, маме и бабушке, что я поступила честно, а то я боюсь очень.
СТАРИК кивает головой, что уж конечно, скажет.
53.
Они идут, СТАРИК и ЛЕНТОЧКА, по улице их города. Впереди регулировщик разгоняет машины на перекрестке, их толкают встречные, и они толкают встречных, когда заглядятся на что-нибудь, или когда остановятся неожиданно посреди движения, чтобы Ленточка могла наиболее вразумительно проиграть СТАРИКУ сценки из своей чудной жизни. А СТАРИК с такой огромной серьезностью слушает ее, так ему ДЕЙСТВИТЕЛЬНО интересно, что он растопыривает даже руки, чтобы кто-нибудь не помешал его Ленточке строить рожи. Мимо бегут машины по своим делам, – нормальная городская жизнь. Потом они идут дальше, и авоська с пузырьками позвякивает между ними, и солнце играет в стекле, живое и разное, чтобы потом сразу остановиться.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































