Текст книги "Смертию смерть поправ"
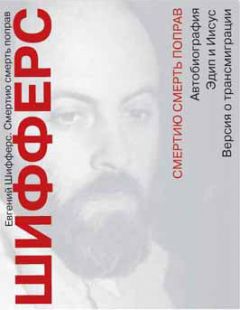
Автор книги: Евгений Шифферс
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
В списке она значилась НАДЗ
А даст только смрад и копоть плохих дров. Слова повисели еще немного между этажами и остановились прямо перед Фомой, который сидел среди многих детей, которые даже не пустили его шуметь вверх к квартире, а усадили тут же у входа, как своего, который, как и они, пришел слушать рассказы бабушки сверху. Дети сидели по всем девяти этажам этого девятиэтажного дома, потому что квартира бабушки была на девятом этаже. В списке отца, в списке клиентуры она значилась НАДЗ, и Фома толком не знал, кто это, мужчина или женщина, но вот здесь у входа, среди детей, узнал, что это женщина, узнал сразу, открыл для себя, не усомнившись даже, что эта рассказчица, эта бабушка и есть пациент № 2, причем если спросить Фому, откуда вошло в него это знание, эта вроде даже ожидаемая и удовлетворенная уверенность, он вряд ли сумеет сказать что-нибудь вразумительное.
Дети спускались сверху тихие, с тихо протянутыми вниз, удлиненными тишиной руками, причем этот ритуальный спуск начинался где-то очень высоко, и те, кто сидел внизу, не могли шевельнуться даже, пока не дойдет до них пустота сверху и они смогут встать, чтобы вытянуться в ниточку тишиной, чтобы только ноздри тихо-тихо тихими зверьками искали тишину, чтобы руки прянули ниц. Фома отметил, что сидящие дети повторяют его позу, его зимнюю позу на низкой скамье у ограды хорошего кладбища, когда никак не суметь удержать голову солдатиком, и она катится вниз, катится долу, чтобы, может быть, все же встретиться с матерью внове. Головы детей катились между крестов рук, разрывая паутину ступенек, собственных волос, ног, ограды перил, и тянулась за ними тонкая нить рассказа, рассказа о ИЯСА, рассказанного глухим голосом, хорошо слышным в гулкости девяти этажей.
Дети ушли, и Фома начал подъем. На девятом этаже стояла невысокая сухая женщина, которая ждала Фому, и они долго смотрели друг на друга, а потом она тихо и славно улыбнулась, скорбно и зная что-то. Фоме показалось, что она прячет под длинной юбкой хвост зверя. Фома улыбнулся этому воспоминанию, и она объяснила, что видела Фому на похоронах его отца, что хотела подойти и представиться, но этот вечный Арахна вечно устроит свои дела много скорее и ловчее, чем это когда-нибудь удается ей, но что она знала, ждала Фому. Ваш отец называл меня НАДЗ, думаю, что и в его списках я отмечена так же, но ваш отец знал меня долгие годы и все же решил, что будет называть меня НАДЗ, и никак иначе, вам же, чтобы и вы решили, что и как, я должна расшифровать это милое НАДЗ.
НАДЗИРАТЕЛЬ НАДЗИРАТЕЛЬ-НАДЗИРАТЕЛЬ-НАДЗИРАТЕЛЬ-НАДЗИРАТЕЛЬ ЖЕНСКОЙ ТЮРЬМЫ.
Глава пятаяИстекали многие дети
Когда она, НАДЗ, сказала так, Фома захотел уйти от нее, причем можно сказать почти с уверенностью, что в этот раз и сам Фома, и его ЖАЖДА были едины в брезгливости и некоем страхе перед сухой маленькой женщиной, которая еще и ласково улыбалась, все же ИМЕЛА возможность улыбаться вроде бы даже с долей правоты и знания чего-то, что давало ей эту правоту и эту смелость все же улыбаться.
Фома помнил, и тут особенно надо подчеркнуть, что именно Фома, а не его руки, голод, тепло, потребность в женщине, Фома помнил, а все другое в нем, кроме Фомы, старалось и кричало забыть, Фома помнил, что однажды был разлучен с матерью на долгий срок, срок его большого детства, срок его быть подростком, вот тогда, кажется, его били впервые в школе сверстники, у которых мать не сидела в тюрьме, а отец не ушел на улицу умирать, били, чтобы вырасти гордыми и непреклонными, такими же, как и их отцы, которые никуда из дома не уходили, разве что на государственную службу, и даже не подозревали, что идут на свою службу по дороге, где в обочине стонет и сохнет ЖАЖДА, не знали даже о том, что есть дорога и есть ЖАЖДА. Тогда, кажется, был в Фоме страх, что они убьют его за что-то, чего он не мог взять в толк, да, да, пожалуй, тогда он никак не мог заставить себя поднять к ним, бьющим, лицо, чтобы, может быть, встать, нет, он прятал свое человечье лицо, свертывался в страхе под их ударами, искал, как кошка, спасения в беззащитной распластанности в землю. Иногда, уже тогда, он видел себя со стороны, искал и находил свою, Фомы, объективность, и маленький заплаканный мальчик, который очень хотел бы тоже бить, а не быть битым, казался ему смешным, и он смеялся собачьей тоской своих глаз. И когда, вот так обретя свой тоскливый смех покорного освобождения, он уже без страха, а с любопытством смотрел, чтобы посмеяться и над ними, как смеялся над собой, когда он вот так поднимал к ним свою ласковость, улыбчивую ласковость прощающего и понимающего их злобу, они с воплями страха сыпали ему песок в глаза, песок в открытый рот, чтобы перестал быть сильнее их, чтобы не смел, чтобы уж умер. О, это колотье в глазах, этот скрежет зубовный, эти вопли, о, сколько раз проклят Фома никогда не забыть их, никогда, никогда, никогда. Его мать сидела в тюрьме, мать, которая потом стала лучом солнца, разве б она не сумела им стать, если б не терпела такой простой, такой унизительной человечьей муки, к чему это было, за что и зачем? Сидела в тюрьме? Нет, ее распухшие, ее синие ноги, с пробитыми стопами, с пальцами, кричащими об отмщении, нет, ее вымокшая в мокрых водах грудь, рассказывали совсем иное, совсем иное СТОЯНИЕ по пояс в воде, когда все твои дыры, унизительно, очень обидно, обидно-обидно-обидно, извергаются и впускают в себя только эту вопящую мокрость. Так было многие дни, многие стоны, многое молчание, многие глаза. Надзирательница, невысокая женщина, была их возраста, или даже немного моложе, или старше, мать никогда не могла этого вспомнить, потому что знала только ее сырой полутемный голос, ее крик КРЕСТИСЬ-КРЕСТИСЬ-КРЕСТИСЬ-КРЕСТИСЬ-КРЕСТИСЬ-КРЕСТИСЬ – чтобы потом дождаться удара по глазам чем-то длинным, находящим тебя в любом закутке, и с открытым в крике ртом погрузить себя в святую воду тюрем, КРЕСТИТЬСЯ в новую веру. Мать много раз пила эту воду, чтобы ее ЖАЖДА этих мокрых вод разорвала ей нутро, но жизнь, но ЖАЖДА, объективная ЖАЖДА, считала, что еще не пришла ее пора, рушила в сердце остановку и страх, и взмахи руками, и крик взмокших стоп, и мать выплывала, и глотала воздух, и слышала смех рядом, мокрый, клокочущий, смрадный смех. А жизнь шла себе, ей было наплевать на все это, она просто не знала, что женщины истекали святой своей красной влагой меж ног, истекали сюда же, в святые воды, и это не была кровь Эдипа, кровь из пробитых стоп, это уходили многие нерожденные дети из пробитой великой дыры, чтобы услышать смех рядом, и чтобы только с этим смехом умереть, только с ним, приняв, что он только и есть в мире. Мать тихо рассказала однажды Фоме, как эта невысокая женщина вдруг собрала их всех, покормила, повела куда-то, в гости, так она сказала. Они пришли в клетку к одной их товарке, которую забрали беременной, и вот НАДЗ привела нас всех посмотреть, как она рожает, как рвется из нее сын, как знает, что тут же захлебнется в святой воде, но ничего, сынок, ничего, мой маленький, поделать не может с ЖАЖДОЙ, и она выпила его. Вот тогда, мой маленький, она, надзиратель женской тюрьмы, и стреляла меня, потому что я шла ее казнить, вот видишь пробитые мои ладони, я шла задушить ее, и она распяла, прибила их к кресту, и этот звук камня о гвоздь, резкий, зубовный, напомнил всем страх, и никто не захотел стать, как я, стать расстрелянной, и она опять громко смеялась, мой, мой сын, я вижу тебя, я держу твою голову, это твоя шея у меня в руках, я дожила, добрела до встречи с тобой, и вот, мой малыш, я уж знаю, что не нужна тебе, что у тебя отняли потребность во мне, не забудь этого, Фома, все забудь, но этого не забывай, Фома.
Глава шестаяВ каждом убитом убит нерожденный детеныш
Все же войдите, Фома, уж раз пришли, все же войдите, немного поговорим, вы правы, Фома, вы правы, в каждом убитом убит и его ребенок. Садитесь вот здесь, вытягивайте ноги к камину, не бойтесь, не бойтесь, кресло выдержит, сейчас все вновь увлеклись стариной, она много прочнее, древнее и проще, в ней есть некая определенность, и покой, некая стабильность, уверенность, словом, все то, что так жадно хотят обрести в себе люди, и это мое кресло стоит здесь давно, в нем сидели многие поколения моей родни. Руки удобно ложатся, пальцы сжимают красивое темное дерево, ноги вытянуты к огню, ну уж если не великий князь, то во всяком случае хозяин своей судьбы на эти секунды сидения, на эти секунды раздумий, секунды властности. В каждом убитом убит и его ребенок, это верно, милый Фома, особенно верно, когда это касается женщин, не правда ли, Фома, мужчин все же можно убивать, потому что один мужчина может зачать многих, надо беречь женщин, именно женщин, потому что женщина, одна женщина, родит одного продолжателя рода, даже если многие достойные мужи будут принимать в этом участие, мужчины разведчики, они ведут воины, так определено ЖАЖДОЙ, они могут быть уничтожены частью, жизнью своей уплатив за знание, за информацию, как теперь говорят, но женщина обязана хранить это усвоенное, обязана хранить и хранит информацию, обязана продолжать род свой, род людей, их мораль, их законы, мужчины будут вечно искать, женщины вечно хранить найденное и обретенное, это справедливый закон, если учесть, а вы знаете это, так же, как знал ваш отец, что люди есть мораль ЖАЖДЫ, охранники ее длительности, ее утоления. Раз это так, Фома, раз вы сами исповедуете и смеетесь вместе с отцом и крестами, кладбищенскими крестами, над моралью вашей клиентуры, над тем, что другая длительность людей даст другую незыблемую мораль, раз смеетесь знанию, объективному знанию, что ЖАЖДЕ все равно, как решат оберегать ее длительность иссыхания люди, раз все это так, Фома, почему же вы содрогнулись, когда узнали это от меня, от встречи со мной, знакомой вам по рассказам матери о НАДЗ, о невысокой сухой женщине неопределенных лет, почему встрепенулась ваша объективность, куда она побежала прочь, ведь я, НАДЗ, так же спокойно, так же покорно, как любите говорить вы, так же объективно, забочусь о ЖАЖДЕ, зная, что ей еще рано испить себя до конца, что ей еще нужны самки, чтобы продолжить род охранителей длительности, нельзя, Фома, чтобы женщины распинали себя на кресте, кто ж родит тогда еще ИЯСА? Чтобы учил все же смерти, чтобы тревожил людей, как думал ваш отец, как думаете вы, Фома, но если бы не было женщины, если бы не было матери, если бы она сама звала к смерти, то откуда пришел бы сын, закон охранности длительности ЖАЖДЫ был бы нарушен, а это справедливый закон, на этом мы согласились, на этом определили людей ЗАКОНОМ, вершиной творения ЖАЖДЫ, и убить человека, охранника ЗАКОНА, – грех, преступление, но убить посягнувшего раньше срока испить ЖАЖДУ до конца необходимо, Фома, это так, и я, НАДЗ, надзираю над большой женской тюрьмой, над законом женщин продолжать род людей, и я смеюсь, милый вы мой ФОМА, когда вас пугает небольшая частность государственных дел, дел охранения конкретной власти, тюрем, в которых сидят политические заключенные, разве ж это тюрьма, Фома, разве может она сравниться с настоящей тюрьмой земли, с настоящей тюрьмой с бессрочным заключением рожать себе подобных, учить их, учить их неверию или вере, учить убивать или спасать, учить жертвовать собой и распинать жертвенников, разве ж может она сравниться с настоящей тюрьмой познания, где НАДЗ уж не я, женщина, сухая женщина, осока, как звала меня ваша мать, а кровь людская, кровь людская надзирает над охранностью тюрьмы? Почему, же, Фома, преступать ЗАКОН – это хорошо, а защищать ЗАКОН, справедливый закон ЖАЖДЫ, закон охранный, пусть не всегда ласковый, почему же делать это плохо? И что такое, Фома, хорошо, и что такое, Фома, плохо? Это же все придумали люди, не правда ли, мораль людей, не правда ли, а ведь самих-то людей нет, есть только капли и вопли ЖАЖДЫ, не правда ли, Фома, ведь так тебе сказала твоя мать, которая стала лучом солнца теперь, и ты схватился за правое плечо, человек, но там нет твоей матери, нету луча, ты сам будешь сидеть, вцепившись в дерево кресла, будешь смотреть на меня, на НАДЗ, будешь готов прекратить меня, а я вновь буду смеяться, как смеялся снегом и ветром отец над тобой, буду смеяться, потому что где же цена твоим мольбам о полной мере, если ты уж дрожишь от простейших забот государства о порядке, об исполнении закона, об исполнении формы и буквы, а ведь если бы не было вообще законов, разве б смог бы ты прожить хоть миг, и почему ты, который смеется над моралью, все же берешься судить хороша она или плоха, справедлив или несправедлив закон?
Фома сидел, установив ноги близко к огню, кожа его модных и тонких туфель хорошо пропускала жар. Все, что ему убежденно говорила НАДЗ, он так или иначе знал ранее, то есть не так точно, не теми словами, но суть, если она была здесь, он умел, поэтому улыбался, и играл в игру, что же она придумает еще. Ему все время хотелось разводить руками, сидеть и разводить руками, вот сюда и сюда, и ойкнуть несколько раз ее мотивированной правоте. Только один раз, когда НАДЗ стала говорить, что АРАХН, вестников, необходимо убивать, он посмотрел на нее внимательнее обычного и в нем шевельнулась к ней жалость, вот ведь как боится, бедняга, и так ведь их убивают, причем они сами себя поджигают, не надо других, а она вот все же боится, хотела бы иметь установленный книгой закон, чтобы бить их влет. Он жалел ее еще и за то, что она никак не сумела решиться на любовь, она, НАДЗ, тюремщица женских законов, хотя очень, видно, ждала ее, но все как-то со стороны, вроде бы пусть проверит кто чужой ее любовь и много ли надо платить за такое, а потом уж, если все же будет выгода, чтобы обязательно была! ринется в нее НАДЗ, и создаст закон, и все будет справедливо, потому что платишь с выгодой, и можно сказать, что так хочет ЖАЖДА, которая поручила людям следить за охранением ее длительности, чтобы не убили ЖАЖДУ раньше срока. Фома вдвинул ноги еще ближе к ограде огня, прикрыл руками голову, и пальцы стали искать впадины, чтобы сжать и не отпустить кладбищенской прохладой, когда низкая скамейка набивает снег до колен, и все ждут, и пальцы, и скамейка, и ограда, и голова, и Фома, когда же просчитают эту секунду и поймут, что пришла пора отпустить, РАЗЖАТЬ кольцо, разломать круг, выпрямить обруч из виска в висок. Фома тихо качнул ноги, и закачался высоко в небе качалкой чертова колеса, и там внизу ждал его с бутылкой смазчик, и огонь там внизу пах жареной кожей.
Женщина уже сама по себе государство, Фома, ее ритуальность, ее политика много глубже, много жестче, много более подчинена ЦЕЛИ, вы понимаете, ЦЕЛИ; любое человеческое устройство лишь малый слепок женского оправдания средств ЦЕЛЬЮ. У вас в глазах, Фома, была ухмылка, когда я говорила о большой тюрьме земли, о большой тюрьме языка, о невозможности подобрать ключи, вы все это знали, я не открыла для вас ничего нового, более того, вы лично почти уж и не узник, потому что покорились, узнали свою причинность, свое необходимое рабство, потому и вышли вроде к свободе, но что же мешает вам ползти уже не по дороге, а просто там в обочине, где течет, пересыхая, ЖАЖДА, где нет морали. Ваш отец, когда ушел из дома, а ваша мать, женщина, государство, никак не могла покорно засунуть ему завтрак в карман, и в вашей семье очень любят об этом помнить, ваш отец шел искать ЖАЖДУ, обманывая себя, чтобы не упасть. И ваша мать вроде бы отпустила его, вроде бы нарушила закон женщин, потому что должна была плакать, просить, не отпускать умирать, не отпускать его в вестники, и вы тоже горды сейчас, что она все же смогла, что она все же ПРЕСТУПИЛА закон, который охраняю я, НАДЗ. Но я должна вас разочаровать, Фома, если вы действительно так помните и так цените это событие, потому что, Фома, ваша мать все же не нарушила закона, нашего закона, она знала, хорошо знала, слишком хорошо знала мужчину, с которым спала и сумела зачать, потому и торопилась засунуть ему завтрак в карман, знала, уже знала, Фома, что он захочет к вечеру есть, и будет есть, и будет жить, и его подберет другая, чтобы привести к себе, чтобы не рушить закон. Но мы должны были все же наказать вашу мать, Фома, потому что у нее бывали мысли, что пусть себе, пусть идет, и завтрак она ему заталкивала в карман только потому, что многие века нашего охранного закона сидят в ней глубоко, слишком глубоко, чтобы она могла так просто презреть их.
Но она часто, слишком часто и тайно, не на виду, а по сути своей, желала нарушить этот закон, потому мы и приняли меры, Фома. ЕЕ преступление было все же, она слишком многое рассказала и вам, Фома, слишком, ведь вы, как мы знаем, не хотели даже рождаться, а ведь еще совсем немного, Фома, еще совсем немного надо было вашего нежелания, и, быть может, вы испили бы еще во чреве, узнали бы всю ЖАЖДУ, испили бы все мокрые воды, и высохли бы сразу в первом крике, и ушли бы в постель к смерти сразу, созрев лишь родившись, вы знаете сказку о боге, так он ведь делает умерших младенцев ангелочками, потому что много мудры, слишком много узнали в водах крови, чтобы еще учиться в этой простоте жизни и ее простых законов, и ваша мать шла на это, мы знаем, что шла осознанно; и вот, Фома, вы все же не смогли повенчаться сразу, и уйти сразу, и будете много терпеть, Фома, и многих искушать, Фома, и мать ваша должна была быть за это наказана. Но знаете, что смешно, Фома, чего совсем не умеют многие? Это того, что женщина, которая прошла через все, все же много угодна ЖАЖДЕ, и я стреляла вашу мать, потому что я ведь не ЖАЖДА, я только служительница ее, и вдруг, Фома, мне показалось, что сама, вы понимаете, сама ЖАЖДА лилась в ней, а это ведь страх, это ж крамола, потому и распяли мы ИЯСА, что не могли принять, что живой из нас, как сам суть бог. Потому я и хотела пресечь ее, потому что она была ересь, ЕРЕСЬ, Фома, не могла ж она быть самой ЖАЖДОЙ. Я боялась ее больше всех, боялась всегда, у мокрых стен, и когда хотела убить в ней не нашу любовь и жалость ко мне, она всегда жалела меня, Фома, она любила меня, что же она, сама ЖАЖДА, само питие ее? И когда та, другая, рожала в воду, она, ваша мать, шла прекратить мой смех, мой ужас, она шла обнять меня, шла поправить мои мокрые блеклые волосы, чтобы я замолчала, чтобы перестала смеяться, чтобы покорилась, чтобы, быть может, пошла поискать себя на обочину, она готова была взять меня в руки свои, и понести к этой обочине, и найти там холодный ключ и прыснуть мне влагу в лицо. И я, Фома, не могла принять этого, потому что ЖАЖДА не бывает в людях, не селится просто так в них, она выше рода людского, это тот просто врал, когда говорил, что царствие божие в нас самих, не может быть такого, Фома, и я стреляла ей руки в крест, как другие забили гвозди. НЕТ-НЕТ-НЕТ-НЕТ-НЕТ-НЕТ-НЕТ-НЕТ-НЕТ-НЕТ-НЕТ-НЕТ-НЕТ. Не прощайте мне, пастырь.
Но Фома не умел не простить.
Глава седьмаяИрина задает вопрос
Я перестаю печатать, я снимаю руки с машинки, отталкиваю Фому, набираю угли в ладони, держу до боли, до невозможности, и повторяю, как присягу: да, да, да, именно, именно, именно Ирина, пришла ко мне, в мой уголок, села чуть справа и за спиной, и не Фома, не его отец, не Арахна, не снег и не солнце, а глупышка Ирина, которая боялась, что ее бросит беременной Фома, мышонок с круглыми глазами, сидит чуть сзади и справа, по-моему, что-то вяжет, и ждет, пока я прервусь, чтобы задать свой вопрос, а я все стучу и стучу, потому что вопрос ее знаю, а ответа во мне нет. Но стучи не стучи, а лист-то кончается все же, и вот в эту паузу, пока вставляешь чистый лист в машинку, она, Ирина, и задала свой вопрос. Угли жгут мои пальцы в правде, я кричу: почему, почему, почему, эту сказку про сорок дней ИЯСА, ты отдал убийце НАДЗ, не Фоме, а ведь он писатель, он мне пьесу свою читал, ты совсем не знаешь Фому, он добрый, он очень добрый, он бы мог сочинить такую сказку, это его сказка, а ты отдал ее этой НАДЗ, да еще детей привел слушать, а Фома очень любит детей?
Глава восьмаяНет, нет, не прощайте мне, пастырь
Но Фома не умел не простить.
Глава девятаяФома сказал: Идите, дети, идите
И на всех девяти этажах прилегла тишина. Потом они тихо и неторопливо стали подниматься вверх, подниматься усталыми взрослыми с сумками забот, не переговариваясь, а просто неся в себе силы дойти до верхнего этажа, потому что испорчен лифт. Их было много, и они стали к Фоме очень близко, он видел веснушки у самых первых, слышал их детские вздохи, и улыбнулся, припомнил-вспомнил тишину-тихонькую-тишь-тишину-перед избиением раньше. ИДИТЕ, ДЕТИ, ИДИТЕ, ПРОСТИТЕСЬ С БАБУШКОЙ, И ВЕРНИТЕСЬ К СЕБЕ В ДОМ. Вот он вчера пришел этот, взрослый, они видели, как он сидел между ними, почти как они, а когда они все ушли, то зачем-то пошел наверх, зачем-то остался, а теперь вот дверь у бабушки открыта, и всяк, кто хочет, может войти, потому что она ушла, потому что она умерла, а он вот стоит и смотрит, и не боится нас, а если он не боится нас, то мы забоимся его, а ведь он убил бабушку, и рассказов не будет теперь, и смотрит он очень похоже на кого-то, о ком рассказывала она, ведь он знает, чего мы хотим, как хотим отомстить ему, но прощает уже нас, но любит нас, нам нельзя так это принять, нам страшно, зачем он умеет любить и прощать, все же мы убьем его.
Конечно, ребята, вам надо это сделать, надо, чтобы нашелся один из вас первый, быть может, вот ты, в вельветовых штанишках, скажи крик убить ты, они все ждут только знака, только зова, и ты станешь у них вождем, ты скажи прекратить ЕРЕСЬ, и первосвященником станешь, вельветовым первосвященником, а мне это будет немного приятно, я сам когда-то носил такие штанишки, или ты вот, хмурый и тонкий, скажи ты, пусть случится это, а мне, мне все же придет облегчение, потому что вас я еще смог бы любить и простить, вот смотрите, закрылись мои глаза, вот я ровно и тихо дышу у себя в качалке на чертовом колесе, вот утихли все звуки и погасли фонари, и смазчик ушел домой, не дождавшись меня сверху, вот уж я сплю, ну же, ну. НЕУЖЕЛИ НИКОГО НЕ НАЙДЕТСЯ, КТО БЫ ПОТИХОНЬКУ ЗАДУШИЛ МЕНЯ, ПОКА Я СПЛЮ?
Эта НАДЗ, она измучила меня. Сколько раз я казнил ее, и видел радость от моей казни в ее улыбке и ее смехе, потому что раз пришла казнь, то все же, значит она хранила закон, раз ее приговорил к смерти новый, не принявший тот старый закон, значит, все же не зря она крестила в мокрых водах АРАХН, дерзнувших спорить с богами? Значит, боги зачтут ей, то есть может она зачесть себе правду Она шла и пила своим рассказом приговор, она много раз видела, что я готов стать палачом, что вот сейчас совершу И я много раз совершал, и она была рада, а потом вдруг я узнал в себе, что прощаю ее, что могу сам заточить топор, который ударит мне шею, скажет мне, что пора, и она сразу закричала, нет, нет, не прощайте мне, пастырь. Идите, дети, идите домой, она сразу узнала во мне пастыря, а ведь и вас учила гордости прощать убийц, рассказала вам, что искал в себе эту гордость ИЯСА, чтобы все же жить и свершать поступки, зная все наперед, учила вас, и вселяла в вас страх, что нельзя так, что не сможет никто, даже дети не смогут, потому и выбрала вас, и спасалась этим знанием, облегчалась этим знанием от пытки прощения, думала, раз вы, малые дети, не умеете этого урока смерти, этого гордого урока простить и обнять убийц, и подставить правую щеку вместо дырявой левой, и рубаху отдать, чтобы вытер пот с лица, раз не знали такого урока вы, лишь начавшие пить и имеющие многую ЖАЖДУ, то, значит, придет в злобе мститель, и так же, как и она, будет убивать за свой ЗАКОН, как и она убивала за свой.
А раз так, то, значит, оправдание, значит, права, хотя видела, знала мать мою, дети, маму, маму мою.
Фома положил руку на голову первосвященника и погладил его напряженность, и тот замер, потому что хотел жить, потому что не хотел становиться пастырем, и прокусил Фоме руку. Фома протянул другую, и тот прокусил, а потом закричал, и они повалили Фому, и он вновь, как тогда в промежутке детства, захотел упрятать голову, найти распластанность в землю, но он не закрыл глаз, и они, дети, топтали их сандаликами. Потом вдруг Фома увидел, что кто-то тихо и покорно, НЕПРЕРЫВНО, ползет к нему с любопытством в глазах, покорных собачьих глазах, вот и хорошо, вот и хорошо, этот малыш, видно, ползет исполнить мою просьбу, и просьбу японца, надо будет найти его там, чего бы это ни стоило, и сказать, кто сумел тихо задушить нас. Мальчик остановился над Фомой и разглядывал его с большим интересом, иногда удары и топтание сверху отодвигали его от Фомы, но он, не сердясь, подбирался к нему вновь. Фома улыбнулся ему, и тот улыбнулся в ответ. Потом мальчик лег на Фому и закрыл его собой от ударов, крепко обняв голову Сразу стало очень тихо, а потом испуганно побежали все вниз, а Фома и мальчик, Фома и мальчик, так и лежали, обнявшись, долго, потом устроились поудобнее и уснули, и солнце грело то того, то другого, и невозможно возвращалось вспять, чтобы опять погреть одного, а потом передвинуться на другого, и вновь вернуться, и так много раз.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































