Текст книги "Смертию смерть поправ"
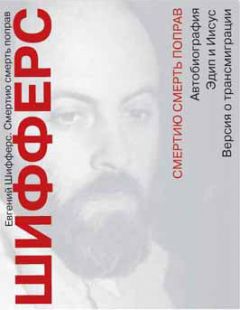
Автор книги: Евгений Шифферс
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Комментарий к первой части
В конце списка, который отец Фомы написал очень неразборчивым почерком перед тем, как пойти и попытаться согреть свой холод в глазах, буду стоять Я-Автор-Я, не очень веселый, но, как мне кажется, вполне достойный человек. Там мы и познакомимся поближе, сейчас же мне было просто необходимо как-то предуведомить читающего, что предлагаемый ниже комментарий суть авторские домыслы, хотя, если уж говорить совсем откровенно, я, Я-Семьянин-Я, вовсе и не ответственен за другого я, Я-Автор-Я, потому что, ей-же-ей, почти никогда не знаю, что он думает и как повернется его мысль, да и, вообще, кто он такой, пока мы не встретимся с ним за пишущей машинкой, и после некоторых первых ударов он не возьмет мои руки и не начнет стучать уже то, что видится ему и что я даже не могу потом точно запомнить, потому что все это делал действительно он, а не я. Пишу об этом так подробно, потому что уже много раз попадал из-за этого в неприятности, к примеру, спрашивают меня, а почему это в вашей последней книге господин К. сам ломает курице шею, ведь городской интеллигент и не умеет подобного дела, а я согласен, что да, действительно не должен бы уметь, но я не помню в какой это моей последней книге есть господин К. и почему он ломает курице шею, на это мог бы ответить Я-Автор-Я, но попробуй объяснить это нашим читателям, они обидятся, скажут, зазнался, критики не понимает, а то и просто выжил из ума.
1. В первой книжке Э. РЕНАНА «История происхождения христианства» есть такие слова, которые я и поставлю в кавычки: «С тех пор, как человек стал отличать себя от животного, он сделался религиозен, то есть стал видеть в природе ЧТО-ТО за пределами действительности, а в своей судьбе ЧТО-ТО за пределами гроба».
У Ренана ЧТО-ТО никак не выделено, это, как говорят, курсив мой. Вот об этом-то, явно неудовлетворительном, понятии ЧТО-ТО мне бы хотелось поразмышлять в первую очередь, неторопливо, забыв о Фоме на время, на время его сна, и сна Ирины, и сна Арахны; быть может, даже найдется более формализованное понятие, чем это ЧТО-ТО, нечто неопределенное, некоторая бесконечность; так, может, нам и поискать в бесконечно малой величине или в бесконечно большой. Этот путь притягателен, потому что, возможно, позволит вывести формулу ЧТО-ТО, и тогда, наконец-то, математики и физики будут наместниками ФОРМУЛЫ на земле, к чему они жарко стремятся, и небезуспешно. Так может быть, ЧТО-ТО – это элементарная частица?
Так может быть, ЧТО-ТО – это гармония космогонии, далекая паутинная туманность, бесконечно большая величина?
А может быть, ЧТО-ТО – это обратная связь между ними? Их функция?
И если это функция, если это процесс, связь, движение, то можно ли говорить о его материальной субстанции? Материально ли время?
ЧТО-ТО-ЧТО-ТО-ЧТО-ТО-ЧТО-ТО-ЧТО-ТО-ЧТО-ТО-ЧТО-ТО-ЧТО-ТО-ЧТО-ТО-ЧТО-ТО.
Можно было бы остановиться на таком простом и извечном понятии, как бог, и заменить им нестройное ЧТО-ТО, но в ушах сразу стонет крик печальных распятых глаз, бьется пыль и прах падающих в возмездии стен, или сторукая недвижность Будды, или тревожная чувственность бога-козла у греков, – ФОРМУЛА поэтов. А нам бы хотелось найти и возвестить о рожденном ребенке, о связи этих двух ФОРМУЛ, об их сторуком единстве, и нету выхода из этой неопределенности, которую никак не выразить ОПРЕДЕЛЕННЫМИ понятиями, как, видно, нельзя разложить время на очень малые дискретные величины, потому что оно умрет в них, умрет в них вечность. Как же быть?
Так, может быть, ЧТО-ТО – это великая НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ, которую надо искать, и никогда не найти, и все равно искать, потому что она-то и есть жадный поиск, поиск начала и поиск конца? Нет, к сожалению, нет, и это определение не подходит, уж слишком оно длинно, язык сломаешь, Н-Е-О-П-Р-Е-Д-Е-Л-Е-Н-Н-О-С-Т-Ь, длинно, длинно, не подходит.
Беспомощная злость теребит человека, когда он понимает, что выразить, объяснить что-либо ему дано только знакомыми людям понятиями, только знакомым ему языком, причем каждая зафиксированная формула, каждое разорванное мгновение, которое он убивает своим познанием, суть ложь, потому что оно соответствует только формуле человека, и он никогда не может узнать тайны «вещи в себе», тайны инвариантных координат. А может, ее и нет, этой тайны, может, она возникает лишь с присутствием человека? Тогда познай себя, человек, и ты познаешь весь мир?
ЧТО-ТО-ЧТО-ТО-ЧТО-ТО-ЧТО-ТО-ЧТО-ТО-ЧТО-ТО-ЧТО-ТО-ЧТО-ТО-ЧТО-ТО-ЧТО-ТО.
Иногда он кричит свое знание и свой страх голосом без рваности слов, ищет музыку бытия, но опять уж вскоре потом пишет ее значками, которые установил с другими людьми; и опять воплотить ее вновь, воплотить познанное им, могут только люди, только они, скованные с ним цепью каторжане, узники, рабы собственного мозга, рабы сознания.
Неужто нет и не будет прорыва? Исхода в иное?
Так приходит жажда молчания, так может, ЧТО-ТО – это великое БЕЗМОЛВИЕ?
Нирвана тишины?
Ирина пошевелила губами во сне, уже зная, что рядом лежит близкий, потянулась к нему, потянулась в тишину, нашла ее теплоту, синюю-синюю теплоту, положила руку Фомы себе в грудь. Фома это понял, и улыбнулся не просыпаясь. Арахна по-прежнему лежал на узкой скамье, и влага мокрых вод постепенно высыхала вместе с ним.
Быть может, сказать вместо ЧТО-ТО – большая ГАРМОНИЯ? Объективная, незаинтересованная в конкретных судьбах исполнителей большая гармония бытия – неторопливого и важного процесса, клубящегося из одного в другое, в сроки своих длительностей? Что же тогда вновь делать человеку, ведь перед ним каждый раз встает один и тот же вопрос, простой, архаичный вопрос: кто я и зачем на этой земле?
Нет, гармония – это тоже уже результат, это уже определенное достижение каких-то изначальных начал, – кто же они? КТО-ТО? КТО? ДУХ? ВОЛЯ? ПОТЕНЦИЯ?
Хаотичная и дискретная или направленная и непрерывная? Куда? Фома застонал во сне. Потом вдруг встал, пошел, не поднимаясь с колен, к узкой скамье, уткнулся плачем в твердые ноги.
Моя рука отделилась от пишущей машинки, вот я вижу ее, немного подрагивающую, небольшую, с плохими ногтями, знающую его затылок. Я погладил Фому, он резко обернулся, сбросил мою руку, закричал, что нет, нет, мой срок еще не настал, я в самом конце списка. Моя рука спокойно и крепко прикрыла его крик во рту, чтобы не тревожил Ирину и Арахну, не будил их. Он послушался и затих. Потом он даже положил свою руку на мою и несколько раз провел туда и сюда, утешая меня. Ты знаешь, говорили его прикосновения, вместо ЧТО-ТО очень подошло бы слово КРУГИ, но я так назвал свою пьесу, ты ее, конечно, не читал, а жаль, мне бы именно с тобой интересно было поговорить, ведь ты ж, как я слышал, писатель. Все мы писатели, Фома, ответил я ему фразой из его пьесы, и он понимающе и по-доброму улыбнулся. Потом обернул мне свои глаза, в них была холодная, не заинтересованная во мне деятельность, своя деятельность, с которой я обязан считаться; он всматривался в меня, в глазах двигалась какая-то мысль, потом он еще раз тронул меня рукой и сказал, чтобы я назвал ЧТО-ТО постоянной ЖАЖДОЙ, назови это ЖАЖДОЙ, это будет хорошо. ПОСТОЯННОЙ ЖАЖДОЙ, сказал он, МОКРОЙ ЖАЖДОЙ, ЖАЖДОЙ МОКРЫХ ВОД. Его лицо было мокрым, он взял рубаху с лица Арахны и высушил свое лицо, а потом положил рубаху опять на лицо Арахны. Назови, назови это ЖАЖДОЙ, а тот из людей, кто не знает, что такое ЖАЖДА, пусть просто не найдет несколько дней воды и поймет; а там уж и сможет умножить ее во много раз, невероятно много раз, тогда найдется малая малость нашей ЖАЖДЫ.
Пусть будет так.
2. Я не люблю рассказывать историй, поэтому немного ниже кратко перескажу вам, читающий, что будет дальше с Фомой и чем, собственно, кончатся последующие тридцать три главы; так что любитель историй сможет и не читать дальше, не тратить время. Тот же, кто побредет вместе со мной, с Фомой, с Ириной к ЖАЖДЕ, видимо, сможет развести огонь, сготовить нехитрую еду, укрыть соседа потеплее. Итак, Фома в конце списка найдет мой адрес и придет ко мне; он скажет мне, что соотносится со мной, своим творцом, так же, как я соотношусь с ЖАЖДОЙ, и что избавление заключено в слове ИСПЕЙ. Фома похоронит меня и станет на том месте крестом, и вопль его в мир будет много лететь, Фома прорастет деревом, а его крик, и мой путь вместе с ним, путь утоления ЖАЖДЫ, откроется в мире СЛОВОМ, чтобы тревожить и отбирать воду у следующего меня, и у следующего Фомы, и у многих других следующих. Дело в том, что автор никак не может согласиться с тезой экзистенциализма о «непредвиденной заброшенности» человека в мир, о СУЩЕСТВОВАНИИ раньше СУЩНОСТИ. Нет, напротив, автору кажется, что весь груз информации предыдущего опыта так или иначе наследуется человеком, он так или иначе ЗНАЕТ почти все о мире, почти все, кроме СЕБЯ-ПОСРЕДНИКА между опытом прежним и тем, который предстоит приобрести самому, и если уж говорить об очищающем трагизме бытия, об очищающей ЖАЖДЕ, то именно здесь, в этой паутинной причинности и есть трагическая свобода раба, трагическая свобода покорного, которого уже ничто и не может более поработить и покорить, если он знает свою причинность, свою закономерность в ряде времен, в том ряде, что есть вечность.
Остается, опять-таки, только одно: в каждом конкретном случае сам человек обязан решить, зачем он, кто он в этой длительности на земле? Познакомив читающего, как мне кажется, достаточно подробно, с одним из людей, который вольно или невольно задал себе этот тихий и простой, этот ПОКОРНЫЙ вопрос, я постараюсь провести его вместе с собой на равных, потому что путь долгий и надо сразу поверить в путника, поверить и довериться ему, пробить доверием дыры в стопах, чтобы не смочь бежать камней. Мы побредем с Фомой в его утолении ЖАЖДЫ.
А так как всегда перед дальней дорогой надо найти немного тишины, то пусть она найдется, пусть придет молитва о счастливом окончании пути.
Часть вторая
Простая книга Фомы
Глава перваяНеужели никого не найдется?
Прошло некоторое время, и Фома частенько улыбался этому.
Его смешило, что время и не подозревает о всех его делах и раздумьях, а идет себе и идет, зная или не зная свою конечную цель. Время не подозревает, что оно проходит, смеялся Фома, сидя голой весной в скелете какого-нибудь парка, глубоко упрятав руки в карманы, чтобы не оставалось места для завтрака. Иногда рядом с ним крутилось пустое чертово колесо, крутилось со скрипом, съедая красную ржаву зимы. Это начиналось всегда неожиданно, и Фома смеялся слову НЕОЖИДАННОСТЬ, ведь время не знает о наших ожиданиях. Один раз Фома устроился вскочить в качалку колеса, когда она скрипела мимо, и сделал несколько оборотов, а потом выпил со смазчиком, который крутил это колесо, видел Фому, правильно решил, что нашел себе компаньона. Костер, который смазчик жег на ветру, чтобы грелось масло, трещал и веселился, они обуглили по сосиске, выпили, потом Фома столковался, что смазчик будет поднимать его в качалке вверх, а часа через три, когда Фома продрогнет и насмотрится на землю сверху, будет опускать его вниз, чтобы, возможно, опять попить и обсудить некоторые вопросы. Смазчик называл свое колесо паскудой, всячески ворчал на него и сетовал, и Фома очень радовался его сиплым упрекам, смеялся у себя наверху, покачивая качалку, смеялся и плакал, когда смех-смех становился уж слишком звонок и прозрачен, слишком звонок, как плач из плачей. Там у себя наверху и понял Фома тоску одного японца: НЕУЖЕЛИ НЕ НАЙДЕТСЯ НИКОГО, КТО БЫ ПОТИХОНЬКУ ЗАДУШИЛ МЕНЯ, ПОКА Я СПЛЮ?
Глава втораяДа, Да, Он так и сказал: Я хотел бы быть среди тех, кто не родился
Казалось, что он всю свою жизнь скользил и поднимался с четверенек, причем приходило это ощущение всегда в победы, так что он никогда не знал их радости, но отмечал всегда, что вот надо бы, а он опять лезет под стол и трет колени в красный воск паркета, и ладони тоже красные и противно жирные, сколько ни три их о вельвет, и много-много песка в животе.
Глава третьяСорок пустынных дней
ИЯСА сидел, уткнув ноги по голень в жаркий песок. У него нестерпимо, уже многие часы подряд, покорно и незаинтересованно скулила боль в стопах, и жаркий песок немного утешал ее тоску. Ноги болели в том месте, куда, как он знал, будут вбивать ржавый гвоздь, причем жара, кислое вино, его недвижность при их ударах, камень, который будет крошиться много раз, и солдат будет искать еще, чтобы еще и еще раз бить по гвоздю, гнуть его плохой пьяной рукой, не уметь загнать гвоздь по шляпку одним крепким ударом, – все это будет удлинять боль. Руки не говорили о боли, их пробьют спокойно и легко, мякоть ладоней немного спружинит удар, и твердость креста будет много ближе, чем у наложенных нога на ногу ног, потому гвоздь быстрее найдет твердость, быстрее пришпилит эту странную бабочку. Он опустил руки в песок, поискал и нашел свои стопы, погладил кричащие места. Потом встал и прошел к воде, опустил свою боль в мокрые воды, а сам снял с себя все, что пропылилось на нем, вымыл одежду, полежал немного голый, не вынимая ног из воды, откинув голову и руки на берег, потом засмеялся, так как узнал позу, в которой будет тяжелеть в вертикали-согнутые-прогнутые-в коленях-ноги-боль-в них-руки-разложены-в стороны.
Одежда лежала рядом, и он сказал ей, что скоро ее поделят, а потом опять посмеялся своей запроданности видеть и знать все наперед, и уже зная, решать, что и как, и знать, что в конце-то концов он все решит, как надо, потому и видит все уже решенным им, уже свершившимся, и вся суть только в том, как он пройдет этот путь, как утолит свою ЖАЖДУ.
И первый раз он подумал, что сумел бы вытерпеть свою боль, свое знание, если бы открылось ему умение гордости, желание гордости, большой гордости любить и простить своих убийц. Да, подумал он, тихо играя пальцами ног в камушки, да, пожалуй, это было бы острее боли, надо бы попробовать, надо постараться суметь сыскать в себе эту холодную гордость, надо будет очень постараться, может, она даст силы свершать поступки, учить, есть, спать. Вот только такая любовь не даст ему женщину, он не сможет, не сумеет ее узнать, но пусть, тридцать три года стукнет уже скоро, можно потерпеть.
Красноватая ящерка пригрелась рядом с ним. Он посмотрел ей в глаза, и она посмотрела ему в ответ. Он вспомнил, как однажды в детстве видел, что у ящерицы красной каплей отваливался хвост, а вся она подрагивала от боли и испуга. Он представил это себе очень ясно, вот ее взгляд, в нем уже предчувствие боли, вот он чувствует, как уже по нему побежали песчинки озноба, вот у него отваливается хвост, и красная капля крови сразу сохнет в песке, и красноватый пар идет вверх. Он думал и проживал про себя все эти яркие ощущения зверя, а сам смотрел ящерке в красноватые глаза. Смотрел и увидел уже у нее испуг и предвкушение боли, потом она забилась в ознобе и сбросила хвост. Так с ним, с ИЯСА, бывало уже много раз. Он каждый раз удивлялся этому дару, хотел его запомнить, но забывал о его осознанном применении, погружался в свои сны наяву, когда был и больным, который должен встать и пойти, и птицей, которая должна смочь улететь с криком, или вот ящерка, которая теряла по его приказу хвост, как только он находил в себе эту боль, это жаркое в песке ощущение чужой прожитой жизни, ее страдания, ее ЖАЖДЫ. Даже песок и камни слушались его, если он видел, как с кряхтеньем отваливается от скалы, а потом, все убыстряя ход, катится с криком в пропасть, если знал на себе все ссадины, все удары камня о землю, и смотрел, чуть улыбаясь, на этот камень, и камень отрывался от скалы и повторял его, ИЯСА, мысленный путь. Так было и с многими больными, излечение которых дало ИЯСА добрую известность. Он смотрел на страждущего, и вот уже в нем поселялись отчаяние и страх больного, рубцы от костыля ныли у ИЯСА под мышками, ноги его тяжелели зыбучим песком, так он принимал в себя болезнь, но он принимал в себя и излечение болезни, ЖАЖДУ излечения, он видел, как ломает с треском костыль, как бросает его прочь, как ноги наливаются радостной силой, он знал в себе уже ЖАЖДУ, что пойдет, вот сюда, и сюда, все убыстряя ход, а вот сейчас уже бежит он с радостным криком, славя избавление, и тогда ИЯСА убирал свой взгляд от больных глаз ждущего, в которых он уже видел свое нетерпение, БРОСЬ-КОСТЫЛИ-И-ИДИ. И больной бросал и шел, часто забывая в своем крике радости поблагодарить уставшего другого, который прожил за короткие секунды всю долгую боль ожидания в болезни, всю радость и веру в избавление, прожил даже и само избавление, чтобы избавить другого, чтобы не сметь никогда устать, чтобы не забыть малейшее движение души, чтобы четко и строго построить схему избавления, пройти по ней, и помочь. ОН должен был без устали пропускать в себя зов больных ног, каждое движение каждого пальца, трепет кожи, когда она оживает у паралитика, его стук сердца в этот миг, чтобы все-все, все-все ожило и избавилось в больном. Ему казалось, что мозг высыхал у него, отдавал свои мокрые воды уже без возврата, и ил оседал, густея и застывая, в глазах, кишках, ушных раковинах. Он мог излечить многих, но себя излечивать не умел, потому ложился прямо там, где стоял, и тихо ждал собственного избавления, собственной ЖАЖДЫ внове. Потом он вставал и уходил в свои пустынные дни, чтобы погреть ступни, которые болели все острее, чтобы полежать вот так, окунув их в мокрые воды, а ветер чтобы тихо холодил пах, чтобы руки пропускали в пальцы струйки сухого песка.
Особенно тяжело было с одним умершим, женщины плакали, мешали ощутить ЖАЖДУ вновь встать, и потом на лице того, кажется, его звали Лазарь, был такой покой, такая тишина, что он, ИЯСА, никак не мог понять, что же прожить-пожелать, чтобы отдать ему свою ЖАЖДУ встать и вновь жить. Нет, пожалуй, уж я не хочу вставать, не хочу опять жить, нет, я устал и от криков этих женщин, нет, нет, опять этот голод в животе, опять сны на песке и песок на веках, нет, нет, я утих, сердце мое окончило свой долгий урок, и мне хорошо. ИЯСА сидел у изголовья, и думал так, и это были мысли Лазаря, и ИЯСА не торопил их. Этот запах свеч, я никогда не знал такого у себя в песчаной норе, и эта тишина, тихая-тишь-тишина, разве можно сравнить ее с чем-то. Эта тишина утра, когда единственно можно было выйти и лечь в молчащий, еще не орущий ветром, влажный от росы песок, и даже лизнуть светлую каплю языком. ИЯСА увидел эту туманность, услышал запах росы, и тишину, но он не может встать, потому что он, ИЯСА, мертв, его ноги прикрыты белой тряпкой, в комнате дурман трав и огня, вот если бы ноги напряглись, а женщины, кажется, спят, то можно было бы тихо встать из гроба, пойти босыми стопами в поле, лечь там в тихую влагу, раскинувшись, удобно, а то ведь узко и вытянуто лежишь здесь, вот сейчас пальцы пусть неслышно приподнимут простыню и найдут деревянный край, ага, нашли, сердце уже бьется тревогой заговора, тише-ти-ше, совсем тихо стучи, сердце, улыбнись, рот, моим мальчишеским шалостям, вспомни, тело, как я тихо выбирался ночью из-под общего одеяла семьи, чтобы повалить в мокрый песок свою женщину, чтобы пить ее влагу.
Давай, давай, ИЯСА, вставай, встань, ЛАЗАРЬ.
И Лазарь встал, и испуганно морщился, когда услышал опять крики женщин, славу избавителю, славу пришельцу, который, тихо покачиваясь, уходил от них, и упал в мокрый песок.
ИЯСА привстал, потом сел в воду по грудь, положил руки перед собой, да, это было тяжело, было очень тяжело начать, найти какое-нибудь желание, потому что ИЯСА непереносимо захотелось тогда просто лечь рядом, и забыть, что нужно каждый раз искать и обманывать себя в поисках желания, в поисках ЖАЖДЫ, потребности совершать поступки, заранее зная, уже давно и острее, много острее, прожив и процесс их, и результат. Этой науке врачевания он быстро обучил приятелей, и они тоже могли исцелять, если мысленно проживали все до конца, очень остро, пахуче, осязаемо, зримо, неторопливо и подробно беря на себя чужую заботу, чужую боль, чужое желание. ИЯСА похлопал руками по реке, рассмеялся, что люди называют это божественным, он не мешал им думать так, потому что мистическая сосредоточенность помогала остроте восприятия у больного, но он смеялся, ИЯСА, он знал, что так поначалу, в далекую старину, когда еще не было СЛОВА, или даже пока оно не набралось сил, люди, а сейчас и зверь, понимали и согласовывали поступки друг с другом, скажем, вожак проигрывал в себе все сражение, и каждый повторял его действия. Знал ИЯСА, что когда-нибудь потом, когда мозг станет сильным и грозным, когда он станет СЛОВОМ, об этом умении вспомнят опять, будут пытаться воскресить умершее, или искать все новую связь. Вода бежала между ног, холодя и тревожа пах, и ИЯСА со сломанным криком бросил себя в воду, поплыл, откидывал мокрые длинные волосы с глаз.
Он с детства любил воду, любил ее независимость, ее прохладу, ее темноту в глубине, невесомость своего тела в ней. Он всегда открывал реке глаза, любил легкую боль и легкий наждак воды по ним, любил темень мокрых вод и яркий удар света, когда вырвешься радостным новым вдохом к воздуху и солнцу, чтобы потом лечь на воде, раскинув руки, и слушать ее рассказы, ее истории, истории воды, которые она несла в себе издалека, из чужих земель, которые вымывала в камнях, в песке, в глубине сути, раскинув паутину ручьев и озер, большую паутину вод. Красная память Эдипа, которая ушла тогда сквозь дыры в стопах, открылась однажды ИЯСА, его стопам, которые тоже пробьются, только не в детстве, не в неведеньи, а в большой зрелости, с жадного ведома, заранее зная, пробьются. Да, пожалуй, надо попытаться найти в себе гордость любить убийц, любить вообще иного больше, нежели есмь. Да, пожалуй, такая гордость может заставить меня еще немного пожить, она несет в себе некую сладость, некое желание, некую ЖАЖДУ. Да, пожалуй. Если тебя бьют по одной щеке, подставь другую, и люби, и прости бьющего, прости побивающего камнями, да, пожалуй, пожалуй, эта гордость, это умение дадут силу протянуть еще, в ней есть, есть, есть острота обладания. Можно будет немного к тому же развлечься, смотря, как смутится жизнь в людях от этого учения, как восстанет в них, потому что с такой гордостью уж никто ничего не сможет поделать, даже понять, узнать, открыть ее не сумеют фарисеи, даже и мытари, да и все. Одни будут говорить о всепрощении, об отказе, о слабости, другие не захотят, не пойдут к науке умирать, и те, и другие бросят камень, когда им станет не очень удобно, просто чуть-чуть неловко, и того довольно – РАСПНИ ЕГО – РАСПНИ ЕГО – РАСПНИ ЕГО – РАСПНИ ЕГО – РАСПНИ ЕГО – РАСПНИ ЕГО. Вода принесла этот далекий крик, и это был или зов будущего, или чья-то история в прошлом. Особенно трудно будет БОГАТЫМ, одаренным умом и счастьем, одаренным умением любить женщину, иметь дом, семью, детей, заботы о роде, о государстве. Легче будет верблюду, большому усталому двугорбому верблюду пролезть в игольное ушко, чем богатому, одаренному жизнью, ее заботами и усладами, принять в себя это учение, учение духа, самого духа, сути, самостоятельной, живой уже самой по себе сути, незаинтересованной в жизни плоти, ее породившей, незаинтересованной уже и в самой жизни. Надо оставить все, надо попытаться принять в себя муку и гордость одиночества, без семьи, без близких, пусть семьей станут ученики, если будут, пусть семьей станет песок и вода, и звери, если не придут ученики. Потом как-нибудь поздно нужно будет собраться вместе вечерять, и одного, который обязательно найдется, который будет дерзать дальше учителя, одного просить предать себя в руки людей. Он испугается и не захочет, но ведь он будет лучшим учеником, он будет иметь в себе большую гордость любить убийц, много большую, чем у ИЯСА, и он увидит, как бросят деньги, увидит злобные лица, орущие ему, ИУДЕ, вину свою, увидит осину, которая забоится стать перекладиной для него, и всех их он простит и будет любить, неужто я, спросит он у ИЯСА, у учителя, и тот ему скажет согласие. Потом надо будет немного обмануть себя, что вроде страшно это, что чаша сия тяжела, пусть минет, это надо будет сделать обязательно, чтобы все же пришло желание еще говорить с Пилатом, еще нести крест, и еще прокричать радость свою, радость избавления, да, да, это как минута молчания, минута большого стыда, которая продлит и умножит наслаждение в женщине, минута голой и тихой дрожи в недвижности. Ученики все это проспят, и, видимо, будут учить другому, потому что Иуды не станет, никто не понесет дальше науку умирания, науку гордости умирания, будут учить смирению, обещаниями и испугом суда, который когда-то будет, то есть будут кричать совсем не то, что нашел в себе он, учебу не устать, и прийти к смерти, к венчанию с ней, годным для этого обряда. Да, Иуда будет знать впереди многую ненависть, и полюбит ее, и примет смерть на трусливой предательнице осине, которая знала ведь еще в семени, что не пойдет на крест, а будет расти, и вон как испугалась, как затряслась листвой, шумной своей детворой, как испугалась будущей дымной расплаты в огне, смерти, которая не даст другому тепла и жара, а даст только смрад и копоть плохих дров.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































