Текст книги "Царские забавы"
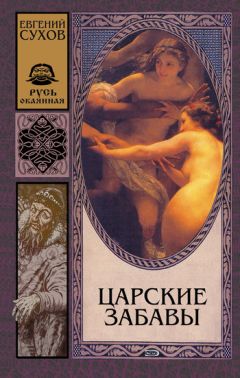
Автор книги: Евгений Сухов
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 42 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
Глава 3
Не поладив с царем, сложил с себя митрополичий сан отец Афанасий и удалился в Чудов монастырь, где был радушно принят братией.
Место русского пастыря оставалось свободным, но оно с недавнего времени больше напоминало раскаленные каменья, о которые уже обжегся и казанский архиепископ Герман. Два дня только и пробыл старец на митрополичьем дворе, а когда владыка тихим и кротким словом осудил опришнину, государь повелел выставить его вещи перед крыльцом и отпустил с миром.
Паства без пастыря – это все равно что государство без присмотра, а митрополичий стол уже успел так запылиться, что новый владыка непременно испачкает епитрахиль. Вот потому никто из архиепископов не спешил на зов государя. Каждый из архиереев ссылался на боли в груди да на ломоту в пояснице, а ростовский владыка отписал, что помрет в дороге, коли выйдет из града.
Иван Васильевич почувствовал немое сопротивление иерархов, которое крепчало день ото дня, и он уже стал думать о том, что ему не суждено найти блаженнейшего на митрополичий стол совсем. И вот тогда царь призвал к себе Ивана Петровича Челяднина, брат которого – Федор Степанович Колычев – служил игуменом в Соловецком монастыре.
Братия прозвала его Твердый Филипп.
Более благоразумной кандидатуры Иван Васильевич не мог и пожелать. Отец Филипп был велик не только ростом, но и делами. Происходил монах из знатного московского рода Колычевых, чьи предки давали великим князьям не только сподвижников и воевод, но и духоборцев, чьими праведными делами крепло православие.
Познав почет при московском дворе, Федор Степанович поменял боярскую шапку на клобук чернеца, а скоро своим смирением сумел покорить даже строгих схимников, которые возвысили его над собой, сделав игуменом.
Соловецкий монастырь всегда был местом ссылки опальных чернецов и служивых людей. Природа была скудна – мох и лишайники на камнях и трава у ручьев, едва пробивающаяся между валунами. Отец Филипп оказался добрым хозяином, уже через три года его игуменства монастырь сумел облачиться в каменное одеяние. На огромных площадях острова чернецы устроили теплицы, в которых выращивали петрушку, лук, огурцы. Еще монахи торговали солью, которая шла по весу с серебром. Но самой большой победой в сражении с суровым климатом отец Филипп считал созревшие помидоры, которые прели в огромных парниках.
Монастырь напоминал величественного витязя в непробиваемых доспехах. Он был так могуч, что не страшился каленых стрел ворогов: они непременно разобьются о его булыжную твердь в металлические брызги.
Федор Колычев был независим и характером напоминал удельных князей, которые любили, когда московские господари входят в чужой двор, снимая шапку, и чтобы коней своих непременно оставляли перед вратами. Федор и сам был почти великим князем, а Соловецкий монастырь вобрал в себя столько земли, что мог поспорить с московскими уделами.
Трижды Иван Васильевич отписывал Федору Степановичу наказ, чтоб явился во дворец пред светлые царские очи, и трижды игумен вежливо отговаривался. Отец Филипп ссылался на огромное северное хозяйство и хлопотные монастырские дела. Он был настолько смирен перед богом, что приказ царя земного для него уже давно не имел никакой силы.
Если кто и мог склонить игумена Филиппа явиться в Москву, так это его брат Иван Петрович Челяднин.
* * *
Попав в опалу, Иван Петрович был назначен воеводой в Полоцк и сносился с царем через посыльных, которые наказывали именитому воеводе словами государя:
– Бить литовцев, не жалея живота.
Именно это и делал воевода Челяднин.
Польский король, оценив мужество воеводы, пожелал Челяднина видеть у себя во дворце, суля в награду многие земли и милости. Подумал малость Иван Петрович и отослал королевское послание государю, надеясь за то получить его благосклонность. И когда явился скороход и объявил волю государя видеть Челяднина в Москве, боярин сразу подумал о том, что самодержец хочет снять с него незаслуженную опалу и посмеяться над наивностью короля. Ивану Челяднину хотелось поведать о том, что такие же письма получили и другие воеводы. Им тоже Сигизмунд-Август обещал покровительство и земли. Однако лучшие люди, смеясь над ним, отвечали, что согласятся с его предложением только в том случае, если августейший разделит литовские земли между боярами, а сам перейдет на службу к русскому царю.
Челяднин подумал о том, что государь тоже обожает всякие розыгрыши, только за одну такую шутку способен простить его и опалу поменять на милость. Неужно позабыл царь, что когда-то на его свадьбе он был тысяцким и разъезжал под окнами с саблей наголо, оберегая первую брачную ночь молодых.
Бывший конюший на зов государя явился сразу: и недели не прошло, как он спешился на берегу Неглинки, где гордым витязем высился над посадами опришный замок.
Едва переступил воевода порог Передней комнаты, а Иван Васильевич вместо здравия спросил о Колычеве Федоре:
– Иван Петрович, братца давно не видывал, игумена Филиппа?
Федор заезжал к Челяднину в прошлом месяце. Привез с собой из северной стороны гостинцев: краснощеких помидор и оранжевых апельсинов. Хвалил игумен соловецкие теплицы и все зазывал к себе в гости. Однако Ивану Петровичу было не до веселья – придавила его царская опала, вот и спотыкался он на ровных местах.
– Месяца не прошло, как встречался я с Федором. Аль недоброе чего приключилось с братом, государь? – растерялся малость Иван Петрович.
– Слышал я, что ты очень дружен со своим братом?
Покинул государь свое место и приблизился к воеводе.
– Прощение хочешь получить, Иван Петрович? Желаешь вместо Полоцка в Москве быть и рядом со своим государем, как и прежде, сиживать?
И Челяднин-Федоров с тоской подумал о царице Марии.
– Как же мне не желать такой чести, Иван Васильевич. Душу готов заложить, только чтобы твой гнев умерить.
– Я так много не прошу, – улыбнулся царь. – Вот что, Иван Петрович, уговори братца своего московскую митрополию принять. Будет тебе тогда честь.
* * *
Федор Степанович Колычев отбыл в Москву в благодатный травень, когда отошли холодные ветры и луга стали такими же плодородными, как огород у заботливой хозяйки. Май заявился неожиданно: ворвался в зиму витязем Победоносцем и ковырнул каленым острием остатки сугробов, которые тотчас растопились и ушли холодными ручьями. Трава поднялась высоко, а кроны деревьев сомкнулись между собой плотно, словно плечи исполинов, и прятали от светила мягкие покрывала из благо-уханных трав и цветов.
Кони бежали бойко, яростно срывая копытами бутоны цветов. Федор Степанович думал о братии. В безрадостном настроении он оставил монастырь. Кручина была сродни северному ветру – исхолодило все нутро да подморозило, словно первый подзимок. Расставаться с братией было тяжело. Вопреки обычаю, снял с себя клобук игумен, подставляя северной прохладе лицо, и седые волосья растрепались, а потом, поклонившись молчаливым чернецам, вышедшим проводить владыку до ворот, махнул посохом и наказал молоденькому послушнику:
– Поезжай пока. Я следом пойду.
Владыка стоял на берегу Студеного моря.
Прямой. Гордый. В черной рясе он казался осколком валуна, поросшего темным лишайником.
А потом неторопливо пошел ко двору московского господина.
Не по нутру Федору Степановичу были приглашения царя, оттого и сказывался он всякий раз больным, и только нижайшая просьба любезного брата Ивана Челяднина заставила упрямого игумена оставить обитель и отправиться к Ивану Васильевичу.
Игумен Филипп был один из немногих владык на Руси, кто смел перечить царю. Именно он год назад призвал иерархов отписать Ивану письмо, призвав не мучить русскую землю раздором, и первый поставил свою подпись под сердобольным посланием.
Сердце игумена наполнялось смятением. Впервые он выезжал в Москву без радости, а монахи уже видели в Филиппе будущего блаженнейшего владыку и наказывали строго:
– Отец Филипп, ты уж объясни царю, что негоже отрывать голову от туловища. Скажи Ивану Васильевичу, что нечего делить нашу землю на опришнину и земщину. Нераздельна она должна быть, как и вера.
Если бы не божья правда, так и не надумал бы Федор Колычев оставить паству, а вместе с ней хлопотное монашеское хозяйство.
Государь встречал игумена Соловецкого монастыря ласково. Повелел с посадов к Кремлю согнать всех черных и служивых людей, чтобы держали они кресты и церковные хоругви, а как повозка владыки подъедет к Кремлевскому холму, пусть певчие подивят гостя слаженным песнопением и доброй слезой.
Бояре и челядь, как в праздный день, были одеты в золотые кафтаны и выстроились в два ряда от кремлевских ворот аж до палат государя.
Все было готово к встрече владыки.
Пономарь уже давно взобрался на Архангельский собор и непременно первым хотел заприметить повозку блаженнейшего Филиппа, чтобы поскорее порадовать государя дивным звоном любимого колокола. Повозка игумена двигалась скромно, без пышного сопровождения и могла бы затеряться среди трех дюжин таких же, подъезжавших к Кремлевскому бугру, если бы не белые кресты на бортах.
Потянул пономарь что есть силы за пеньковый канат и отпустил с махом едва подъемный язык, и тотчас воздух сотряс на удивление чистый и звенящий глас. А следом наперегонки засмеялись колокола поменьше.
Не ожидал владыка такого приема.
Вышел из колымаги Филипп, растрогался и, едва не роняя слезу, благословил собравшийся народ на обе стороны. А когда стал подходить к Китайгородской стене, сам царь вышел навстречу и на виду у собравшегося люда поцеловал руку игумена и попросил благословения.
Помолчал малость Филипп, после чего изрек смиренно:
– Живи по-божески, государь.
А песнопение и впрямь было слаженным, словно посадские ежедневно выстаивали службу на клиросе, чтобы сейчас подивить северного владыку дивными голосами и доброй страстью, с какой вытягивалась «здравица».
Бояре сгибались перед владыкой так низко, словно он был уже московский митрополит, а не игумен далекого монастыря, каких только в северной Руси можно было бы насчитать целую дюжину.
И все-таки Филипп был один из тех немногих, о ком ходил слух как о ратоборце веры и рачительном хозяине. Игумен прославился делами и без конца приумножал богатства Соловецкого монастыря, а соль и красную рыбу продавал едва ли не во все королевские дворы Европы. Монахи сумели утеплить стылые земли так добротно, что они давали такой урожай овощей, какого не знала даже черноземная полоса, и, удивляя заезжих купцов, Филипп любил угощать их фруктами, выращенными в парниках. И купцы не без удивления сознавали, что такими плодами они потчевались только на берегах теплых морей.
Соловецкий монастырь – это некое государство, где он, игумен Филипп, – воевода, настоятель и отец. Даже царский дворец может показаться крохой в сравнении с бескрайностью северных земель.
В мирской жизни лучшие люди помнили владыку как Федора Степановича. Боярином он был неугомонным, без конца встревал в речи самого государя, и слова его были подобны плети, что непременно хочет перебить толстое полено. Колычев любил стоять в рост, да так широко, что рядом с собой не терпел никого. Высокомерный с великими, он был необычайно прост в общении с чернью. И бояре осознавали, что такого мужа хорошо иметь в друзьях – краюху от себя оторвет, а ближнего накормит. Язык его был таким острым, что напоминал перец, какой продавали персы на базарах. Федор Степанович ушел в братию потому, что опалился на боярстве, но именно сейчас оно призвало его в Москву, чтобы он, сделавшись булавой, сумел разбить твердь Иванова правления.
Путь от послушника до игумена так же далек, как расстояние от истопника до думного чина, и только немногие способны добраться до самой вершины. Федор Степанович сумел проделать этот путь дважды: в мирской жизни он стал боярином, а в чернецах сделался игуменом. Бояре знали, что Колычев всегда охотно взваливал на свои плечи любой груз, словно проверял на крепость их недюжинную силу.
Филипп заходил в царский дворец неторопливо, шел достойно, будто и вправду был владыка земли русской; во взгляде твердость, которая кричала: «Потеснись, Иван Васильевич, Колычев идет!» И, поднимаясь все выше и выше по Благовещенской лестнице, он уверенно занял то место, какое ему отводили бояре. Явился старшой, духовный наставник русской земли, а уж у него хватит духу, чтобы свернуть шею опришнине.
Иван Васильевич пожелал обедать с владыкой наедине.
Стол уже был заставлен мясом и рыбой, в братинах хмельной квас и заморские вина. А рядышком стояло три десятка стольников, готовых в любую секунду метнуться к дверям, чтобы исполнить любое желание самодержца или именитого гостя.
Мяса владыка отведывать не стал: почти брезгливо посмотрел на огромную свиную голову, которая заняла чуть не половину стола, и, ковырнув квашеную капусту, заметил:
– Не могу я, Иван Васильевич, пищу эту принять. Коли ведаешь, схимник я. Бога гневить не стану, а вот кваску твоего отведаю, знаю, что настаиваешь ты его отменно.
Квас Федор Степанович пил от души, как приложился к братине, больше напоминающей ведро, так и осушил ее наполовину. Могло показаться, что будто бы всю дорогу владыка специально не пил, а только дожидался царского стола, чтобы сполна утолить жажду. А когда наконец насытился, спросил:
– Говори, Иван Васильевич, чего ты меня из монастыря призвал?
Государь в отличие от владыки постом себя не терзал, а потому ел мяса и рыбы столько, сколько вмещала утроба; потом отрезал у свиной головы губы, зажевал их с аппетитом.
– Вот что я хотел тебе сказать, Федор Степанович, осиротела митрополия без поводыря. Блуд всюду! Воровство! Убивства! Только ты и способен на праведный путь нас, нечестивцев, вывести. Прими в руки скипетр духовный, – хмелел самодержец.
– Чем же, государь, архиепископ Герман не угоден тебе был? – поинтересовался невесело игумен.
Вот он Колычев, вся его мятежная порода выпирает в этом вопросе. Едва слышно спросил, а слова прозвучали так громко, как будто с амвона проорал. Под самый дых ударил.
– Не тот он человек, Федор Степанович, не нужен он царствию. Поучает меня как мальца малого, а ведь я не безродное дите. Да и из пеленок уже давно вырос. Не место ему подле государя, потому и отвадил его со двора.
– А может, потому это случилось, государь, что ближние твои люди услышали, как Герман опришнину не хвалил и дал владыкам слово отговорить тебя от нее.
– Не желаю я ссориться с тобой, Федор Степанович, и так уже на меня иерархи зло глядят, а если еще и тебя прогоню, так благословения высочайшего получить не от кого будет. Слезно прошу тебя, владыка Филипп, возьми московскую митрополию в свои руки.
– Не отказываюсь я, Иван Васильевич, от митрополичьего сана. Всей душой хочу послужить тебе, государь, и пастве православной, только отступись ты от опришнины, не ломай Русь надвое. Будь же всякому, как и прежде, господином!
Вечером Федора посетил Челяднин. Угрюмым пришел брат, не таков он бывал прежде, иной раз звонким гоготанием сотрясал яруса, и казалось, что дворец мог рассыпаться по камешку от громыхания.
Тяжелой ношей была государева нелюбовь.
Бывало, как разговорятся братья, даже дня не хватало, а сейчас, хоть и не виделись давно, только по два слова и сказали друг другу:
– Здравствуй, Федор.
– Рад видеть тебя, Иван.
Будто и обмолвиться нечем.
Посидев малость на табурете, поскрипев половицами, Челяднин признался:
– Пропадем мы без тебя, Федор. Раздавит нас царь, как яичную скорлупу, и такой треск по Руси пойдет, что во всех ее уголках слышно будет. Сумеешь ты государя образумить? Только на тебя одного надежда осталась.
– Чем же я могу помочь вам? Далек я от мирской жизни.
– Умом ты велик, да и хитрости тебе не занимать. Согласись митрополитом стать. Обещай царю в дела его опришные не встревать, а там, может быть, по-другому все обернется.
– Как же я один царя могу угомонить?
– Заблуждаешься, брат, не один ты будешь. Все мы заединщики! Если ты не согласишься московским владыкой быть, то Иван на митрополичий стол другого посадит, кто попокладистее. Не оставь нас, Федор, всели надежду. Мы тут всем миром хотим собраться, отсылаем гонцов во все концы. Ищем таких, кто с царем не согласен. А там посмотрим, может быть, господь и подскажет нам мудрое решение. А такой человек, как ты, укрепит нас своей силой.
– Чего же вы все-таки дальше думаете делать?
– Дальше? – помедлил малость Иван Челяднин, словно призадумался. – Не буду от тебя скрывать, брат, много мы думаем об этом. Ночи порой не сплю! Думается нам, что вместо Ивана брата его двоюродного на престол надобно ставить, князя Старицкого. Он-то уж старины не порушит. Мы тут вестового к нему посылали, так князь Владимир обещал править так, как при прадедах наших бывало.
– Что же ты такое говоришь, Ванюша! Окстись! Мятеж это, супротив государя идти.
– Не отступлюсь, Федор. Только иноземный ворог мог сказать, что повыдергает с корнем все старейшие боярские роды. Воюет с нами царь Иван, как с нечестивым племенем. Пахарем хочет государь пройтись по боярскому полю, и что не по его – с борозды прочь!.. И в сторону. Не боишься, что когда-нибудь на краю поля и твоя голова оказаться может? Ты хоть человек духовный, но все-таки тоже старого боярского рода. Если бы пять лет назад худое кто о царе молвил, так я бы его самолично придушил, а сейчас, прости меня, смерти государю желаю… Ладно, пойду я, брат, засиделся у тебя, а на дворе ночь уже давно. Подле моего дома государь надсмотрщиков тайных поставил, каждый мой шаг ему сообщают. Как бы не догадались о нашем сговоре, тогда и тебя опала не минует.
Приобняв на прощание брата, Иван ушел.
Владыка мучился в бессоннице до самых петухов, а когда прокричал последний и самый истошный, он крепко уснул, приняв окончательное решение.
Была пятница – день докладов государю, первым обещался говорить владыка Соловецкого монастыря Филипп. Бояре расселись по породе, локтями отодвинули от себя низшие чины и сидели настолько свободно, что места хватило бы еще на троих.
Владыка Филипп занял место среди князей, впереди многих старейших бояр, и никто не смел возразить Колычеву, зная, что некогда здесь сиживал его батюшка.
Бояре всегда ревностно относились к местничеству и драли с позором за волосья всякого, кто осмеливался сесть рядышком с именитыми боярскими родами, а тут подошел не спеша Федор Степанович, посмотрел хмуро на всех лучших людей сверху вниз и сказал невесело Басманову:
– Ну-ка, подвинься! Не по чину расселся. Никогда Колычевы ниже Басмановых не сиживали, – и отодвинул зараз всех.
При появлении государя думные чины поднялись и наперегонки стали отбивать поклоны. Челобитие выходило таким шибким, будто лучшие люди задались себе целью переколотить лбы. Один Филипп осмелился поприветствовать Ивана Васильевича легким поклоном, да тут же распрямился верстовым столбом. Владыка стоял среди гнущихся бояр, словно великий дуб среди луговой травы. Если кому и служил игумен Филипп, так это богу, а потому подбородок его торчал строптиво и очень напоминал фигу, выставленную напоказ.
Улыбнулся едва Иван Васильевич, но сердиться по пустяшному делу не стал.
– Что же ты скажешь нам сегодня, Федор Степанович? Надумал московским митрополитом быть… или все-таки решил в паству свою вернуться?
– Не вернусь, государь. Согласен я быть духовником московским, – отвечал Филипп.
– А ты дальше молви, Федор Степанович, у нас с тобой договор не только об этом был.
– Не забыл я, государь… помню! Крест целую, что не буду вступаться в дела опришные.
– Верно молвил, Федор Степанович, что же ты все-таки позабыл?
– Митрополию из-за опришнины не оставлю.
– Ну, вот мы с тобой и поладили, владыка, – поднялся с царского места Иван Васильевич, чтобы обнять несговорчивого игумена.
– Только вот что я хочу добавить, государь…
– Так, говори, что ты там еще надумал, – нахмурился самодержец.
– В дела опришные вступаться не буду, но вот печаловаться за людей православных – это мой долг перед паствой. Не обессудь, государь, для этого я церковью приставлен, чтобы отцом духовным им быть.
Замерли государевы объятия в пяди от владыки. Крякнул с досады Иван Васильевич, но не пожелал более сделать навстречу и шагу.
Глава 4
Государь был порывист во всем, а усердное бдение менялось на желание и страсть так же быстро, как уходящее лето рождает осень.
Скоро царя изрядно утомил строгий монашеский устав, и он все чаще стал приглашать в Александровскую слободу гусельников и прочих затейников, а потом и вовсе повелел выделить им отдельные покои, распорядился выдать рясы и собственноручно положил каждому из них на голову скуфью и принял с честью в опришнину.
Теперь между молитвами можно было услышать слаженное пение музыкантов, которые, как умели, скрашивали невыразительную жизнь чернецов. А когда, по подсказке Вяземского, государь велел привести и девиц, радости монахов-опришников не было предела.
«Чернецы» сами вызвались отобрать для государева ужина девиц. Старшим среди них был поставлен Афанасий Вяземский, который как никто умел ценить девичью красу и ведал, каких баб государь предпочитает. А потому с Александровской слободы были собраны девицы не старше осемнадцати годков: длинноногие и грудастые, у которых седалище напоминало сдобные караваи.
Опришники с пьяным весельем объезжали даже дальние деревеньки и, ссылаясь на государево слово, уводили из-под родительского крова самых красивых девиц; тешили покой родителей нехитрым обманом:
– Ну чего вы ревете, господа?! К государеву двору девку забираем. И нечего вой поднимать, в почете девица жить станет. Сам государь целовать ее будет. Ха-ха-ха! На вот тебе золотой, – совал Афанасий Вяземский в руки хозяина монету, – все-таки не щенка забираю, а дщерь!
И, посадив девку на телегу, чернецы увозили ее в монастырь.
Девицам в божьей обители и впрямь было раздольно. Поначалу-то боязно, слишком много худого слышно об опришниках в округе, а как переступили монашеский двор, как узрели молодца-государя, так и языка лишились. А еще царские детины в монастыре дюже ласковые: доброе словечко на ушко шепнут, ожерелья яхонтовые дарят.
И в первую же ночь половина прибывших девок лишалась невинности. Такой истошный ор стоял в монастыре, что святые, запечатленные на фресках, затыкали уши, а мощи праведников, покоившиеся в крепких домовинах, не знали, куда деваться.
Молитвы опришников теперь зазвучали куда звонче, чем ранее, и братия уже не сомневалась в том, что от такого усердия их слова наверняка достигнут ушей господа. Они научились простаивать по несколько часов кряду в бдении и в страстных молитвах поразбивали головы. Расквашенными лбами опришники хвастались друг перед другом с той охотой, с какой рыцари гордятся ранами, полученными на ристалище. Эти кровавые мозоли на лбу больше походили на знаки отличия, которыми государь частенько награждает особо приближенных. Полученные шишки как бы приобщали их к некому единству, которое называется государевой дружиной.
Опришники старались не отстать от государя всея Руси даже в малом: если они замечали на рясе у Ивана махонькую дырочку, то тут же надрывали одеяние в том же самом месте; если видели, что государь облачался в поношенное исподнее, то старались раздобыть такое же. В неистовстве опришники старались превзойти государя, а когда пели на клиросе, то можно было не сомневаться в том, что господь пожимает плечами, слушая луженые и охрипшие глотки сподвижников Ивана Васильевича. Монастырь стал походить на веселый балаганчик, где место было и задорному веселью, и неистовому греху.
Не чуждался всеобщего веселья и царь-государь. Он вдруг почувствовал, что мужеское желание за усердным челобитием начинает помалу угасать, и, опасаясь, что оно может исчезнуть совсем, самодержец решил воскресить его куда более земными делами, чем обращением к небесному создателю. Иван решился осмотреть всех девок, доставленных в Александровскую слободу.
Царь повелел раздеть девок до исподней рубахи, а потом важно прохаживался вдоль смущенного строя, не стесняясь, стягивал узенькие тесемочки на плечиках и заглядывал под самый низ, с улыбкой удовольствия созерцая крепость девичьего тела. А потом остановился напротив одной из них, которая возвышалась в сравнении с другими вавилонской башней, изрек, поджав губу:
– А ты велика!.. Экая громадина! Не бывало у меня еще таковых. Прыгать нужно, чтобы поцеловать. Видать, молока много пьешь, девица?
– Пью, государь.
– В нашем монастыре никто тебя еще не испортил? – полюбопытствовал царь.
– Не успели покудова, Иван Васильевич.
– Вот и славно.
И пошел дальше.
А ближние люди уже окружили девку заботой. Накинули на плечи парчовое платье, а стольники уже держат обувку с пряжками и шубу нагольную.
Иван Васильевич вполглаза подсматривал за Оттоманской Портой и оттого, по подобию султана, держал подле себя стольников, которые успешно справлялись с ролью евнухов. Им также запрещалось касаться царских избранниц; в чем они не могли себе отказать, так эта в подглядывании через дверные щели за переодеванием царских любав, и редкий муж в эти минуты мог сдержать восторженный вздох.
Потешно жилось Ивану Васильевичу в монастыре, а когда много грешишь, то и каяться надо по-особому: рьяно, с громогласными причитаниями, как будто на замаливание грехов господом богом отводилось всего лишь мгновение. Когда прегрешения были особенно велики, Иван Васильевич носил власяницу и, презирая неудобства, мог спать на твердом ложе.
Мария не интересовала Ивана. Совсем. А когда Малюта в очередной раз заводил разговор о том, что царица опять поменяла полюбовника и появляется со своими обожателями в открытых колымагах и совсем не прячет лица, государь только отмахивался от надоедливого и твердил:
– Пускай делает все, что пожелает, а нам в монастыре живется без нее не худо.
Иван Васильевич вправду тужить не любил. Он повелевал облачаться опришникам в золотую парчу, и слуги с радостью исполняли распоряжение государя и представали перед девицами во всем великолепии воскресных нарядов.
Иван Васильевич усаживал девок на колени и приговаривал ласково:
– Девоньки вы мои! Сокровища мои. Как же я без вас? Ежели расстанусь с вами, то белый свет мне не мил станет!
Девки весело хихикали и поглядывали на государя плутоватыми глазами: одно дело – на гулянье иной раз парень приобнимет, и совсем другое, когда у государя на коленях сиживать. Жеманницы уже слыхали про то, что три девки от Ивана Васильевича понесли. Царь не отправил их восвояси к родителям, не спровадил с позором в женский монастырь, а ткнул перстом на трех отроков, проходивших мимо, и объявил:
– Эй, плуты, подите сюда… Невест я вам сосватал. Вы не смотрите, что они брюхатые, девки эти очень добрые. Сам проверял. Ха-ха-ха! А чтобы вам очень обидно не было, землицы от казны получите.
Не обижал Иван Васильевич девиц и, попользовавшись, пристраивал как мог. А потому царские приживалки служили всюду – в Кормовом и Большом дворцах, на Скотном дворе и даже служили в мастерицах, а одна из них и вовсе была белошвеей.
Иван Васильевич повелел выстроить для былых зазноб целую деревню, и уже очень скоро бегали по лугам государевы отпрыски.
Теперь царь надолго оставлял свое игуменство, и его можно было встретить в лесу или в поле в окружении красных девок, которые вертелись вокруг него, словно щенки подле доброго хозяина. Государь не гнушался девичьими играми, позволял бесстыдницам одевать себе вместо царственного венца венки из ромашек, прыгал с ними через костры, но особенно полюбились ему «жмурки». Царь ловил девок с завязанными глазами и попавшуюся в его объятия целовал в горящие уста.
Государеву радость омрачил Малюта Скуратов, который появился однажды в Александровской слободе темной ночью, дьяволом проскакал до монастыря и что есть силы заколотил в ворота стальным кольцом.
– Вратник, где ты там?! Язви тебя, нелегкая! Где ты там носишься? А может быть, уснул?! – прикрикнул он на перепуганного детину. – Вот узнает про твое лихоимство государь, достанется тогда тебе!
– Не губи, брат, не говори государю! – взмолился перепуганный вратник-монах. – Не простит меня государь. И так уже однажды я за шалость поплатился.
Григорий Лукьянович признал в монахе наказанного отрока: однажды тот осмелился уснуть во время проповеди, за что неделю отсидел в подвале, питаясь одним намоченным хлебом. Второго проступка Иван Васильевич обычно не спускал и гнал нерадивца из опришнины, а эта немилость настолько тяжела, что даже поцелуй плетей может показаться лаской.
– Ладно, смотри у меня, – погрозил Григорий Лукьянович кнутом. – Если что не так, государь про все твои провинности узнает. – Малюта прошел на монастырский двор, сознавая, что приобрел еще одного раба навечно.
Малюта прибыл в тот редкий день, когда братия проспала не только утреню, но и обедню. Григорию Лукьяновичу сообщили о том, что трое суток «чернецы» бражничали и повыпили все запасы вина, какие хранились в монастыре еще со времени княжения Ивана Калиты. Однако в келье игумена Ивана брезжил свет. Подумав, Малюта решил навестить самодержавного владыку.
Иван Васильевич склонился над книгой. Казалось, что он даже не хотел замечать присутствия Малюты, а Григорий не смел отрывать государя от чтения даже нечаянным шорохом одежд.
Наконец царь обратил внимание на холопа.
– Я вот сейчас житие святых читаю, Григорий Лукьянович. Лучшего места, чем монастырские стены, для чтения и не сыскать, Гришенька. Сколько же среди них грешников было, прежде чем каждый из них сумел прозреть и взор свой к богу обратить. А ведомо ли тебе, Григорий, почему?
– Почему же, государь?
– Потому что окунулись мужи в святом духе, как в купели.
– Вот оно как.
– Да, Гришенька. Я ведь тоже большой грешник, может, и на меня сияние божие снизойдет? – И, помолчав немного, спросил: – С чем пришел, Малюта?
– Дурные вести я принес, государь.
– Вот как? Этим ты меня не удивишь, Григорий. Что ни день, так новая беда на дворе. Запужал ты меня совсем. Верить более никому не могу. Что же на этот раз приключилось? – хмурился государь.
– Новое лихо от Челяднина-Федорова идет. Совокупился конюший с иными боярами и на царство князя Владимира, братца твоего двоюродного, вместо тебя ставить хотят. Отписали князю Старицкому список бояр и воевод, на кого он может опереться во время мятежа. Что делать прикажешь, царь?
– И сколько же таких нехристей набралось, что против государевой воли надумали подняться?
– Триста душ наберется! Только мне думается, государь, не желает конюший видеть князя Владимира Старицкого на престоле. Мой слухач разговор Челяднина с царицей услышал, так она ему сразу сказала, чтобы он на себя царственный венец примерил.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































