Текст книги "Алиби"
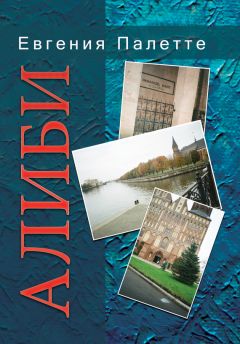
Автор книги: Евгения Палетте
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Еще несколько дней Андрей провел дома. И как ни хотел он повидать брата, ему это не удалось. Фридрих был в польских губерниях на маневрах. Ходили слухи, что, несмотря на то, что автономия полякам была обещана с большими оговорками и в довольно неопределенных выражениях, они требовали присоединить к ним белорусские и литовские земли.
Уезжал Андрей теплым апрельским утром. Вспоминая о доме, он всегда потом видел белый, цветущий абрикосовый сад, отца, рядом – Анну Филипповну. Оба подтянутые, стройные, еще совсем молодые. Справа – Луиза и Люк. Он сидел на задних лапах и улыбался, как это делают собаки, когда понимают, что их с собой не берут. И надо остаться.
Когда Горошин подошел к Виктории, Бурмистров был уже там. Он сидел на самом краешке гранитной скамьи, сосредоточенно поглядывая по сторонам. А лицо его, как показалось Горошину, выражало крайнюю степень неудовольствия и досады.
– Ты чего? – спросил Горошин.
– Чего-чего, Таньку не хочу видеть, – с готовностью, будто только и ждал, чтобы его спросили, ответил Бурмистров. – Надоела, – продолжал он, – Канючит и канючит. В Грецию ей надо.
– Ну и пусти её в Грецию. Пусть её, – сказал Михаил так, как говорил его отец, переняв в свою очередь, у своей матери, Анны Филипповны.
– Вас, Горошиных, послушать, так никому ни в чем отказа не будет, – с заметным раздражением сказал Бурмистров. – А деньги? – воззрился он на Михаила. – Прошли времена. Сходишь на полгодика, бывало, в море, так уж на недельку и в Грецию можно было съездить. Правда, тогда были другие проблемы. Характеристики. Благонадежность. Но все-таки как-то было можно. А сейчас – пенсия, моя дорогая, – продолжал Бурмистров так, будто разговаривал с Танькой. – Ты извини, Миш, Танька ведь никогда ни в чем не нуждалась. Сам знаешь. Но сейчас трудно. Да нет, что это я – невозможно, – поправился он. – В Грецию, – покачал головой Бурмистров. И теперь уже улыбнувшись Горошину, взглянул на него своими черными, блестящими глазами.
Бурмистров сдавал. Он пополнел. Обрюзг. Трудно дышал. То и дело кашлял. Но кашля не получалось. А появившийся живот не только затруднял восприятие окружающей действительности, но и заметно раздражал его самого.
– И всё-таки. Я бы пустил её в Грецию. Пусть в Греции будет еще и Танька, – намекнул Горошин на известное выражение, что в Греции всё есть. – Тебе ж, дураку, отдохнуть от неё недельку-другую. В определенном смысле Михаил хорошо понимал Бурмистрова, поскольку Таня и Тоня были родными сестрами.
Теперь, достав из бокового кармана таблетку и проглотив её, Бурмистров неопределенно улыбнулся.
Продолжая смотреть на Бурмистрова, Горошин вдруг вспомнил Надю, одноклассницу его и Бурмистрова в Ветряках. Надя любила Сашку, и провожала его на фронт. А он, Горошин, дипломатично отворачивался, когда они целовались. Сашка тогда был заметным парнем – яркие, черные глаза, смоляной чуб. Всегда веселый, всегда в движении, балагур и пройдоха, он нравился женщинам. А женщины нравились ему. И Катерине он нравился. И Горошин вдруг вспомнил, какая это была хорошая пара. Но Бурмистров увлекся ефрейторшей из полка связи, и когда пришел назад к Катерине, она его не приняла. С тех пор у них отношения дружеские, но с примесью уязвленного самолюбия. С обеих сторон. Когда Катерина, в сорок шестом, вышла замуж за своего артиллериста, Бурмистров женился на Таньке, маленькой, вертлявой, с широко расставленными, выпуклыми глазами.
– А чего. Хлеба не просит, – не то в шутку, не то всерьез, сказал тогда Бурмистров Горошину. Танька была продавщицей в хлебном магазине. Но он, Горошин, знал, что сказал это Сашка с большой долей самоиронии, и на самом деле он всегда жалел, что расстался с Катериной. А еще Горошин знал, что Бурмистров до сих пор хранит письмо, которое написала ему Катерина, окончательно расставаясь с ним. Письмо это однажды нашел Бурмистровский сын, но матери ничего не сказал, что само по себе значило много. «Да чего уж теперь», всегда говорил Бурмистров, когда речь заходила о Катерине. «Теперь ничего» тут же говорил он самому себе. И умолкал. И Горошин понимал его. С десяток лет назад, когда еще была жива Зоя Даниловна, она писала, что всю жизнь, так и прожившая в Ветряках Надежда, не дождавшись Бурмистрова, осталась одна. А теперь, когда Зои Даниловны не стало, они о Надежде тоже ничего не знали. Все женщины Бурмистрова по-своему любили его. А он любил Катерину. Но как-то с большим достоинством, хотя давно уже ничего не ждал. И когда Бурмистрову за многолетнюю работу на судах рыболовецкого флота дали Орден Трудового Красного Знамени, единственной женщиной, поздравившей его, была Катерина. «Представляешь, никто. Даже Танька», – жаловался Бурмистров Горошину. «Что – Орден», – сказала она, – «Если бы за него деньги платили. А так – Орден и Орден». – Одна Катя поздравила – горько сказал ему тогда Бурмистров. Вспомнив сейчас об этом, Горошин запоздало обрадовался тому, что занятые неотложными проблемами ребята ничего не спросили его об Ордене, который он должен был получить, но проспал.
– Ну, что? Легче стало? – спросил Горошин Бурмистрова, напомнив ему о съеденной недавно таблетке.
Тот с минуту смотрел на Горошина. Потом качнул головой – «Легче».
– А Катерины Васильевны сегодня не будет, – вдруг сказал Бурмистров кому-то, кто стоял у Горошина за спиной. И тотчас Сашка подвинулся, освобождая часть скамьи для только что подошедшей девочки Маши.
– Здравствуйте, – поздоровалась Маша со всеми, мельком взглянув на Горошина и опять розовея. Её свежее лицо, обрамленное пушистыми, светлыми волосами, было серьезно. А тихий голос, неторопливые движения и манера не сразу отвечать на вопрос почему-то вызывали уважение.
– Как дела? – спросил Машу Бурмистров, должно быть, чтобы что-нибудь спросить.
– Вчера было плохо, – отвечала она. И все поняли, что Бурмистров спросил, а Маша ответила на вопрос о Катеринином муже, поскольку Маша знакома с Юрой, а значит, и с Катериной.
– Сегодня я надеялась встретить здесь Катерину Васильевну, чтобы узнать последние новости, сказала Маша. Но, мельком взглянув на Горошина, и увидев, что он смотрит на неё прямо, умолкла.
– Сказала, не придет. Может, передумает, – озабоченно произнес Бурмистров. – Хотя, если было бы совсем плохо, наоборот, пришла бы, договорил он.
Маша не отвечала, должно быть, найдя то, что он сказал, справедливым.
Прошло минут пятнадцать. Катерины всё не было. Поглядывая по сторонам и продолжая сидеть на скамье, Маша не уходила. Был сильный ветер. Он раздувал волосы, звенел в ушах, сливаясь со звоном трамваев и гудками машин. Потом затихал, оставляя где-то рядом едва уловимый гул. И этот гул не затихал до тех пор, пока ветер ни налетал снова.
И тогда гула в ушах становилось почти не слышно.
– Здравствуйте, полковник, – сказал мужской голос совсем рядом с Горошиным.
Михаил сидел теперь на самом краю скамьи, где впервые, неделю или две назад, он увидел Пера. И это опять был Пер.
– Сегодня вас только трое, – констатировал Пер, поглядев на Бурмистрова и Машу, а потом – на Горошина. И с пониманием кивнул.
– Не видели ли вы здесь человека с собакой? – неожиданно спросил Пер Горошина. Он был в темном, шерстяном, спортивном костюме и желтой бейсбольной шапочке, из-под козырька которой виднелись его сумеречные глаза. – Не видели? – опять спросил он.
– К сожалению, – отозвался Горошин. – Может, я могу чем-нибудь?
Нет, спасибо. Мне нужен Цаль. – Так зовут этого человека, – спохватился Пер.
– Цаль? Необычное имя. Где-то я слышал это слово. Но запамятовал.
– Это – немецкое слово. Означает «число», – объяснил Пер. – И это имя, – хотя это, кажется, фамилия, – поправился он, – как нельзя более подходит этому человеку. Прошу прощенья за невнятное объяснение. – Он – доктор экономики, – продолжал Пер, – И очень хорошо считает в уме. Особенно виртуозно он извлекает квадратные корни из иррациональных чисел, – слегка улыбнулся Пер, явно чего-то не договорив. —
– А-а, – понял Горошин. – Так вам нужно извлечь корень из иррациональной величины? Я, правда, такими способностями не обладаю, – продолжал Горошин, не дожидаясь ответа. – Но если что-нибудь посчитать, то я к вашим услугам.
– Нет, благодарю вас, – ответил Пер и умолк, посмотрев по сторонам. – А я был на Александр – платц, так всё боялся к вам опоздать. Но успел, – после небольшой паузы сказал Пер, провожая глазами какого-то лохматого, потного в черном, длинном пальто господина. В руке человек нес тяжелый портфель. Слегка прихрамывая, но довольно быстро, он прошел мимо Пера, поглядев на него два раза, и слегка задержав взгляд на нем. Потом двинулся дальше.
– Знакомый? – спросил Горошин. Пер не ответил.
Теперь Горошин смотрел на толстуху с авоськами, шедшую в том же направлении, куда ушел потный господин. И вспомнив его блестевшее от пота лицо, Горошин еще раз посмотрел ему вслед. Искаженное тяжестью и необходимостью нести эту тяжесть, лицо толстухи было сосредоточено. Глаза смотрели вперед. Поравнявшись со скамьей Пера, где сидел Горошин, женщина тоже посмотрела на Пера, и прошла мимо А за ней уже бежала другая, моложе, стараясь как можно скорее её догнать.
– Куда это они? – спросил только что подошедший к компании человек, остановившись рядом с Горошиным.
Михаил внимательно взглянул на него. Рядом стоял относительно молодой человек с очень сильной дальнозоркостью так, что крупные, в мохнатых ресницах, глаза его, казалось, были как-то слегка впереди очков. А обширная радужка могла бы привлечь внимание любого тем объемом энтропийной энергии, которую эти глаза выделяли в окружающее пространство.
– Филимон, – протянул человек Горошину руку, – Можно просто Филин.
Горошин вежливо кивнул, но руки не подал.
– Что происходит? – спросил, задав вопрос теперь по-другому, Филимон.
– Час пик, – отозвался Горошин, по-своему объясняя такую целеустремленную торопливость проходивших мимо сограждан. – С работы идут, – договорил он.
– Знаете, куда они идут? – спросил у всех Пер, с любопытством глядя теперь на Горошина, как человек, предвкушающий удовольствие от еще несделанного, но уже предполагаемого сообщения.
Горошин вопросительно посмотрел на Пера.
– Видите вывеску? – кивнул Пер на здание, стоявшее на другой стороне площади. – Бюро пропусков, – уточнил он.
– На той стороне Площади? Что-то я раньше там ничего не замечал, – уже прочитав вывеску, сказал Горошин, опять вопросительно посмотрев на Пера.
– Сейчас все спасаются. Хотят получить пропуск в новое Двухтысячелетие, – начал Пер. – Получат не все, – продолжал он. – Но они этого не знают. И идут. Скоро там будет не протолкнуться, – договорил он, что-то явно утаивая. Но чувствовалось, что информацией он владеет в полной мере.
– А если пространней, – сказал Горошин, обращаясь к Перу.
– Да, подробней, – раздался нетерпеливый голос Филимона.
Лицо Филимона было сосредоточено, казалось, только на том, чтобы услышать ответ.
– Так ведь все знают, – отозвался Пер. – Только что закончилось Двухтысячелетие. В космическом выражении – один месяц. Это что-нибудь для всех нас значит? – спросил Горошин.
Пер кивнул.
– Исторические, социальные и даже биологические процессы завершают очередной круг, – пояснил Пер. – Потом все сначала. В новых координатах. А пока длится безвременье, происходят разного рода катастрофы. Обостряются противоречия, разногласия между людьми. Отсюда совсем недалеко до социального взрыва.
– А где это написано? – спросили рядом. Горошин понял – это был Филимон.
Но к нему не обернулся.
Пер на вопрос Филина не ответил.
– Когда лет сто назад, – снова заговорил Пер, – Кьеркегор предсказал нашествие варварства, а Ницше возвестил о рождении нового человека, кто-то этому верил, кто-то – нет. Но этот человек появился, когда еще грохотали пушки Первой Мировой Войны. И главный вопрос тогда был – сможет ли человечество выжить. Не сметет ли новый человек старого. И вот за время межвоенного двадцатилетия вошла в жизнь и начала развиваться новая раса людей. Так, Федор Успенский утверждает, – немного помедлил Пер, пристально глядя на Горошина, стараясь понять, знает ли тот чтонибудь о Федоре Успенском.
– Это еще дореволюционный ученый, – вспомнил Горошин.
– Во время революции ему было почти семьдесят. Об этом я читал. Так вот. Успенский утверждает, – продолжал Пер, – Что на всей планете, независимо от расовых, национальных, религиозных, социальных и других различий, формируется новая, шестая, человеческая раса. Это – труднопостижимая мистерия, как всё в Мироздании. Долгое время эти новые люди – священники и рабочие, солдаты и клерки, хирурги и журналисты жили по всему миру в одиночку, разделенные пространством, непониманием, неприязнью. Но еще более непостижимой стала тайна вызревания в этих людях сознания, что они есть и должны встретиться. И то, что будет происходить на Земле потом, будет происходить совсем по-другому. На более высоком уровне. А массовый человек станет личностью.
– Так ведь этот «массовый» просто возьмет и причислит себя к новому человеку, – сказал Филимон. – Будет он там изменять себя и свое сознание, как бы не так.
– Конечно, – отозвался со своей скамейки Бурмистров, который давно уже вслушивался в разговор. – Я уже видел. Вон там, над рекой, какойто плот строят. Говорят, новый ковчег. Спасаться, что ли, будут? – с непониманием произнес Бурмирстров.
– Строят-то они, строят. Да ведь неизвестно, есть ли сама возможность спасения? – с сомнением сказал Пер. – Но пока дорога открыта всем. Все зависит от самого человека. Если он выбирает разум, рационализм, ответственность за то, что происходит, и будет происходить на Земле, он открывает себе дорогу в Ковчег. Если он остается массовым, он лишает себя надежды.
– Интересно, что же победит в человеке? – неожиданно подала голос Маша.
– Я так понял – выбора нет. Исход борьбы между новым и старым предрешен? – спросил Филимон, слегка перебив Машу.
– Да, это так, – отозвался Пер. – Ибо человек есть всего лишь орудие высшего разума. И два человека – Новый и Старый – никогда не посмотрят друг другу в глаза, потому что каждый найдет в глазах другого непонимание.
– Значит ли это, что то, о чем здесь только что говорили, и есть конец Света? – спросил Пера Горошин.
– Не света, а старого Двухтысячелетия, в конце которого обыкновенно происходят гигантские катастрофы. Последняя из них была – погружение Атлантиды, – заключил Пер И все эти люди, как вы утверждаете, направляются в Бюро Пропусков? – всё ещё постигая смысл сказанного, спросил Пера Горошин.
– Именно, но чтобы получить пропуск, им надо сделать свой выбор, – умолк Пер.
– Должен вам сказать, – снова заговорил он, – все эти процессы идут не только у вас. Они идут по всему миру. Я только что из Берлина. Там, на Александр – платц – то же самое. Собираются группами, что-то обсуждают, кого-то обвиняют, устраивают демонстрации. А путь один – в Бюро Пропусков, – договорил Пер. – Всё должна решить готовность каждого к изменениям в себе.
– Вы слышите Гул? – еще раз воспользовавшись паузой, спросил Пер, – всюду несмолкаемый Гул. Везде люди, будто штурмуют какую-то гору. Но пока им это не удается. Потому, что, прежде всего, надо взять гору каждому в самом себе.
– Теперь, кажется, и я слышу Гул, – неуверенно сказал Горошин, вспомнив, как его отец, Андрей Николаевич Горошин, рассказывал ему о каком-то Гуле, который он впервые услышал, когда в восемнадцатом вернулся из Голдапа в Россию. Правда, тогда говорили, что в четырнадцатом сошел на Землю Антихрист, и это многое объясняло.
– Если всё, что вы сказали – правда, это – серьезно, – медленно, как бы закрывая абзац, проговорил Горошин. – Вы не верите мне? – удивился Пер. – Мы же с вами некоторым образом – союзники. Я тоже воевал против Гитлера, – напомнил он.
– Но вы родились в Айове. А это многое меняет. У нас с вами разная этика, – опять по-солдатски прямо сказал Горошин.
Пер не ответил.
Но Горошин видел, как напряглись его глаза, а гематогеновое пятно заволновалось.
– В конце концов, каждому надо взять Гору в самом себе, – будто слегка примирительно сказал Филимон, не продолжая.
– Это справедливо, тихо сказал Горошин, – Что ж, попробуем подняться сами и оставим место другим. На Горе, я думаю, всем места хватит.
– Вот мы уже говорили с полковником, – снова обнаружился Пер, – Нужно, чтобы на Земле кто-нибудь был носителем и хранителем разумного и это разумное защищал.
– И вы таких знаете? – почти насмешливо спросил Филимон.
Пер не ответил.
– Вас как зовут? – неожиданно спросил Бурмистров Филимона с очень заметным интересом.
– Филин, – с укором сказал Филимон. – Я уже представлялся. Хочу предупредить от возможной ошибки. Не Филл, а именно Филин.
– И вы тоже согласны с тем, что сказал полковник? Ну, что у нас с вами разная этика? – неожиданно спросил Филимона Пер.
– Я даже могу доказать это, не сходя вот с этого места, – отозвался Филин. – Но у нас, я думаю, еще будет случай поговорить.
Пер кивнул.
– Не видели ли вы здесь человека собакой? – снова спросил Пер Горошина, видимо забыв, что об этом разговор уже был. Горошин молча, отрицательно качнул головой.
– Тогда, всего доброго, – без каких бы то ни было признаков недоброжелательства произнес Пер, теперь провожая глазами молодую пару, говорящую друг с другом на повышенных тонах. И Горошин понял, что они тоже идут в Бюро Пропусков.
Когда Горошин снова перевел глаза туда, где только что стоял Пер, Координатора там уже не было.
– А где? – спросил Горошин, поглядев на Бурмистрова.
Бурмистров понял. Молча пожал плечами.
Сидевшая с ним рядом Маша, до сих пор не проронившая ни слова, тоже отрицательно качнула головой.
– Исчез, – сказал Филин. – Вы слышали? Он тоже не против поговорить об этике. Очень бы хотелось, – многозначительно сказал он.
– А теперь давайте получше познакомимся, – обратился к Филину Горошин.
– Это – Бурмистров. Маша, – сказал он опять, кивнув на скамью, где сидела Маша. – Михаил, – представился сам.
– Ну, я уже называл свое имя, – сказал Филимон. – Учился на экономическом, но по причине отсутствия в социалистическом государстве экономики, как таковой, ушел в теорию. Нашел там много интересного. Это, пожалуй – всё, что надо знать обо мне. Вас я всех знаю. И вы мне нравитесь, – заключил он, – Если вы примете меня в свою компанию, буду рад, – слегка поклонился он всем. И сел рядом с Горошиным. Но все, кто хотел поговорить с ним, сделать этого не успели. Минут через пятнадцать Филин поднялся и, простившись «до четверга», ушел.
– Михаил Андреевич, – неожиданно обратилась к Горошину Маша, когда Филимон был уже далеко. – Откуда этот человек с пятном, все, что он говорил, знает? Ну, о Двухтысячелетии и о другом.
– Пер? – переспросил он, глядя на Машу.
Маша кивнула, глядя теперь на него своей необъятной зеленью.
И Горошин не поручился бы, что Маша хотела знать только это.
– Работа у него такая, – без особого смысла, по сути, ничего не объясняя, сказал Горошин.
– Но, Михаил Андреич, он говорил очень серьезные вещи. Ведь смена человеческих рас на Земле. Это вопрос дискутабельный. А он так уверено говорил, – умолкла Маша. – Хотя это, конечно, безумно интересно, продолжала она. – Я думаю, об этом хорошо было бы поговорить с Фолкнером. И хотя прямо на эту тему он не писал, но с его энергией, его страстью, его интуицией он что-нибудь бы обязательно прояснил. Не как ученый-исследователь, а как писатель, – договорила Маша. И умолкла, глядя на Горошина. Словно ожидая поддержки.
– Вы любите Фолкнера?
– Обожаю, – сказала она так, как говорят о том, что действительно любят.
– Пишу диплом, – коротко сказала она. – По Фолкнеру? Маша кивнула.
– Я думаю, вам больше подошла бы поэзия.
– Фолкнер и есть поэзия, – сказала она. – Энергия его поэзии неуловима, и проявляется не в сюжете, не в мотивах, не в так называемой фабуле или идее. Она пронизывает всё, как в хороших стихах. Если вы хотите, мы когда-нибудь поговорим об этом, – неожиданно сказала она.
– Если говорить будете вы, я согласен.
Маша рассмеялась коротким тихим смехом, обнажив ровный ряд потрясающе белых зубов. Резцы были совсем чуть-чуть длиннее тех, что были рядом. И эта маленькая подробность показалась Горошину восхитительной. Он и сам не понимал, почему.
– А теперь ты мне скажи, – неожиданно возник Бурмистров, – Чего этот «пришелец» от тебя хотел, – спросил он.
– Ничего не хотел, – отозвался Горошин, и понял, что минуту или две назад почувствовал жуткую скованность.
– Ты чего? – спросил его Бурмистров, уловив внезапную перемену в нем.
– Ты не видел человека с собакой? – спросил его Горошин.
– Собаку видел, а человека нет, – пошутил Бурмистров очень по-своему.
– Вот и я не видел, – отозвался Горошин.
Маша, сидевшая рядом с Бурмистровым, теперь откровенно Горошину улыбалась. Не прошло и пяти минут, как Виктория погрузилась в туман. Следом за туманом стало быстро темнеть. Туман заполнял легкие, холодил спину, скрывал от глаз все, что только что было рядом. Теперь одни многочисленные фонари из только что бывшей, но вдруг исчезнувшей жизни, поддерживали ориентацию в пространстве.
Несмотря на то, что в мае, в этих широтах, в двадцать два ноль – ноль еще светло, туман заставил забыть об этом. Влажность девяносто девять и девять десятых процента, подумал Горошин и засобирался домой. Ему нужно было пять минут, чтобы дойти до остановки автобуса. И через пятнадцать минут он – дома. Он встал, немного постоял, сказал «Ну, что ж. Всем спокойной ночи» и немного помедлил.
– Всем спокойной ночи, – опять сказал он, подойдя совсем близко к скамейке, где сидели Бурмистров и Маша. Маша, все так же улыбаясь, глядя на него, не говорила ни слова.
– Ты что это заладил «Спокойной ночи, спокойной ночи» – недовольно проговорил Бурмистров. – Тут я, что ли, спать буду? Забыл? Мы с тобой одним автобусом едем, – договорил он, поднимаясь теперь со скамьи.
– До свиданья, – по слогам сказала Маша, оставаясь сидеть.
– Не по пути? – спросил её Бурмистров.
Она молча покачала головой, перестав улыбаться.
– Занятная девочка, – сказал Бурмистров, когда они, с Горошиным, дошли до автобусной остановки. – Филолог.
Горошин молчал.
Минут через двадцать, простившись с Бурмистровым, который ехал дальше, Михаил подошел к дому.
***
Открыв дверь, он вошел, как всегда, не зажигая света. Дверь защелкнулась сразу, оставив его в темной передней. Сознавая, что надо включить свет, он делать этого не стал. Так, неизвестно, почему. Будто из какого-то протеста. Войдя в комнату, подошел к окну. Лужайка, освещенная одним единственным фонарем, стоявшим среди деревьев, и оттого, будто излучавшим зеленый свет, казалась пятном, сферой, внутри которой перемещаются некие зеленые объемы. Света было так много, и распространялся он так далеко, окрашивая зеленью забор, мостовую, белую скамью, на автобусной остановке, белую кору березы и, кажется, даже воздух, которым он дышал, что Горошину казалось, что всё это он видит и ощущает впервые. Бывает такое, когда кажется, что то, что видишь каждый день, видишь впервые. Это был удивительный, внезапно возникший прорыв в монотонной череде дней и ночей, вдруг возникшая брешь, в которую проникло что-то другое, давно забытое, и он почувствовал, что его устоявшиеся представления о вещах и предметах в этой комнате, перестали быть таковыми. Еще раз подумав, что надо включить свет, он окончательно понял, что не хочет этого делать еще и потому, что тогда он увидит и старый, весь в выбоинах, гранит, и давно нечищеный камин, и круглый стол, довоенного происхождения, за которым они совсем недавно сидели с Буровым, и старые тапки, бывшие теплыми и пушистыми тридцать лет назад. Старые люди – старые вещи, вспомнил он, удивившись тому, что считал это правильным. А сегодня вдруг понял, что нет. Старым людям нужны новые, и даже модные вещи, чтобы время не забывало о них. Теперь ему захотелось открыть окно. Там, за окном – ветер, подумал он, еще не вполне сознавая, что хочет, чтобы этот ветер смешал и переиначил здесь всё. Ему захотелось все поменять местами, освободив углы и закоулки от всего, что здесь накопилось. И, прежде всего – от разрушающей энергии одиночества.
Прошло несколько минут, а он так и стоял у окна, ни на что не решаясь. Наконец, повинуясь очередному импульсу, тронул ручку окна. Ручка не поддавалась. Должно быть, срослась, подумал Горошин, внутренне нисколько не возражая против этого «срослась», как сросся он сам со всем тем, что было вокруг. Пытаясь повернуть ручку еще и еще, он все так же стоял у окна, которое, как ему казалось, противостояло ему. Не могу, подумал Горошин, стараясь понять, что ему следует делать дальше. Так непривычны были эти слова по отношению к нему. Не могу, подумал он опять. И вдруг, осознав, что, если он не сделает этого сейчас, не сделает уже никогда, решил попробовать еще раз. Потянув ручку вниз, он так резко рванул её теперь наверх, что рама отошла, и в комнату ворвался ветер с лужайки. Это был свежий, легкий, зеленый ветер. Зеленый свет сегодня преследовал его, и он впитывал его глазами, кожей, сознанием так, будто кроме этого зеленого света, ничего больше не существовало.
– Закрой окно. Мне холодно, – будто неожиданно сказал кто-то. И он понял – это его память случайно набрела на то, что здесь, в этой комнате, когда-то было. И вот, должно быть, никуда не ушло. Он сразу узнал – это был голос Тони.
– Мне холодно, – опять послышалось издалека, оттуда, где сзади него, в левом углу комнаты, стояла кровать.
Михаил не ответил.
– Мне тоже, – будто сам он медленно сказал через минуту. – Здесь теплее.
– Я знала, что скоро ты это скажешь.
Он молчал, стоя, как вот теперь, у окна, глядя на лужайку.
– Ты любишь только свое одиночество. Там тебе никто не мешает.
– Если тебе было плохо со мной, прости, – отозвался он.
– Хочешь, чтобы я ушла?
Он молча закрыл окно, и ушел из дома, чтобы пробыть где-нибудь оставшуюся часть ночи. Изменить что-нибудь было уже невозможно. Вернулся он к вечеру следующего дня. Тони не было.
Потом приходил Бурмистров. Он говорил, что его послала Татьяна, что Тоня о его приходе к нему, Горошину, не знает. Но ему нечего было сказать Бурмистрову. Произошло то, что должно было произойти, и о чем он знал едва ли ни в первый день знакомства с Тоней.
Прошло много времени. Может быть, около часа. А он всё еще стоял у окна. Зеленый ветер с лужайки, врываясь в комнату, волновал, создавал настроение, не давал расслабиться, возвращал то к одному, то к другому.
– Вы к полковнику? – спросила женщинакапитан в приемной.
– Нет, капитан, я к вам, – отвечал Михаил, стоя посреди кабинета, в который выходили две двери – справа и слева.
Слева – к адьютанту Командующего Армией, к которому Горошин был послан Лисёнком для утверждения какого-то, он сейчас не помнил, документа.
Ко мне? – мгновенная реакция, улыбка, две ямочки на щеках. Красивый овал лица. Густые волосы, подстриженные по мочке уха. И – ожидание того, что он еще скажет.
– Лена, – наконец, сказала она, улыбаясь.
Она была переводчиком в штабе Армии, и у них было только три дня. Ждали наступления. И все эти три дня и три ночи были отмечены этим ожиданием.
– А твой друг, этот майор Лапицкий? – осмелев на вторые сутки, спросил Горошин.
– Это не то, что ты думаешь. Серьезное, словно непроницаемое лицо. И едва уловимый подтекст, на который способны только такие женщины, как она.
Он понял. Стало тихо. Вот так же, как сейчас, в открытое окно влетал ветер. Небо расчеркивали прожектора, отчего по полупустой комнате перемещались тени, создавая иллюзию, что они не одни. Металлическая, подвижная во всех сочленениях кровать, грозившая вот-вот рухнуть, но почемуто не делавшая этого, хоть и была в комнате третьей, в расчет не принималась.
– Так ты согласна? спросил он опять, как несколько минут назад.
– Да, – сказала она совершенно серьезно.
Он молча глядел на неё, не зная, верить ему или нет.
– Давай, подадим рапорт, – наконец, сказал он. – Прямо здесь. Еще есть день, – напомнил он.
Она согласно кивнула.
В последний день пребывания в Штабе, когда поручение Лисёнка было выполнено, они подали раппорт о том, что решили быть вместе. Провожая его до машины, которая отправлялась в хозяйство Лисёнка, Лена, прощаясь, обняла его. Наступления ждали с часу на час.
Через несколько дней, когда их часть продвинулась на несколько десятков километров, он позвонил. Ответил знакомый полковник. Он сказал, что Лена послана с группой в какой-то небольшой город для очень ответственного задания. И пока о группе ничего не известно. А еще через неделю Горошин сидел с майором Лапицким в брошенной немцами землянке и пил трофейный коньяк. Говорили о Лене. Долго и тихо. И, несмотря на то, что в прошлом каждый как бы исключал другого, теперь, узнав о том, что Лены нет, они стали друзьями. Пока жизнь и время не забыли об этой дружбе. А любовь осталась. И Горошин не мог забыть о ней никогда. И то, что оказывалось рядом с ней, на месте её, вольно или невольно не принималось. Отчасти это и было причиной того, что едва ли ни в первый день знакомства с Тоней, он знал, что расстанется с ней. Ему нужен был полет, вдохновение, жертвенность – все, что может дать только любовь. А поскольку ничего этого не было, а было вранье и неоправданная вертлявость, от чего у него по спине бегали мурашки, как от чего-то стыдного, ничего так и не началось. А когда Тоня однажды нашла фотографию Лены из ее личного дела, которую Горошин выпросил в Штабе Армии на память, и порвала её, он пожалел, что когда-то, на первомайской демонстрации, подал ей руку.
Почти через год, после ее ухода, Горошин узнал от Бурмистрова, что у Тони родился сын, о котором она просила Горошину не говорить. Бурмистров и не говори. Но однажды все-таки не сдержался. Горошин отнесся к этому известию, как к факту в высшей степени любопытному, но к нему никакого отношения не имевшему. Правда, иногда он начинал сомневаться, и тогда некоторое время не находил покоя. Отчасти потому, что не верил. Отчасти – что сомневался. Но еще сильнее было чувство неприятия. Он не представлял себе своего сына, матерью которого была такая женщина, как Тоня. А ее человеческая сущность – лживость, завистливость, лень, грубость, особенно с теми, кто не представлял для нее интереса, и июльское небо в глазах делали эту мысль невыносимой. Но когда в его дом вошел пятнадцатилетний парень, одного с ним роста, с такими же необъятными серыми, как у него самого, глазами, и попросил у него фамилию, он дрогнул. И тут он в первый раз произнес это «Да-а» – слово, в котором было не столько удивление, сколько укоризна природе или самому себе.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































