Текст книги "Тайны французской революции"
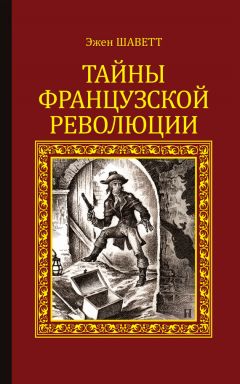
Автор книги: Эжен Шаветт
Жанр: Исторические приключения, Приключения
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 33 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Столько было милой доброты и истинной любви в словах этой женщины, что Пьер, глубоко тронутый, взял ее за руку и проговорил:
– Мадемуазель Пусета! Вы восхитительны.
И, пожимая концы розовых пальчиков актрисы, Кожоль подумал: «Ее Шарль, должно быть, какой-нибудь ссыльный юноша, вернувшийся втихомолку в Париж и пытающийся достать контрабандой свое исчезнувшее богатство».
И в самом деле, контрабанда была в то время одним из серьезных средств доставать деньги. Все лионские фабрики, разрушенные осадой, были закрыты. На юге Франции шелковичники почти прекратили свой промысел. Торговля всюду была в упадке, и Чудихи, вместо того чтобы оживить ее своими заказами, наряжались в дорогой индийский муслин и кашемир, которыми наводняла страну английская контрабанда.
Мадемуазель Пусета встала с кресла и приоткрыла толстые бархатные занавеси на окнах.
Ясный свет утра ворвался в комнату.
– Вот уж и солнышко! – сказала она. – Теперь не скажут, что я ложусь спать в одно время с курами! Ну, гражданин прекрасный незнакомец, время удалиться. Опасность ваша исчезла вместе с ночью и мое гостеприимство больше не принесет вам никакой пользы.
– Увидимся ли мы опять, мадемуазель Пусета?
– Но ведь всякий день вы можете меня видеть в театре Трубадуров.
– А вы отказываетесь принимать меня вновь?
– Нет, но только в нижнем этаже, – там, где все мои друзья – желанные гости. Но здесь – никогда! Вы вступили в мир, где имеет право бывать один мой Шарль.
– Так он очень ревнив?
– Я об этом ничего не знаю, потому что я никогда не ставила его в такое положение.
– О! Никогда!!!
– И это правда из всех правд! – чистосердечно вскрикнула мадемуазель Пусета.
– Ну, прощай, моя красавица! – сказал Кожоль, направляясь к выходу.
– Прощай, мой новый друг.
Подойдя к двери, Пьер обернулся.
– Вы нелюбопытны, милое дитя?
– Отчего?
– Вы даже не спросили, как меня зовут.
– А зачем мне? Разве я не сказала вам, что думаю об этом предмете? Несколько лет тому назад у меня была одна подруга, которая в минуту забывчивости произнесла одно имя, и на следующий день того, кто носил это имя, повели на эшафот. Я помню этот урок и теперь знаю, что имена иногда компрометируют. Ну, выдумайте, скажите мне имя на удачу… и приличия будут соблюдены, и я буду довольна.
– Собачий Нос!
– Тс-с! Это забавно. Ну, пусть так! Ну, прощай, милый Собачий Нос! – сказала блондинка, задыхаясь от смеха.
– Но это «прощай» слишком холодно.
– Я знаю, чего вам нужно. Вы пять добрых минут вертитесь около поцелуя – неправда ли? Кажется, не всегда вы бываете, по вашим словам, «усердным» – порою вас душит нерешительность… Ну, невинный Собачий Нос! Смелей подари мне крепкий дружеский поцелуй… дружеский… понимаешь?
Кожоль наклонился к белому лбу, который подставила ему молодая женщина. Но в ту минуту, как он хотел коснуться его губами, мадемуазель Пусета слегка отскочила с криком:
– Шарль!
Граф тотчас повернулся и на пороге спальни увидел молодого человека, который, по всей вероятности, стал свидетелем нежной сцены. Это был мужчина тридцати лет, высокого роста, с энергичными чертами лица, с белоснежной кожей и яркими черными глазами.
Не видя ничего дурного в своем поведении, мадемуазель Пусета сказала ему весьма наивно:
– Голубчик Шарль! Этот господин благодарил меня за гостеприимство, которое я оказала ему сегодня ночью.
Кожоль решил, что было бы нелепо прибавлять хоть одно слово в защиту актрисы, и направился к двери. Проходя мимо Шарля, он ему поклонился. Устремив внимательный взгляд на неожиданного посетителя, молодой человек слегка наклонил голову, но не сказал ни слова.
Мадемуазель Пусета бросилась ему на шею. Она бормотала радостно:
– Обними меня, мой милый!
Вместо ответа молодой человек с минуту смотрел неподвижно на дверь, закрывшуюся за Кожолем.
* * *
С трудом выбравшись на улицу, Пьер пустился в путь и невольно предался размышлениям:
– Черт возьми! Этот бледнолицый смотрел на меня сурово. К несчастью, я невольно оказался причиной сцены ревности, которую он закатит бедняжке Пусете. Если, конечно, ее обожаемый Шарль ревнив!
Пройдя еще шагов двадцать, Кожоль выбросил из головы этот случай и думал теперь только о своих собственных делах.
«Посмотрим, – соображал он, припоминая события вчерашнего вечера, – будем предполагать самое худшее. Елена думала, что она встретилась с Ивоном. Я как сейчас вижу ее ужас в ту минуту, когда Баррас говорил ей об убийстве Бералека и показывал свою маленькую печать от часов, найденную на месте борьбы. Уверенная, что человек, явившийся к ней впотьмах, был не Ивон, – ее возлюбленный – и не сумевшая заполучить обидчика в свои руки, Елена попытается разузнать, кто был с ней вместо Бералека… совершенно невольно, – я готов в этом поклясться – потому что всему виной проклятая записка без надписи. Итак, Елена, или сама, или чрез агентов Барраса, наверняка отправится к этому глупцу Страусу. Содержатель гостиницы уже уверен, что меня зовут Бералеком. И нужно так устроить, чтобы и эта женщина была уверена: она принимала моего друга. Эта хитрость сгодится только на время, но из нее я извлеку нечто получше. Может быть, тогда моя прелестница и простит мне мою довольно подлую подмену», – и Кожоль засмеялся.
– Елена, – продолжал он, – не знает меня, потому ничто не помешает представиться ей, и вряд ли у нее найдется причина презирать меня за попытку добиться ее любви уже под именем графа Кожоля.
Обдумав таким образом свой план, граф дошел до гостиницы, где он известил Страуса о своем отъезде и под предлогом увязывания чемоданов взошел в комнату, чтобы разыграть в присутствии хозяина комедию с потерянной печатью от часов. И спектакль этот, как мы знаем, успокоил Елену.
Взяв с собой багаж Ивона, чтобы не оставить никаких следов, Кожоль два часа спустя поселился в маленькой гостинице, на улице Шантерен.
– Соседство, мне кажется, не особенно веселое, – сказал он содержателю гостиницы, когда тот заглянул в его комнату.
Тот указал ему на длинную аллею, ведущую к какому-то зданию вдалеке.
– Посмотрите, гражданин, вы правы; но против вас расположено жилище генерала Бонапарта, который теперь в Египте.
Оставшись один, Пьер растянулся на постели.
«Ну, совесть моя чиста, можно теперь соснуть спокойно два или три часа», – подумал он.
И, положив голову на подушку, он пробормотал:
– Да, я решительно обожаю Елену. Она не может меня узнать, нужно пробудить в ней чувство. Если б я мог встретиться с Бералеком, то мое блаженство было бы полным, потому что благодаря другу мне выпал счастливый билет.
Сон прервал его размышления.
Может быть, Кожоль не стал бы говорить о счастливом билете, если бы знал о пристальном взгляде, который бросил на него любовник мадемуазель Пусеты, пока дверь ее спальни не захлопнулась.
XII
Оставляя гостиницу «Страус», Кожоль в выборе своего нового жилища на улице Шантерен (улица Победы) руководствовался прежде всего тем соображением, что эта часть города была малолюдной и тихой, и кроме того, он нашел, что отсюда совсем недалеко до улицы Мон Блан, где находился Ивон Бералек, отыскивать которого формально запретил ему аббат Монтескью.
Никаких других причин не было в решении графа переселиться в «гостиницу Спокойствия», находившуюся, как заметил ее хозяин, как раз против жилища генерала Бонапарта.
Уже два года этот дом принадлежал Наполеону. Он купил его за несколько дней пред тем странным браком, который соединил его с женщиной старше его на шесть лет. Он узнал вскоре, что брачный контракт, дающий молодоженам один возраст, 28 лет, заключает вдвойне ложную цифру. Если Наполеон состарился на один год, то Жозефина, воспользовавшись документом о рождении умершей сестры, омолодила себя на добрых пять лет.
Причины брака честолюбивого Наполеона были чисто политическими. Знатное происхождение будущей жены подарило бы ему связи с могущественными лицами. Родство это способствовало бы карьере Бонапарта, его счастью. Мы не хотим быть эхом современной Наполеону скандальной хроники; но мы должны признать тот факт, что женитьба на Жозефине была выгодна для целей Наполеона, потому что за недостатком места в разрядной книге для него имело большое значение покровительство Барраса. Директор, который помог Наполеону получить команду над итальянской армией, вывел будущего героя в свет и вытащил из бедности, в которой тот прозябал, потому что даже после осады Тулона (в которой отличился Наполеон) он существовал на счет Жюно, делившего с ним пенсион, получаемый от своего отца. Этот месячный ресурс, слишком скудный для двух голодных ртов, не мог долго поддерживать их, и уже с половины месяца будущий император, в истертом платье и расползшихся сапогах, принужден был просить, в виде милостыни, пообедать за столом других своих друзей.
В числе этих друзей был трагический актер Тальма, у которого был маленький домик на улице Шантрень. Тальма два раза в неделю угощал Бонапарта обедом, и тот считал себя счастливым в компании комедиантов, обедавших у товарища. Однако дружеская близость этих отношений, заметим мы, стала тяготить Наполеона, когда счастье улыбнулось ему: уже на другой день после назначения командующим над итальянской армией Бонапарт вот как разговаривал с одним из своих друзей:
– Вы растолстели, Мишо!
Тот, думая, что они по-прежнему равны с еще так недавно произведенным генералом, ударил его по животу, намекая на счастливый жребий, который Бонапарт сумел извлечь из горькой нужды и неизвестности.
– Ага! Да ведь и вы тоже округлились, мой батюшка! – весело вскричал Мишо.
– Вы забываетесь, господин Мишо, – сухо сказал Бонапарт.
Если Мишо и забылся, то Бонапарт, со своей стороны, никогда не забывал и не прощал фамильярности комедианта, который, однако ж, всегда жертвовал на бедность Корсиканца.
Женившись на вдове, принесшей ему значительную часть состояния, Тальма увлекся другой особой, которую взял в жены позже, а сыграв свадьбу, имел неблагоразумие надолго оставить свою жену. Долгое время она терпела, не жалуясь на неблагодарность любимого. Но когда ее терпение истощилось, она написала письмо, чтобы напомнить о себе ветренику, совершенно позабывшему супружеский кров.
Жалоба была так трогательна, что Тальма заволновался.
– Во вторник я явлюсь! – сказал он принесшему письмо.
Но одно важное обстоятельство помешало ему явиться во вторник и на следующий день, он отправился в четверг. Но придя в свой дом, он наткнулся на гроб жены. Несчастная, прождав напрасно вторник, отчаялась и наложила на себя руки. Испытывая отвращение к дому, напоминавшему о его роковой ошибке, трагический актер продал строение в 1796 году Бонапарту. Теперь Наполеон вступил господином в дом, где еще несколько месяцев назад получал, как милостыню, обед.
Мадам Бонапарт, муж которой, находясь в Египте, строго запрещал в своих письмах любые шумные удовольствия, – страсть бывшей Чудихи, – в продолжение двух лет вела однообразную жизнь в этом мрачном жилище, расположенном между дворцом и садом, к которому вела аллея, стесненная двумя домами, выходившими фасадом на улицу. И аллея эта упиралась прямо в фасад «гостиницы Спокойствия», где поселился Кожоль.
Бросившись на постель в своей новой комнате, Пьер смог уснуть только два или три часа спустя, но без тревоги, тяготившей его до сих пор. Когда он открыл глаза, уже настала ночь и в комнате царила темнота.
В несколько секунд он сообразил, что находится в незнакомом помещении.
– Черт возьми! – сказал он. – У меня нет огнива, чтобы зажечь свечу, и я не знаю наверняка, где находится сонетка или где расположена дверь. Нужно, однако ж, найти поскорее то или другое, потому что не могу же я остаться впотьмах.
Он вскочил с постели, но вдруг остановился, скованный изумлением.
Прямо против того места, где он стоял, в самом центре стены, виднелась маленькая светящаяся точка, доказывавшая, что в перегородке, отделявшей эту комнату от соседней, было просверлено отверстие и что в соседнем номере был огонь.
«Ага! – подумал Кожоль. – По-видимому, отверстие просверлил какой-нибудь любопытный путешественник с той или другой стороны перегородки, чтобы в эту дыру наблюдать, что делает сосед. Если я надолго останусь здесь, то постараюсь закупорить это отверстие, оно для меня в высшей степени подозрительно».
Приняв такое решение, молодой человек насторожился и стал прислушиваться к странному шуму, который разобрал еще при пробуждении. Это был глухой шум, похожий на звук пилы, ходящей по дереву. Это пиленье наконец почти вывело Кожоля из терпения; растянувшись на постели, он слушал его не меньше пяти минут.
– Даю себе честное слово, – прошептал он, – что я воспользуюсь этим коварным отверстием, чтобы удовлетворить свое любопытство.
Он тихонько встал, развел руки, чтобы не толкнуть и не опрокинуть какой мебели, и направился к светящейся точке.
«Вчера – у дверей Люксембурга, сегодня – у перегородки гостиницы, – подумал он. – Кажется, мне определено судьбою проводить вечера, подсматривая в какое-нибудь отверстие». Молодой человек прислонился к стене и принялся наблюдать за происходящим в соседней комнате.
«Какого дьявола выделывает этот человек?» – подумал Кожоль, изумленный тем, что увидел.
Мужчина лет сорока сидел у стола, на котором стояла лампа и лежали различные инструменты. Рядом на ковре, сложенном вчетверо, чтобы заглушить шум при работе, дном вверх стоял бочонок. Мужчина был погружен в какое-то странное занятие: он осторожно округлял втулку пилою.
Работа эта, без сомнения, требовала большой точности, потому что для регулирования движений пилы мастеру служило какое-то длинное орудие, опиравшееся на его ногу. Что это было за орудие, Кожоль не мог распознать: каждый раз, как рабочий настраивал его, он наклонялся или поворачивался, заслоняя свет и оставляя свою работу в полутени. Но, когда рабочему понадобился какой-то инструмент, он, ища его на столе, отставил лампу в сторону. И тогда любопытный граф узнал, что же это за загадочный предмет. Он с изумлением спрашивал себя:
– Что такое? Зачем этот человек хочет приладить к отверстию бочонка ружейный ствол без приклада?
Вдруг работающий поднял голову и посмотрел внимательно на перегородку, за которой находился граф.
«Неужели он заметил отверстие? По правде сказать, заделывать эту дырку теперь поздновато», – подумал Пьер.
Однако вовсе не отверстие в стене насторожило мужчину: он замер, услыхав стук в дверь.
Он осторожно собрал все свои инструменты и положил их в ящик стола, спрятал ружейный ствол под матрац на кровати, поставил бочонок за занавеску. Когда, однако ж, из-за двери послышался условный сигнал, мастер успокоился, перевел дух и оставил свои предосторожности.
«Кажется, – подумал граф, – этот добрый человек не хочет, чтобы все знали о его занятиях».
Рабочий отворил дверь своему посетителю, тот тихо прокрался в комнату.
Пьер напряженно вслушивался в начавшийся разговор.
– Ну, Шевалье, – спросил вновь пришедший, – как идет ваша работка?
– Подвигается, гражданин Томассэн! Завтра одну вещичку я вам доставляю.
– И вы ручаетесь, что это будет действовать хорошо?
– О! – отвечал тот, которого гость называл шевалье. – От этого привскочит вся Директория.
– Очень хорошо.
Кожоль затаил дыхание и в изумлении думал: «Но… этот Томассэн?.. Мне кажется знакомым его голос. Ну-ка, как бы увидеть его фигуру!..» И глаз его рассмотрел дюжего краснолицего мужчину. Волосы его были с проседью, а одет он был на манер зажиточного фермера.
– Не знаю его! – произнес граф, обманутый в своем ожидании.
Но в эту минуту особенное выражение оживило лицо крестьянина, и Кожоль чуть не вскрикнул от изумления:
– Ну, я теперь узнал его! Это аббат Монтескью!
– Вот видите ли, Шевалье, – сказал мнимый земледелец, – я ужасно стеснен. Я вижу, что эмигранты всюду возвращаются, а я с несколькими друзьями, купил кое-что из национального имуществ… никуда не годные замки… разве только продать камень, из которого они выстроены, да земли, на которых стоят. С киркой и лопатой будет слишком длинная история, а рабочим тоже надо платить. Ну, так мы выдумали сделать подкоп и взорвать замки. Я приехал в Париж отыскать мастера. Мне дали ваш адрес, и я поручил вам мой заказ с тем условием, чтоб вы исполнили его как можно лучше… чтобы соседи не смеялись потом над моей идеей быстрого уничтожения.
Шевалье достал свой бочонок и поставил его на стол близко к свету.
– Вот ваша вещь. Когда вы поднимаете этот обруч, поднимается крышка бочонка. Вы бросаете внутрь порох, помещаете на прежнее место крышку и обруч. Затем в отверстие вводите ствол ружья, в который вделано огниво. Вы кладете бочонок на каком угодно месте; он снабжен шнурком достаточной величины, и этот шнурок приводит аппарат в действие.
– Не лучше ль было бы в вашем стволе заменить шнурок фителем?
– Фитиль может потухать или загораться слишком медленно. А вдруг тогда вы выйдите из терпения, приблизитесь к снаряду, чтобы найти причину промедления, и вдруг – паф! Замок рушится на вашу голову.
– Порядочно нужно пороху, чтобы взорвать флигель какого-нибудь здания?
– Поместите ваш бочонок под главный дом и сообщите мне о результатах.
– Но знаете ли, Шевалье, что если смешать картечь с порохом, тогда выйдет, наверное, страшный взрыв! – вскричал аббат с наигранным ужасом.
– О! Да! Разом можно убить сто человек, можно потрясти целый квартал! – сказал Шевалье.
– Стоило бы предложить кому-нибудь поиграть подобной штучкой, – возразил аббат со смехом.
– Стоило бы предложить поиграть, если жизни не жалко; потому что шнурок для того и существует, чтобы отойти на безопасное расстояние, а оттуда уж невозможно увидеть, догорел он или нет.
– Так что же делать? – спросил аббат тоном, в котором заметно было усилие казаться равнодушным.
– По-моему, я бы решился рискнуть своей шкурой, я оставил бы ружье со шнуром и своей рукой бросил в бочку трут с огнем.
– Тьфу! Тьфу! – сказал аббат. – Какое же это мщение, если вы не можете пережить своего врага? Я нашел бы более замысловатое средство. Смотрите же: я думаю, вы понимаете меня, Шевалье. Я только привожу пример, я ничего не делаю, кроме предположений, потому что, благодарение Богу, я всего лишь бедный фермер, у которого нет врагов достаточно серьезных, чтобы стараться избавиться от них… Но предположим, что я сторожу кого-нибудь… кто должен проехать по этой улице в повозке, да, предположим, – в повозке, а мы находимся здесь…
– Ну и что ж? – спросил с любопытством Шевалье.
– Ну, вот какое средство я бы употребил, чтобы остаться невредимым после моего взрыва.
Когда аббат начал свое объяснение, Кожоль, не перестававший подслушивать, подумал: «Э-э! После заказа адской машины этому человеку, аббат, кажется, хочет учить его, как ею пользоваться. Какому же дьяволу готовит он этот маленький праздник?»
– Итак, я предполагаю… – начал мнимый фермер.
– Опять! – нетерпеливо вскричал Шевалье. – Вы уже предположили, что если бы захотели одного человека… что если этот человек проезжает по такой улице… в повозке… и что если бочонок заряжен с картечью… вот несколько предположений. Теперь посмотрим, каким образом вы с ними управитесь.
«Да, это мы увидим», – сказал про себя граф, продолжая слушать за перегородкой.
– Ну, я кладу мой бочонок на подставку… – ответил аббат.
– Нам нужно сначала знать хорошенько, гражданин Томассэн, – прервал его мастер, – с фитилем этот бочонок или с ружейным огнивом?
– Да, на манер ружья, такой – как вы приготовили.
– Хорошо! Продолжайте. Так вы кладете бочонок на подставку?
– Или лучше, – поправился аббат, – я кладу его на двухколесную тележку и везу по улице, по которой мой враг должен проходить в этот вечер…
– Ах! Это будет вечером?
– Да, я предполагаю вечером… в тесной улице, в пустынной… Я ставлю мою тележку у обочины, но оставляю свободный проход повозке моей жертвы. Затем я беру шнурок, который должен играть роль запала, протягиваю его поперек улицы, на высоте примерно груди лошади; я привязываю шнурок на противоположной стороне. Потом я спокойно иду себе восвояси. Мой враг несется по улице в карете. Лошади натыкаются на шнурок, тянут его, приводят в движение спуск оружия – и тра-ах! Человек разлетается на тысячу кусочков.
Мнимый Томассэн развивал свой план неспешно, вдумчиво и отчеканивая каждое слово.
«Черт побери! – подумал Кожоль. – Если устройство и не совсем понятно, то в ясности изложения недостатков нет».
Мастер слушал аббата со вниманием.
– Эге! эге!.. – сказал он. – Не так уж глупо… для… сельского парня…
– Э! Ну! Мы, не посвященные в ваше мастерство люди, конечно, не сравнимся с господами инженерами, но и у нас тоже есть свои маленькие идеи.
Шевалье покачал головой.
– Нет, – сказал он, – это неглупо, но тут есть одна загвоздка.
– Какая?
– Это неосуществимо. Со всеми вашими предположениями, ваш план должен подчиниться слишком многим условиям, чтоб быть успешным. Подумайте только: вечер… пустая улица… карета… Et patati et patata… целая куча случайностей, которые вряд ли совпадут.
– Будто! – сказал аббат. – А кто знает? Ведь иногда случайность устраивает дело к лучшему.
– Так вы предполагаете, что и ваша идея тоже исполнима, гражаднин Томассэн?
– Да, потому что я стою на пути предположений! – возразил мнимый деревенский парень со взрывом смеха, в котором было столь же мало искренности, как в его костюме.
Шевалье вынул из кармана часы и справился о времени. Оказалось, что было уже около десяти часов.
– О! – сказал он. – Жена будет беспокоиться, ожидая меня к ужину.
– А она знает, что вы ходите сюда?
– Нет. Я ей сказал, что работаю в Венсенском форте для снабжения Республики военным фуражем; жену это больше устраивает, чем глядет, как я работаю на дому. И, по правде сказать, она права. Когда я вожусь с моим порохом близ нее и детей – это наводит на нее страх. Бедная женщина!
– Кстати, о порохе! – сказал аббат. – Купите его и для меня, потому что я не понимаю в этом деле. Смотрите же, возьмите это на себя.
И господин Монтескью вложил в руку Шевалье сверток с луидорами.
– О! Тут в десть раз больше, чем надо, гражданин Томассэн!
– Ба! Так мы сочтемся… после. Возьмите… и на завтра…
– Нет, завтра десятый день Декады, и я не работаю… особенно завтра, потому что я обещал жене и детям сводить их поглядеть на Антропофага.
В период Республики, как известно, недели были заменены Декадами, в которых десятый и последний день соответствовал нашему воскресенью.
Теперь несколько слов об Антропофаге.
В то время, к котором повествует наш рассказ, вся левая сторона улицы Бержере была застроена гостиницами, сады которых тянулись до бульвара Пуассоне. По правой стороне бульвара, таким образом, тянулись решетки этих садов, и стояла только одна, и то невзрачная, постройка, на том самом месте, где теперь находится ресторан Вашетт.
Аббат Сен-Фар, внебрачный сын герцога Орлеанского от одной танцовщицы, называвшейся Маркизой, владел тогда отелем, находившимся на углу улицы Бержере и Монмартрского замка (некоторое время он назывался Мон-Марат – гора Марата).
В глубине своего сада, стена которого примыкала к правой стороне замка, он построил конюшни, с дорогой для вывоза назема на бульвар. Республика, отписав себе часть имущества аббата Сен-Фара, отдала гораздо позднее эту громадную конюшню внаймы одному мяснику, дела которого не пошли бы особенно удачно, если б не один счастливый случай, слух о котором разнесся по всему Парижу.
Он встретил однажды бедного парня из Прованса, которого не могли взять в армию из-за терзавшей его страшной болезни. Ее тогда еще не изучали и нашли для нее названия. В наше время она известна как «голодный диабет». Это юноша был «антропофаг». Несчастный не мог ничем насытиться, кроме мяса, и ел его в таком количестве, что различные полки, к которым его приписывали, отказывались его кормить. Чем больше он ел, тем быстрее развивалась его болезнь. Мало-помалу парень дошел до того, что в сутки съедал сырого теленка. Ему нравилось только сырое мясо; его желудок не мог переваривать ни хлеба, ни овощей – и другое причиняло ему жестокие боли. О нем рассказывают ужасный факт. Раненый и забытый на поле битвы, страдая более от голода, чем от ран, он дополз до одного из своих мертвых товарищей и впился зубами в его труп.
Мясник заключил с ним контракт. Затем стал приглашать публику посмотреть на своего антропофага, когда он принимает пищу. В это время, когда мясники не содержали публичных скотобоен, а убивали животных у себя дома, легко понять ажиотаж вокруг следующего спектакля. Когда толпа собиралась в лавочке мясника на представление, которое давалось ежедневно в два часа дня, мясник начинал свою речь к публике приблизительно в следующих выражениях: «Граждане! Здесь нет ничего милого. Здесь настоящая сырая говядина, которую этот дикий малабарец и сожрет перед вами. Если почтенная публика благоволит сложиться и предложить теленка или трех баранов, то приношение исчезнет в пасти этого обжоры!» Так как вход в лавочку был бесплатным, то публика охотно жертвовала еще теленка или барана – это уже не в счет обыкновенной порции пожираемого мяса. Когда набиралась достаточная сумма, перед зрителями выводили животное, пускали ему кровь, сдирали кожу и взвешивали на весах, чтобы публика поразилась количеству пищи. Потом бросали разрубленное кровавое мясо антропофагу, и он его пожирал. Он кончал свой обед тем, что запивал его теплой кровью животного, которую для этого собирали в ведро.
В настоящее время полиция не потерпела бы подобного спектакля; но в 1798 году, когда перед тем четыре года смотрели на действие гильотины, хрипение какого-нибудь подыхающего теленка или барана считалось чем-то вроде музыки.
Чтобы покончить с этой прожорливой личностью – которую мы не выдумали – мы должны сказать, что два года спустя она возбудила жалость в одном богатом иностранном синьоре (я думаю, это был принц де Линь), который увез его с собой и сделал сторожем одного из своих лесов, изобиловавших дичью, позволив парню там охотиться. В конце концов, он получал пропитание от своего ружья. Но скоро он умер, в момент припадка голода полакомившись трупом найденного в кустарнике волка, околевшего от бешенства.
Итак, Шевалье отказывался работать в десятый день Декады потому, что решил в этот день вести свое семейство посмотреть на Антропофага.
– Ну, так послезавтра, – сказал аббат.
– Идет, гражданин Томассэн, – отвечал фейерверкер и вышел, нагрузив карманы луидорами, врученными ему переодетым аббатом Монтескью для покупки пороха.
Кожоль скользнул к двери, подслушать, если удастся, пойдет ли аббат вместе с Шевалье.
Но на лестнице раздавались шаги одного работника.
– Так, значит, аббат остался, – решил граф. – Что-то теперь он будет делать в этой комнате – желал бы я знать.
Он снова занял свой наблюдательный пост и наклонился, чтобы заглянуть в дыру в перегородке.
И ничего не увидел. Непроглядная ночь была перед его глазами.
«Кажется, я не ошибся местом!» – подумал Пьер с изумлением. Он ощупал стену пальцем. Он и теперь находился пред отверстием, но соседней комнаты он не видал более.
– Ах! Это случилось оттого, что аббат, глядя в отверстие с другой стороны, загородил свет. Что он хочет рассмотреть меня в темноте, – это уже верх любопытства.
Пождав немного, молодой человек посмотрел в отверстие снова.
Перед ним по-прежнему был мрак.
«Уж не заделал ли он отверстие?» – подумал Кожоль.
Он ощупью дошел до камина, на который, как он вспомнил, положил свои пистолеты, достал маленькую палочку и принялся прощупывать просверленную стену.
Палочка без труда прошла сквозь стену во всю длину.
– Отверстие не заделано, – сказал Пьер. – Если я ничего не вижу, так это потому, что аббат загасил лампу; он, без сомнения, ожидает, что Шевалье, удалившийся ненадолго, возвратится. Ну, и я подожду.
Прошло четверть часа. Тишина не нарушалась ни малейшим шумом. Временами Пьер приставлял глаз к отверстию, но по-прежнему ничего не видел.
Кожоль был уверен, что аббат не вышел и не мог лечь спать, потому что постель мастера была без одеял. Граф заметил также во время своего наблюдения, что в комнате не было другой двери, кроме той, что отворялась на лестницу, и значит, господин Монтескью не мог уйти в другую комнату.
– Так что же он делает в темноте? – спрашивал молодой человек, подстрекаемый любопытством.
Когда он во второй раз приблизился к своему наблюдательному пункту, то заметил особенность, ускользнувшую от его внимания в первый раз: из отверстия повеяло свежим воздухом.
– Я уверен, – сказал он, – что аббат отворил окно и в совершенной темноте сторожит кого-то или что-то.
Кожоль хотел видеть аббата, чтоб известить его о визите Фуше. Но стучаться в комнату и говорить через дверь, – когда кто-нибудь посторонний мог услышать, – казалось ему неблагоразумным; притом он знал, что аббат – человек, не любящий отворять двери, и что он скорее умрет, чем оторвется от своего занятия.
– Однако ж мне нужно поговорить с этим человеком-дьяволом. Во-первых для того, чтобы передать ему предложение Фуше, во-вторых, чтобы он отменил свой запрет видеть Ивона. Найду же я искусное средство привлечь его внимание, не возбуждая внимания его соседа.
Пьер отворил свое окно и, опираясь на маленький железный балкон, начал очень тихо насвистывать роялистскую арию.
Но аббат не высунулся из окна, чтобы посмотреть на свистевшего запрещенную мелодию.
Граф принялся насвистывать тоном выше, но также безуспешно. Терпение не было одной из главных добродетелей Кожоля.
– Раз он притворяется глухим, я нанесу ему визит по всем правилам, – сказал Кожоль.
Два окна были разделены узким пространством, а внизу этого пространства по фасаду дома тянулся довольно широкий карниз, так что на него удобно можно было встать.
Молодой шуан сначала посмотрел внимательно на улицу, которая показалась ему пустынной; затем он перешагнул через бортик балкона, утвердил ногу на карнизе и одним прыжком достиг соседнего балкона.
В тот момент, когда он схватился за оконную раму, он услыхал слабый глухой шум: кто-то заряжал пистолет.
– Эй, аббат! Не стреляйте в своего друга, я Кожоль, – быстро, но понизив голос, проговорил молодой человек.
– Вовремя назвались, – произнес Монтескью тем же тоном.
Нет ничего удивительного в том, что господин Монтескью не понял легкого насвистывания, с помощь которого Кожоль хотел привлечь его внимание, потому что аббат, – хотя Пьер предполагал, что он стоит на страже у окна, – сидел в кромешной темноте в дальнем углу комнаты.
Как только Пьер назвал его по имени, аббат положил пистолет на стол и произнес тихо, но с живостью:
– Граф! Войдите скорее и отойдите от окна!
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































