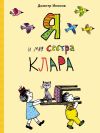Текст книги "Книга запретных наслаждений"

Автор книги: Федерико Андахази
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
8
– Чтобы стать хорошей проституткой, нужно научиться с безразличием относиться к чарам наслаждения, – не раз говаривала Ульва своим неопытным дочерям.
Сохраняя верность древней традиции, в лупанарии Священной корзины клиентов именовали прихожанами. А женщины там были не обыкновенными шлюхами, а гетерами, достойными общения с аристократами Древней Греции. Их покои ничем не напоминали мерзостные каморки соседних борделей – они подражали в своем убранстве и пышности комнатам в дворцах наслаждений легендарной Помпеи.
Те, кто отведал неподражаемых ласк обитательниц Монастыря Священной корзины, никогда больше не могли испытать подобного наслаждения с другими женщинами. Никто лучше Почитательниц не знал секретов мужской анатомии, не знал, как обходиться с мужским телом так, чтобы каждый участок кожи превратился в территорию небывалого блаженства. Эти женщины были лучшими знатоками мужского характера, в центре которого всегда стояло самолюбие; они умели произнести необходимые слова в нужный момент, разжигая в мужчинах искру тщеславия: ничто так не распаляло похотливый и грубый характер мужчины, как лесть насчет его сексуальной мощи, преувеличенно пылкий стон или представление с экстатическим полнокровным оргазмом, исполненным вздохов, завываний и крика.
Мужчины, побывавшие в альковах самого дорогого в Майнце публичного дома, уже не могли удержаться от искушения снова и снова сюда возвращаться. Были такие, кто разорился, оставив в этих стенах все свое состояние. Прихожане конгрегации действительно почитали умение здешних шлюх-перешлюх. И дело было не просто в плотском соитии: то был опыт, который, зарождаясь в самых низменных инстинктах, достигал высочайших, боготворящих вершин. Как бы парадоксально это ни выглядело, мужчины, посещавшие лупанарий, выходили на улицу, вовсе не сознавая себя омерзительными грешниками, – наоборот, они уходили в уверенности, что исполнили высокую религиозную миссию. Да так оно и было. Всякий раз, когда клиент попадал в объятия Почитательницы Священной корзины, он, сам того не сознавая, превращался в важнейшую составляющую древнего священного ритуала. Ни о чем не догадываясь, многочисленные прихожане этого странного Монастыря представляли собой идеальные искупительные жертвы тайных обрядов, посвященных богине Иштар. Их наслаждение оплачивалось не только звонкой монетой: когда они вверяли женщинам свое тело и душу, их приносили в жертву на алтарь самой сладострастной из всех богинь; вкушая ни с чем не сравнимое блаженство с Ульвой и ее дочерьми, они обращались жертвами в тысячелетней скинии вавилонской богини.
Каждая ласка, которую получали клиенты, для женщин являла собой часть сложного безмолвного ритуала, состоявшего из даров и жертв, приносимых ради высокого единения с божеством. Никому из этой ревностной паствы, каждый день стекавшейся в Монастырь, было невдомек, что они вкушают то же наслаждение, которое в древние вавилонские времена, когда практиковалась ритуальная проституция, приносили на алтарь богини-жрицы. Так же как и в святилищах былых эпох, церемония начиналась с обрядов инициации. То были действия, необходимые для правильного проведения всей церемонии. Группа мужчин (от шести до двенадцати человек) собиралась в главном зале, где стояла величественная статуя бога Приапа в натуральную величину, – последнее относилось и к размерам мужского достоинства похотливого божества. Все склонялись перед его колоссальным возбужденным фаллосом, препоручали себя его могуществу и просили Приапа ниспослать им такую же мужскую силу. Церемонию проводила Ульва: она, как верховная жрица, произносила молитвы, которые собравшиеся должны были повторять. Мужчины один за другим целовали каменную головку фаллоса мужского бога, затем проходили обряд покаяния – он состоял в том, что каждый из прихожан должен был простереться у ног одной из дочерей Ульвы, которая, сидя на троне, заставляла мужчин облизывать подошвы ее ременных сандалий и стегала их по незащищенной спине, требуя просить искупления за их провинности перед женщинами. Исполнив этот обряд, вся группа переходила в соседнее помещение – там прихожане оставляли свои приношения. Они бросали монеты на большой бронзовый поднос, при этом раздавался звон, похожий на колокольный. Размер приношения определялся громкостью звона и его продолжительностью; тем, чьи монеты звенели громче и дольше, причиталось больше ласк.
По окончании обряда покаяния и сбора подношений мужчины с покрасневшими от плети спинами направлялись в молельню Иштар. Вообще-то, никто из них не знал, что это за женская фигура занимает важнейшее место в молельне. Богиня на глиняном барельефе раскинула крылья, ее обнаженная нога высунулась из-под облегающего одеяния и опиралась стопой на покоренного льва. Ульва, обнажив свои роскошные груди, начинала молитву:
Iltam zumra rasubti ilatim
Litta id Belet Issi Conejo Igigi
Ishtar zumra rasubti ilatim
litta id Belet ili nisi Conejo Igigi[11]11
Пойте о богине, самой страшной из всех богов,Да будет благословенна женщина, властвующая над мужчинами, старшая из всех Игиги!Воспевайте богиню, самую страшную из всех богов,Да будет благословенна женщина, властвующая надо всеми, старшая из всех Игиги!(Гимн царя Амми-дитана к Иштар.) – Прим. автора.
[Закрыть]
Склонившись вокруг алтаря, клиенты шепотом повторяли слова хвалебного гимна. Хотя они не понимали ни слова на этом мертвом языке, по их лицам можно было сказать, что они входят в транс, что тело и душа каждого сливаются с телами и душами других, вступая в общение с Почитательницами и с богиней. В отличие от месс, которые служились в церквах, в Монастыре Священной корзины плоть в буквальном смысле вздымалась – на те же высоты, которых достигал дух. Многие мужчины на этом этапе уже обнажались, поскольку одежда их не могла выдержать столь мощной эрекции. Когда заканчивалась молитва на непонятном языке, Ульва добавляла еще несколько фраз по-немецки:
– Это тело есть хлеб, сошедший с небес, и кто вкусит этого тела, получит вечное блаженство. Кто вкусит моей плоти и утолит мною свою жажду, получит вечное блаженство, он войдет в меня, и я войду в него.
После этих слов две жрицы ремешками прикрепляли к своим промежностям большие глиняные члены, обтянутые кожей, и подходили к коленопреклоненным мужчинам, корма которых была повернута к Приапу, а нос – к Иштар, в этом положении они принимали хлесткие удары Почитательниц, которые проникали в них с неподдельной яростью. Подобно древним божествам, совмещавшим в своем теле женские и мужские качества, женщины предавались содомии со своими прихожанами, которые, закатив глаза, выли от наслаждения, боли и мистического экстаза. И здесь никого не насиловали, не использовали против его воли – все без исключения отдавались этим прекрасным фаллическим женщинам motu proprio[12]12
По собственному побуждению (лат.).
[Закрыть].
– Я войду в тебя, и ты войдешь в меня. И, вкусив моей плоти и утолив мною свою жажду, вы войдете друг в друга как братья, потому что через это таинство вы соединитесь с Нею и составите одно тело с ее телом и с ее кровью! – выкрикивала Ульва с закрытыми глазами и, разведя ноги, упиралась ступнями в ручки трона.
И тогда, не мешая жрицам с привязанными фаллосами проникать в их естество, мужчины начинали соединяться друг с другом, собираясь в цепочки, в круги, завиваясь в змейки, сотрясаясь как единое тело. Постороннему наблюдателю могло бы показаться, что здесь царит полнейший святотатственный хаос, однако все было подчинено четким нормам ритуала, и ничто не нарушало литургических правил, разработанных еще в вавилонские времена. Объединившись телом и душой, прикасаясь сердцем к богине сладострастия, вся паства была уже готова к безотлагательному приношению своих телесных гуморов. И вот мужчины один за другим выплескивали свое белое семя в золотую корзину, стоявшую под барельефом богини. Затем Ульва переливала жидкость в специальную чашу, и тогда начинался большой пир Госпожи Нашей: прихожане одновременно пили белую кровь, словно белое вино, и ели corpus[13]13
Плоть (лат.).
[Закрыть], словно густую питательную облатку. Важно отметить, что после первого оргазма силы мужчин не только не иссякали, но, напротив, укреплялись, о чем свидетельствовали их члены, до сих пор возбужденные и даже набухшие. Ульва завершала эту странную евхаристию одной короткой фразой:
– Ite Missa est[14]14
Идите, месса закончена (лат.) – этими словами завершается католическая служба.
[Закрыть].
За групповым ритуалом наступал черед интимных церемоний. Каждая жрица выбирала себе прихожанина и уводила в свой альков. То, что происходило в комнатах Почитательниц Священной корзины, напоминавших отдельные помещения в храмах древнего Вавилона, было тайной, раскрыть которую не имели права ни жрицы, ни прихожане. То был акт, проходивший по самым древним правилам, записанным в священных книгах наслаждения, текст которых был внятен лишь посвященным в тайну женщинам. Только те мужчины, что прошли через святилища Иштар в Малой Азии, да еще клиенты Монастыря Священной корзины познали это блаженство, в котором плоть и дух поднимались к самому пантеону богов; они были счастливцами, коим удалось увидеть лик божества еще при жизни. И вот, плененные этими неведомыми наслаждениями, мужчины почитали себя званными на пир, отмеченными величайшими знаками внимания со стороны проституток. Однако же – как это происходило и в древних вавилонских храмах – они являлись простыми объектами внутри великого культа. На самом деле они были жертвами, которых жрицы приносили во славу своему божеству. В Монастыре Священной корзины не ублажали клиентов, наоборот, здесь дарили наслаждение Иштар – с помощью мужчин, невинных искупительных жертв на этих каждодневных празднествах.
Как только ритуал подходил к концу, клиенты покидали Монастырь, склонив голову, быстрым шагом, даже не попрощавшись друг с другом. Причастившись хлебом и вином, слив воедино тела и даже гуморы, прихожане Монастыря Священной корзины продолжали жить своей жизнью, как будто ничего и не произошло. Эти купцы, чиновники, военные, прилежные каллиграфы, писцы, влиятельные члены цеховых общин, беспорочные клирики встречались друг с другом на улице, на рынке, в церкви так, словно даже не были знакомы и никогда не виделись; достойные горожане, заботливые супруги и примерные отцы скрывали свои тайны под завесой абсолютного молчания. Быть может, самое главное, что их связывало, – это неудержимое желание как можно скорее вернуться в лупанарий.
Эти тайные посетители, столь пылко почитавшие своих любовниц внутри монастырских стен, столь же пылко осуждали их на публике. Все выглядело именно так: эти богатые господа, умолявшие удовлетворить самые прихотливые свои капризы, первыми раздирали на себе одежды, поднимаясь на церковную кафедру или входя в дворцовый зал, обличая всеобщий упадок нравов.
Вообще-то, связи между Монастырем Священной корзины и знатью были куда теснее и древнее, чем могли предположить сами клиенты. Больше всего о характере давних отношений между лупанарием, Церковью и представителями власти знали женщины. В действительности организация Монастыря Священной корзины скорее напоминала настоящий женский монастырь, чем публичный дом; еще точнее – она была куда сложнее, чем то и другое. В этом трехэтажном здании располагалось также нечто вроде университета, в котором не только по высшему разряду обучали любовным искусствам, но и давали замечательное образование, достойное самых прославленных кафедр Европы. Здесь рождались и росли девочки, окруженные любовью матери и сестер по крови и по ремеслу. Здесь учились и работали. Здесь зачинали дочерей и старели при заботливом уходе самых юных Почитательниц, и здесь умирали, и отсюда отправлялись в последний путь. То была женская община, в которой совершенно не нуждались в мужчинах – только в качестве клиентов-прихожан.
9
Мужчины. Только мужчинам было дозволено вершить правосудие. И вот, стоя перед трибуналом из семи мужчин, которым предстояло решить его судьбу, Гутенберг вспоминал тот день, когда отец впервые взял его посмотреть на монетный двор. Гутенберг никогда не забывал о своем детском восторге, наполнившем его в то далекое утро; он навсегда запомнит то утро как важнейший и переломный момент всей своей жизни. Никакое другое воспоминание не порождало в нем такого возбуждения, как этот по-язычески великолепный храм денег: запах расплавленного металла, сверкающий блеск только что отчеканенных золотых и серебряных монет. Монетный двор был миром, в котором – с точностью, сопоставимой разве лишь с механизмом вселенной, – бок о бок трудились литейщики, переписчики, граверы, художники, писцы, счетоводы и совсем удивительные мастера, чьи задачи были столь необычны, что, казалось, таких профессий и вовсе не может быть. Был там, например, человек, который занимался только подсчетом гульденов, другой выстраивал их столбиками, а третий пересчитывал заново. В первый раз, когда маленький Гутенберг вошел в монетный двор, он был потрясен не меньше, чем бывали, наверное, потрясены аристократы из древней Римской империи, которым довелось изнутри созерцать храм Юноны Монеты, святилища на вершине Капитолия, седьмого холма Рима, – там тоже чеканились деньги.
– Все вещи имеют свое имя и свою цену. То, что не имеет цены, не имеет имени, а того, что не имеет имени, не существует, – часто повторял отец Гутенберга.
– У Бога есть имя, но нет цены, – возразила однажды за семейным ужином его жена.
– Тридцать сребреников, – ответил муж с простотой лавочника, напомнив о горсти монет, за которую Иуда продал Иисуса.
Несмотря на свое мирское предназначение, монетный двор вызывал то же почтительное благоговение, которое, вероятно, вселял храм Юноны или святилище Тесея Стефанофора[15]15
Стефанофор – Щитоносец (греч.).
[Закрыть] в Афинах, где чеканились деньги для всей Древней Греции. Высокие сводчатые потолки, мощные колонны, великолепные витражи, стоящие у каждой двери солдаты, вооруженные пиками и щитами, грохот от ударов молотов о наковальню, напоминающий колокольный звон, – все здесь было окружено ореолом непривычной святости. И действительно, полушутя-полусерьезно многие горожане, входившие в эту дверь, осеняли себя крестным знамением. Если церкви состязались между собой в накопленном богатстве, в переизбытке золота на монументальных ретабло[16]16
Ретабло – испанский вариант алтарного украшения.
[Закрыть], то монетный двор, определенно, превосходил по своему богатству все соборы Германии. Гутенберг вспоминал свое первое детское посещение этого места: вот он едва поспевает за решительным отцовским шагом, его маленьким ножкам и огромным глазам приходится изрядно потрудиться, чтобы пробежать по всем залам, строгим и одновременно величественным в своей громадности.
В большей части европейских стран деньги чеканили, следуя древним традициям. С появления первых монет в Малой Азии, в четвертом веке, эта технология не сильно переменилась. Вначале плавильщик нагревал золото и серебро до состояния ковкости. Затем металл под ударами молота вытягивали в полоски и резали на куски, по форме и размеру соответствующие ценности монеты. Ровные заготовки попадали из горна в следующую комнату. Там новую монету чеканили меж двух наковален: верхняя для орла, нижняя для решки. И тогда последний работник делал всего один точный удар молотом – и вот монета готова. Это была примитивная технология, и качество монеты зависело от силы завершающего удара. Часто различие в двух изделиях можно было увидеть невооруженным глазом. Подлинность монеты удостоверялась путем нанесения секретных точек и едва различимых штрихов. Именно так изготовляли монеты в большинстве европейских стран.
Изделия, выходившие с монетного двора, которым управлял Генсфляйш Бедняк, среди знатоков вызвали восхищение: не существовало различий ни на глаз, ни на ощупь – и не только между монетами одной партии, но даже между монетами разных лет выпуска. Вообще-то, совсем немногие знали, что монеты из Майнца чеканились не с помощью молота, но с применением одной из первых в истории монетного дела техник механизации. Бруски, выходившие из горна, вытягивались при помощи пресса, который сам Генсфляйш и изобрел, опираясь на принцип работы жома для оливкового масла. Ввиду равномерного давления каменного колеса на горячий металл золотые и серебряные бруски получались совершенно одинаковые, без различий в плотности и толщине. Чеканка на заготовках тоже не зависела от переменчивой силы рабочего – здесь применялся другой пресс, схожий с тем, который используют виноделы. Это была деревянная махина с большой железной вертушкой, которую двое рабочих приводили в движение с помощью рычага. Подвижная часть пресса представляла собой ряд наковален с орлом, а на неподвижной помещались наковальни с решкой. При каждом нажатии чеканились сразу десять монет. Поскольку давление на рычаг всегда было постоянным – четыре поворота ручки, – то и глубина барельефов просто не могла изменяться. К тому же, чтобы не дать мошенникам стачивать края монет и присваивать себе золотые и серебряные опилки, Генсфляйш разработал специальную технологию: наносить на ребро монет особый гурт. Таким образом, если ребро обтачивали напильником, то полоски стирались и мошенничество становилось очевидным. Подделать такие монеты было практически невозможно, но даже если предположить, что найдется какой-нибудь дерзостный умелец, обладающий неменьшим мастерством, то подделка превращалась в дело столь трудоемкое, что фальшивомонетчик, пытающийся повторить работу Генсфляйша Бедняка, зарабатывал свой хлеб в поте лица.
С детских лет Иоганн научился хранить отцовские секреты. Оттого что отец облек его своим доверием, грудь мальчика раздувалась от гордости. И даже когда сын управляющего монетным двором повзрослел, он никому не рассказывал про чудеса, свидетелем которых явился в детстве. Ему было велено хранить в тайне не только саму технологию и устройство машин, но и сведения о количестве материала, которым располагал монетный двор. В тот день, когда мальчик впервые попал в плавильный цех, он не мог выговорить ни слова: он просто не мог вообразить, что в мире существует столько золота. Это был огромный зал со створчатым потолком выше церковного купола, а в нем – огромный камин, игравший роль тигля. Справа от камина лежала гора золотых слитков, перевязанных, точно простые кирпичи. С вершины этой пирамиды один рабочий передавал слитки другому, который забрасывал их в тигель, орудуя большой кочергой. И хотя в этот зал не проникал прямой солнечный свет, золото сверкало так, что маленький Иоганн зажмурился. Отец предложил ему поднять с пола слиток. Мальчик наивно наклонился, обеими руками ухватил золотой кирпичик и потянул вверх, но слиток как будто приклеился к полу. Только тогда Иоганн прочувствовал, насколько тяжело золото, и понял, почему пол под сверкающей пирамидой так сильно просел.
Но что действительно ожгло мальчика как огнем – это вовсе не горы золота и серебра и не сундуки с монетами, а комната переписчиков. Мраморная лестница вела на верхний этаж, в светлую комнату; лучи солнца проникали сюда через ряд арочных окон в мавританском стиле. Напротив каждого окна, параллельно друг другу, стояли длинные наклонные столы, за ними на скамеечках рядком сидели переписчики: сгорбленные спины, прищуренные веки, выверенные движения, перо в правой руке – эти люди не отрывали взгляда от рукописей, лежавших перед ними. Каждый был одет в фартук, прикрывающий грудь и колени, шапочку, которая не давала волосам лезть в перенапряженные глаза, а еще – точно это являлось частью облачения – у всех без исключения была длинная густая борода. В первый раз, когда мальчик поднялся в эту комнату, ему показалось, что вся она состоит из зеркал и бесконечных отражений, – так сложно было ему отличить одного переписчика от другого. В этой комнате не только составлялись свидетельства о собственности, платежные документы, гарантийные письма и тысяча других государственных бумаг, но и переписывались прекрасные книги, поступавшие в самые крупные библиотеки Германии, ценившиеся также и за ее пределами. С недавних пор императорский декрет позволял светским переписчикам снимать копии как со священных, так и с мирских книг. Раньше привилегия переписки распространялась только на клириков. И разумеется, Церкви не понравилось, что это ремесло попадает в чужие руки. Церковники заявляли, что священные книги можно делать только в освященных местах, а книги мирские должны получать благословение, подобно тому как люди должны причащаться, чтобы искупать первородный грех и все другие живущие в них грехи. К тому же клирики опасались, что миряне тайным образом исказят какое-нибудь слово, и тогда изменится смысл Священного Писания – а с этой прерогативой Церковь не расставалась веками. Сколько осталось в Библии от изначальных рукописей? На самом деле никто не знал, где находятся подлинные Евангелия, вышедшие из-под пера участников событий и прямых свидетелей чудесной жизни Иисуса. Ничего не было известно даже о копиях на арамейском и иврите – языках, на которых писались книги, позже составившие Священное Писание. Споры об изначальных текстах (даже в лоне самой Церкви) были столь многочисленны и горячи, что составление канонического Писания давно уже сделалось задачей скорее политической, нежели теологической, даже если предположить, что теология не является частью политики. На Вселенском соборе 382 года, при папе Дамасии Первом, после напряженнейших дискуссий был сформирован официальный церковный канон; эту версию святой Иероним перевел на латынь как единую книгу, составленную, в свою очередь, из двух больших книг: Ветхого Завета, то есть собрания второканонических книг, и Нового Завета. Таким образом, Библия, за отсутствием оригиналов, являла собой собрание текстов, взятых из еврейской книги Танах, и свод посланий и евангелий, взятых из копий других копий, а потом переведенных с иврита и арамейского на греческий, а с греческого – на латынь.
Десять переписчиков, занимавшие три первых стола, посвящали свое время исключительно Библии. День за днем, без перерыва, они вырисовывали буквы, составляющие священную книгу. Каждый экземпляр требовал приблизительно года трудов – при условии шестнадцатичасового рабочего дня, а как только переписчики добирались до конца, они тотчас же принимались за новую рукопись. В свое первое посещение монетного двора маленький Гутенберг шел мимо переписчиков на цыпочках, боясь отвлечь их стуком своих башмаков. Под пристальным взором отца он заглядывал каллиграфам через плечо, держась на почтительном расстоянии, чтобы не задеть запасные перья или, хуже того, чернильницу. Угроза пролить чернила на рукопись была чем-то наподобие дамоклова меча, висевшего над каждым из переписчиков; такое событие привело бы к трагедии буквально библейского масштаба. Иоганн завороженно наблюдал, как рука скользит по бумаге, оставляя за собой идеально ровные ряды букв. Мальчик воображал, насколько мудры должны быть эти люди, посвящающие всю свою жизнь размножению знаний, накопленных человечеством. Каждый согнувшийся над книгой каллиграф, каждое напряженное лицо, борода, точно у Зевса, и перо как добавочная часть тела – все это составляло живое воплощение мудрости.
– Эти люди, должно быть, истинные мудрецы, – прошептал Иоганн отцу.
– Быть может, – ответил тот, пряча улыбку, и добавил: – Им бы только читать научиться.
А потом отец пригласил Гутенберга присесть и раскрыл ему несколько секретов ремесла:
– Лучшие переписчики – это те, кто не умеет читать. Смысл текста не только искажает почерк, но и приводит к ошибкам – мы ведь часто видим текст таким, каким хотим его видеть, или, что еще хуже, понимаем только то, что дано понять нашему разумению. К тому же, люди могут не согласиться с написанным, и тогда у грамотных переписчиков возникает искушение оставить в чужом тексте свое собственное мнение.
Устремив глаза на трибунал, а мысли – к воспоминаниям детства, Гутенберг слушал речь прокурора как церковную литанию. А еще он видел, как Ульрих Гельмаспергер переносит на бумагу каждое из слов, которые, точно кинжалы, вылетали изо рта Зигфрида из Магунции, и созерцание писца, рука которого сновала по листу бумаги, как рыба в воде, оживляло воспоминания Иоганна. Гутенберг нашел в них надежное пристанище: он вспоминал тот далекий день, когда, выйдя с монетного двора, убедился, что те немногие истины, которыми он владел, расплавились в тигле вместе с драгоценными металлами. Мальчик недоумевал, как же такое возможно: люди, проводящие всю жизнь за писанием, на самом деле – неграмотные невежды, а другие люди, посвятившие жизнь изготовлению денег, на самом деле не владеют ничем, кроме бедности. Из всех слов, прозвучавших в тот день, в память маленького Гутенберга навсегда врезалась одна фраза: «Хороший переписчик не должен знать алфавита».