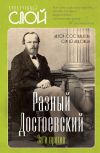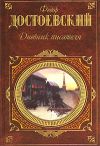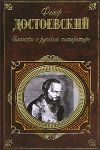Читать книгу "Дневник писателя (1873–1876)"

Автор книги: Федор Достоевский
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
I. Застарелые люди
«Всякая высшая и единящая мысль и всякое верное единящее всех чувство – есть величайшее счастье в жизни наций. Это счастье посетило нас. Мы не могли не ощутить всецело нашего умножившегося согласия, разъяснения многих прежних недоумений, усилившегося самосознания нашего».
Вот что высказал я в заключительной статье прошлого августовского моего «Дневника», – и верую, что не ошибся. Верное единящее чувство в жизни наций – есть действительно счастье. Если в чем я и ошибся, так это в том разве, что, может быть, несколько преувеличил степень нашего «умножившегося согласия и самосознания». Но и в этом я еще не готов уступить. Кто любит Россию, у того давно уже болело сердце за то разъединение высших слоев русских людей с низшими, с народом и с народною жизнью, которое, как существующий факт, не подвержено теперь ничьему сомнению. Вот это-то разъединение отчасти подалось и ослабело, по моему взгляду, с настоящим всерусским движением нынешнего года по поводу славянского дела. Конечно, возможности нет представить себе, чтоб разрыв наш с народом был бы уже совершенно покончен и излечен. Он продолжается и будет долго еще продолжаться, но такие исторические минуты, как пережитые нами в нынешнем году, без сомнения, способствуют и «умножившемуся согласию, и разъяснению недоумений», – одним словом, способствуют нашему более ясному пониманию народа и русской жизни, с одной стороны, а с другой – более близкому знакомству и самого народа с странными, как бы чужими людьми для него, как будто и не русскими, – с «господами», как называет он нас и доселе.
Надо признаться, что народ и теперь, во всем этом общерусском движении этого года, выказал себя с более здравой, точной и ясной стороны, чем многие из интеллигентного нашего класса. У народа высказалось чувство прямое, простое и сильное, воззрение твердое и – главное, с удивительною общностью и согласием. Там даже и спора не возникало о том, «за что именно помогать славянам? Надо ли помогать? Кому лучше и больше помогать, а кому не помогать совсем? Не испортим ли мы каким-нибудь случаем нашей нравственности и не повредим ли нашему гражданскому развитию тем, что слишком уж будем помогать? С кем, наконец, нам воевать, да и нужно ли воевать?» и пр. и пр. Одним словом, тысяча недоумений, которые посетили, однако же, нашу интеллигенцию. Особенно в иных отделениях нашей высшей интеллигенции, именно там, где на народ до сих пор смотрят еще свысока, презирая его с высоты европейского образования (иногда совсем мнимого), там, в этих высших «отдельностях», обнаружилось довольно чрезвычайных диссонансов, нетвердость взгляда, странное непонимание иногда самых простых вещей, почти смешное колебание в том, что делать и чего не делать, и пр. и пр. «Помогать или не помогать славянам? А если помогать, то что именно помогать – и за что будет нравственнее и красивее помогать: за то или за это?» Все эти черты, иногда до странности поражавшие, проявились действительно, слышались в разговорах, выказались в фактах, отразились в литературе. Но ни одной статьи в этом роде не читал я удивительнее статьи «Вестника Европы», за сентябрь месяц сего года, в отделе «Внутреннего обозрения». Статья именно трактует о настоящем текущем русском движении, по поводу братской помощи угнетенным славянам, и тщится бросить на этот предмет взгляд как можно глубокомысленнее. Это место статьи, касающееся русского народа и общества, невелико – четыре или пять страничек, а потому я и позволю себе проследить эти странички, так сказать, по порядку, разумеется, не все выписывая. По-моему, эти странички чрезвычайно любопытны и составляют, так сказать, в своем роде документ. Цель моего поступка определится сама собой в конце этой предпринятой мною работы, так что, я думаю, даже и не надо будет выводить особого нравоучения.
Впрочем, в виде самого краткого предуведомления замечу лишь то, что автор статьи принадлежит, как это слишком ясно, к тому устаревшему теоретическому западничеству, которое, четверть века тому назад, составляло в нашем обществе, так сказать, зенит интеллигентных сил наших; теперь же до того устарело, что в чистом, первобытном своем состоянии встречается в виде большой уже редкости. Это, так сказать, обломки, последние могикане теоретического, оторвавшегося от народа и жизни русского европейничанья, которое, хотя и имело в свою очередь когда-то свою необходимую причинность существования, тем не менее оставило по себе, мимо, однако же, и своего рода пользы, чрезвычайно много самого вредного, предрассудочного вздора, продолжающего вредить и до сих пор. Главная историческая польза этих людей была отрицательная и состояла в крайности их выводов и окончательных приговоров (ибо были они столь надменны, что приговаривали не иначе как окончательно), в тех последних столпах, до которых доходили они в исступленных своих теориях. Эта крайность невольно способствовала отрезвлению умов и повороту к народу, к соединению с народом. Теперь, после всей этой четверти века и после множества новых, прежде неслыханных фактов, добытых уже практическим изучением русской жизни, – эти «последние могикане» старых теорий невольно представляются в комическом виде, несмотря даже на их усиленно почтенную осанку. Главная же смешная черта их в том, что они все еще продолжают считать себя молодыми и единственными хранителями и, так сказать, «носителями указаний» тех путей, по которым следовало бы, по их мнению, идти настоящей русской жизни. Но от жизни этой они до того уже отстали, что решительно перестают узнавать ее; а потому и живут в совершенно фантастическом мире. Вот почему чрезвычайно любопытно и назидательно, в минуту какого-нибудь сильного общественного одушевления, проследить, до какой степени этот теоретический европеизм фальшиво разъединился с народом и обществом, до какой степени взгляды его и решения, в иную чрезвычайную минуту общественной жизни хотя и по-прежнему надменны и высокомерны, в сущности – слабы, шатки, темны и ошибочны, сравнительно с ясными, простыми, твердыми и непоколебимыми выводами народного чувства и разума. Но обратимся, однако, к статье.
Надо, впрочем, отдать справедливость автору статьи; он признает, то есть соглашается признать, и народное, и общественное движение в пользу славян, признает его даже достаточно искренним. Конечно, еще бы он не признал его!.. но все же для такого застарелого «европейца», как наш автор, это заслуга немалая. А между тем он все как бы чем-то недоволен, ему почему-то не нравится, что это движение началось. Правда, он прямо не высказывается, что недоволен тем, что движение началось, но зато брюзжит и придирается к подробностям. Мне кажется, Грановский, один из самых чистейших и первоначальных представителей теоретического западничества нашего, тоже писавший в свое время о Восточном вопросе и о тогдашнем, впрочем лишь несколько подобном настоящему, народном движении в войну 54–56 годов (см. мою статью о Грановском в августовском моем «Дневнике»), – Грановский, говорю я, мне кажется, был бы тоже недоволен нашим теперешним народным движением и, уж конечно, предпочел бы видеть скорее народ наш по-прежнему в виде неподвижной косной массы, чем проявляющимся в таких отчасти даже неразвитых и, так сказать, первобытных формах, не подходящих к нашему европейскому веку. И вообще, все эти прежние старые теоретики хоть и любили народ (хотя, впрочем, нам это не очень известно), но любили его до того лишь в теории, то есть до того в тех мечтательных представлениях и формах, в которых желали бы его видеть, что, в сущности, как бы даже и не любили его вовсе. Впрочем, в оправдание их, надо признаться, что они никогда и не знали народа вовсе, да и не находили нужным знать его и с ним знаться. Они не то что извращали факты, а просто не понимали их совсем, так что много, слишком много раз чистейшее золото народного духа, смысла и глубокого, чистейшего чувства причислялось ими прямо к пошлости, невежеству и тупому народному русскому бессмыслию. Проявись народ перед ними чуть-чуть не в тех видах и образах, в которых им нравилось (большею частью в виде французской парижской черни), и они, может, отказались бы от него вовсе. «Прежде всего надо устранить всякую мысль, что война эта священная, – восклицает Грановский в своей брошюре о Восточном вопросе, – ныне-де на крестовый поход никого не подымешь, не тот век нынче, никто не двинется на освобождение Гроба Господня» и т. д., и т. д. Точь-в-точь и теоретик «Вестника Европы»: ему тоже не нравятся рубрики, он придирается к ним. Ему очень не нравится, например, что народ наш и общество жертвуют не под той рубрикой, как бы ему хотелось. Он хочет взгляда более, так сказать, подходящего к нашему веку, более просвещенного. Но мы опять отступили в сторону.
Пропускаем начало этого места статьи о русском движении в пользу славян – начало очень характерное в своем роде, но мы не можем останавливаться на каждой строчке. Вот что говорит автор далее.
II. Кифомокиевщина[138]138
Явление по имени Кифы Мокиевича – героя «Мертвых душ» Н. В. Гоголя. Имеется в виду провинциальный философ, который много размышляет над не имеющими практической ценности вопросами.
[Закрыть]
«Нельзя, впрочем, отрицать, что среди многочисленных заявлений, появлявшихся по этому делу в наших газетах, были некоторые странные и бестактные; не говоря уже о тех, в которых виднелось желание слишком выставить свою личность, так как это не важно, мы должны указать на те, в которых обнаруживался сыск по части чувств русских граждан невеликорусов. Эта нехорошая привычка, к сожалению, все еще не оставила нас, а по самой сущности дела, о котором говорилось, требовалась особая осторожность в отношении всех национальностей, входящих в общую русскую народность. Заметим еще, что вообще движению в пользу славян не следует придавать слишком вероисповедный характер, беспрестанно упоминая о „наших единоверцах“. Для возбуждения русского общества к оказанию славянам помощи совершенно достаточны те мотивы, которые могут соединять всех русских граждан, – и излишни те мотивы, которые могут разъединять их. Если мы будем объяснять себе наше сочувствие к славянам главным образом тем, что они наши единоверцы, то как же мы должны будем относиться к тем из наших мусульман, которые стали бы собирать пожертвования в пользу турок или заявили бы желание ехать в турецкую армию… Беспокойство, обнаружившееся в некоторых местностях Кавказа, должно напомнить нам, что православный великорус живет в семье, что он не единственный, хотя и старший сын России».
Довольно было бы и одного этого места, чтоб указать, до какого разрыва с общественным смыслом и до какой праздной «кифомокиевщины» может договориться в наше время застарелый в своем упорстве теоретический европеизм иного прежнего «носителя указаний». Автор задает нам, и его самого мучат вопросы, удивляющие своею придуманностью и деланостью, самою фантастическою теоретичностью и, главное, совершенною их бесцельностью. «Если-де мы будем жертвовать из единоверия, то как же мы будем относиться к тем из наших мусульман, которые стали бы собирать пожертвования в пользу турок или заявили бы желание ехать в турецкую армию?» Ну, возможен ли тут какой-нибудь вопрос и возможно ли тут хоть какое-нибудь колебание в ответе? Всякий простой, неизломанный русский человек тотчас же даст вам самый точный ответ. Да и не один русский человек, а и всякий европеец, всякий североамериканец вам даст на это самый ясный ответ; разве только что европеец оглядит вас, прежде ответа, с крайним удивлением. Заметим, кстати и вообще, что наше русское западничество, то есть европейничанье, укрепляясь на русской земле, принимает мало-помалу, и весьма часто, далеко не европейский оттенок, так что иную европейскую идею, занесенную к нам иными «хранителями указаний», иногда даже и узнать нельзя вовсе – до того изменится она, перемалываясь в русских теориях и в приложении к русской жизни, которую, вдобавок, теоретик не знает вовсе, да и знать ее не находит нужным. «Как будем мы, видите ли, относиться к тем из наших мусульман, которые» и т. д. Да очень просто: во-первых, если уж мы будем в войне с турками, а наши татары, например, начнут помогать туркам деньгами или пойдут в их ряды, то еще прежде того, как отнесется к ним общество, само правительство, думаю, отнесется к ним как к государственным изменникам и, уж конечно, сумеет их остановить вовремя. Во-вторых, если война еще не будет объявлена, а турки начнут резать славян, которым все русские равно сочувствуют, то, в случае, если начались бы пожертвования, деньгами или людьми, русских мусульман в пользу турок, – неужели вы думаете, что кто-нибудь из русских мог бы отнестись к такому факту без оскорбленного чувства и без негодования?.. По-вашему, вся беда в вероисповедном характере пожертвований, то есть если уж русский стал помогать славянину, как единоверцу, то как же может он, не нарушая гражданской равноправности и справедливости, запретить такое же пожертвование и русскому татарину в пользу единоверца своего – турка? Напротив, очень может и имеет на то самое полное право, потому что русский, помогая славянину против турок, даже и в мысли не имеет стать врагом татарина и пойти на него войной, тогда как татарин, помогая турке, разрывает с Россией, становится изменником России и, становясь в ряды турок, идет прямо на нее войной. Кроме того, ведь если я, русский, пожертвую в пользу славянина, воюющего с турком, хотя бы даже и из единоверия, то ведь победы ему желаю над турком вовсе не потому, что тот мусульманин, а потому лишь, что тот режет славянина, тогда как татарин, переходя к турке, может это сделать единственно лишь из той причины, что я христианин и что будто бы хочу истребить мусульманство, тогда как я вовсе не хочу истреблять мусульманства, а лишь единоверца своего защитить… Помогая славянину, я не только не нападаю на веру татарина, но мне и до мусульманства-то самого турки нет дела: оставайся он мусульманином сколько хочет, лишь бы славян не трогал. Тут скажут, пожалуй: «Если ты помогаешь единоверцу против турок, то уж тем самым и идешь против русского татарина и против веры его, потому что у них шариат, а султан есть калиф всех мусульман. Райя же, уже по самому Корану, не может быть свободен и не может быть равноправен мусульманину; помогая же ему стать равноправным, русский тем самым, в глазах всякого мусульманина, идет уже не на турок, а и на все мусульманство». Но в таком случае зачинщик религиозной войны уже татарин, а не я, и, согласитесь, что это уже совсем другого рода возражение и что тут уж никакими хитростями и никакими рубриками не поможешь… Вы вот думаете, что вся беда от единоверия и что если б я скрыл от татарина, что помогаю славянину как единоверцу, а, напротив, выставил бы на вид, что помогаю славянину под какою-нибудь другою рубрикой, ну, например, из-за того, что тот угнетен туркой, лишен свободы – «сего первого блага людей», то татарин мне и поверит? Напротив, смею вас заверить, что в глазах какого бы то ни было мусульманина помогать райе против мусульман, под каким бы то ни было предлогом, – есть совершенно все одно, как бы я пошел помогать райе за веру. Неужели вы этого не знали? А между тем вы именно пишете: «Для возбуждения русского общества к оказанию славянам помощи совершенно достаточны те мотивы, которые могут соединять всех русских граждан, и излишни те мотивы, которые могут разъединять их»… Это вы написали именно про единоверие, как про разъединяющий мотив, и про русских мусульман – и тут же сейчас это и разъяснили. Вы предлагаете «борьбу за свободу» как лучший и высший предлог или «мотив», как вы выражаетесь, для русских пожертвований в пользу славян и, по-видимому, совершенно убеждены, что «борьба славян за свободу» очень понравится татарину и в высшей степени его успокоит. Но, опять-таки, уверяю вас, что для русского мусульманина, если уж он такой, что решится пойти помогать туркам, – все мотивы равны, и что, под какой бы рубрикой ни началась война, в его глазах она все-таки будет религиозная. Но ведь русский не виноват, что татарин так понимает…
III. Продолжение предыдущего
Мне даже очень досадно, что я должен был так распространиться. Если б возможна была когда-нибудь война Франции с Турцией и при этом заволновались бы принадлежащие Франции мусульмане, алжирские арабы, то неужели вы думаете, что французы не усмирили бы их тотчас же самым энергическим образом? И стали бы они деликатничать и позорно прятать свои лучшие и благороднейшие «мотивы» из опасения, чтоб мусульмане их как-нибудь не обиделись и не оскорбились! Вы пишете самым величавым образом нравоучение для всей России: «Беспокойство, обнаружившееся в некоторых местностях Кавказа (NB кстати, сами, стало быть, заявляете, что беспокойство было), должно напомнить нам, что православный великорус живет в семье, что он не единственный, хотя и старший сын России». Положим, что это величаво сказано, но что ж, однако, великорусу-то делать в том случае, если б действительно кавказцы заволновались? Чем виноват этот старший сын в семье, что мусульманин-кавказец, этот младший сын в семье, так восприимчив насчет своей веры и с такими понятиями, что, идя против турок, старший сын идет уже и против него и всего мусульманства?.. Вы тревожитесь, чтобы «старший брат в семье» (великорус) не оскорбил как-нибудь сердца младшего брата (татарина или кавказца). Какая, в самом деле, гуманная и полная просвещенного взгляда тревога! Вы напираете на то, что православный великорус не «единственный, хотя и старший сын России». Позвольте, что ж это такое? Русская земля принадлежит русским, одним русским, и есть земля русская, и ни клочка в ней нет татарской земли. Татары, бывшие мучители земли русской, на этой земле пришлецы. Но, усмирив их, отвоевав у них назад свою землю и завоевав их самих, русские не отомстили татарину за двухвековое мучительство, не унизили его, подобно как мусульманин-турка измучил и унизил райю, ничем и прежде его не обидевшего, – а, напротив, дал ему с собой такое полное гражданское равноправие, которого вы, может быть, не встретите в самых цивилизованных землях столь просвещенного, по-вашему, Запада. Даже, может быть, русский мусульманин пользовался иногда и высшими льготами против самого русского, против самого владетеля и хозяина русской земли… Веру татарина никогда тоже не унижал русский, никогда не притеснял и не гнал, и – поверьте, что нигде на Западе и даже в целом мире не найдете вы такой широкой, такой гуманной веротерпимости, как в душе настоящего русского человека. Поверьте тоже, что скорей уж татарин любит сторониться от русского (именно вследствие своего мусульманства), а не русский от татарина. В этом всякий вас уверит, кто жил подле татар. Тем не менее хозяин земли русской – есть один лишь русский (великорус, малорус, белорус – это все одно) – и так будет навсегда, и уж если православному русскому придет нужда воевать с мусульманами-турками, то верьте, что никогда русский не позволит кому бы то ни было сказать себе на своей земле veto! Деликатничать же с татарами до такой степени, что бояться сметь обнаружить перед ними самые великодушные и невольные чувства, вовсе никому не обидные, – чувства сострадания к измученному славянину, хотя бы как и к единоверцу, – кроме того, всячески прятать от татарина все то, что составляет назначение, будущность и, главное, задачу русского, – ведь это есть требование смешное и унизительное для русского… Чем я оскорбляю татарина, что сочувствую моей вере и единоверцам, чем гоню его веру? И чем я виноват, что, в его понятиях, всякая наша война с турками принимает непременно характер вероисповедный? Не может же русский изменить основные понятия всего мусульманства. Вы говорите: «ну, так деликатничай, секретничай, старайся не оскорбить»… Но, позвольте, если уж он так чувствителен, то ведь он, пожалуй, может вдруг оскорбиться и тем, что на той же улице, где стоит его мечеть, стоит и наша православная церковь, – так уж не снести ли ее с места, чтобы он не оскорбился? Ведь не бежать же русскому из своей земли? Не залезть же куда-нибудь под стол, чтоб было не слышно и не видно, из-за того, что в русской земле младший брат-татарин живет!..
Вы что-то заговорили про «сыск». «Мы должны-де указать на те (статьи в русских газетах), в которых обнаружился сыск по части чувств русских граждан невеликорусов. Эта нехорошая привычка, к сожалению, все еще не оставила нас, а по самой сущности дела, о котором говорилось, требовалась особая осторожность в отношении всех национальностей, входящих в общую русскую народность». Какая же это наша привычка? Смею вас уверить, что это лишь фальшивая нота старого теоретического либеральничанья, не умеющего и приложить-то с толком вывезенной из Европы либеральной идеи. Нет-с, не нам с вами учить народ веротерпимости или читать ему лекции о свободе совести. В этом отношении он и вас, и всю Европу поучит. Впрочем, вы говорите о газетах, о русской журналистике. Так что ж это за сыск? И какую нашу привычку, столь укоренившуюся, вы так оплакиваете? Привычку сыска в нашей литературе? Но это тоже фантазия теоретического либерализма, не оправдывающаяся действительностью. Уверяю вас, что у нас никогда и ни на кого не доносили в литературе ни за веру, ни даже за какие-нибудь местно-патриотические чувства. Если же и были когда-нибудь частные случаи, то они до того уединенны и исключительны, что грешно и стыдно возводить их в общее правило: «дескать, привычка эта все еще нас не оставила». Да и что такое донос или сыск? Есть факты, про которые уж нельзя не говорить. Не знаю, про какие статьи вы говорите и на что намекаете. Помню, читал я кое-что про волнения начинавшегося фанатизма на Кавказе; так ведь вы и сами сейчас же написали об этих волнениях в смысле действительно совершившегося факта. Заезжали тоже, говорят, из Турции проповедники фанатизма и в Крым; но были ли эти волнения в самом деле или вовсе не были, я, в настоящем случае, разбирать не буду, да, по правде, и сам не знаю наверно. Я только спрошу вас: неужели же, если б какая-нибудь из газет сообщила про подобный слух или уже факт, так уж это бы назваться «сыском по части чувств наших иноверцев»? Ну, положим, что эти факты волнений случились бы действительно, как же об них умолчать, да еще газете, которая и вообще на том стоит, чтоб извещать о фактах? Ведь она тем предупреждает опасность. Ведь если молчать и дать развиться делу, то есть фанатизму, то ведь пострадают и фанатики, и те из русских, которые живут подле них. Вот если газета умышленно приведет фальшивые факты, чтоб донести правительству и возбудить преследования, то тогда, конечно, был бы сыск и донос, но ведь если факты верны, то об них молчать, что ли? Да и кто гнал у нас когда инородцев за их веру и даже за их иные «вероисповедные чувства» или даже просто за чувства, хотя бы и в самом широком смысле слова? Напротив, на этот счет у нас почти всегда бывало даже и очень слабенько, совсем, например, не так, как в иных просвещеннейших государствах Европы. Что же до вероисповедных чувств, то у нас и раскольников-то уж теперь почти никто не гонит, а не то что инородцев, и если было в последнее время несколько редких, совсем единичных, случаев преследования штундистов, то эти случаи тотчас же и резко осуждались всей нашей прессой. Кстати, уж не согласиться ли нам с иными германскими газетами, обвинявшими нас и обвиняющими даже теперь в том, что мы терзаем и преследуем наших остзейских немцев – за их веру и чувства!.. Очень, очень жаль, что вы не указали статьи и не привели факта, чтоб уж было точно известно, про какие именно сыски вы говорите. Надо знать и понимать употребление слов и не шутить такими словами, как «сыск».
Главное, вам не нравится эта рубрика: «единоверие». Помогай, дескать, из других мотивов, а не из единоверия. Но уж, во-первых, то, что это «мотив» не сочиненный, не подысканный, а сам явившийся, сам сказавшийся и сказавшийся всеми разом. Это мотив исторический, и история эта тянется до сих пор. «Не надо-де движению в пользу славян придавать вероисповедный характер, беспрерывно упоминая о „наших единоверцах“», – пишете вы. Но что же делать с историей и с живой жизнью: надо или не надо придавать, а оно само собою так выходит. Сообразите: турок режет славянина за то, что тот, будучи христианином, райей, осмеливается домогаться с ним равноправия. Перейди болгарин в магометанство – и турок тотчас же перестанет мучить его, напротив, тотчас же признает его за своего, – так по Корану. Следственно, если болгаре терпят такие лютые муки, то, уж конечно, за свое христианство, это ясно как день. Так как же тут русскому, жертвуя на славянина, избежать «вопроса вероисповедности»? Да русскому и в голову не придет избегать! Да и кроме исторической и текущей необходимости, русский человек ничего не знает выше христианства, да и представить не может. Он всю землю свою, всю общность, всю Россию назвал христианством, «крестьянством». Вникните в православие: это вовсе не одна только церковность и обрядность, это живое чувство, обратившееся у народа нашего в одну из тех основных живых сил, без которых не живут нации. В русском христианстве, по-настоящему, даже и мистицизма нет вовсе, в нем одно человеколюбие, один Христов образ, – по крайней мере, это главное. В Европе давно уже и по праву смотрят на клерикализм и церковность с опасением: там они, особенно в иных местах, мешают течению живой жизни, всякому преуспеянию жизни, и, уж конечно, мешают самой религии. Но похоже ли наше тихое, смиренное православие на предрассудочный, мрачный, заговорный, пронырливый и жестокий клерикализм Европы? Как же может оно не быть близким народу? Народные стремления создаются всем народом, а не сочиняются в редакциях журналов: «Надо иль не надо», а будет так, как есть в самом деле. Вы пишете, например, далее: «Благородное дело свободы увидало в рядах своих защитников – русских людей. Уже с этой точки зрения, еще более возвышенной, чем сочувствие по единоверию и даже единству племени, дело славян – священное дело». Ваша правда, это очень высокий мотив, но ведь что, однако же, говорит мотив единоверия? Единоверие тут именно означает несчастного, измученного, распятого на кресте и за угнетение которого я восстаю и негодую. Это значит: «положи живот свой за угнетенного, за ближнего, выше нет подвига» – вот что говорит мотив единоверия! Кроме того, я осмелюсь заметить, впрочем лишь вообще, что искать «рубрик» для добрых дел опасно. Если я, например, помогаю славянину как единоверцу, то ведь это вовсе не рубрика, это только обозначение его исторического положения в данный момент: «он единоверец, стало быть, – христианин, и за это угнетен и мучим». Но если я скажу, что помогаю из-за «благородного дела свободы», то тем самым как бы выставляю причину моей помощи. А уж если искать причину помощи, то черногорцы, например, и герцеговинцы, выказавшие всех больше благородного искания свободы, выйдут и всех достойнее помощи; уж немного поменьше, а болгары и болгарки даже ведь совсем и не подымались за свободу, разве где-нибудь вначале, по горам, ничтожными кучками. Они просто выли, их маленьким ребятишкам мучители отрезывали в каждые пять минут по пальчику, чтоб продлить их мучения в глазах отцов и матерей, а те и не защищались, а лишь целовали, вопя и терзаясь, как бы в безумии, ноги мучителям, чтоб они перестали мучить и отдали им назад бедных деточек. Ну, так ведь этим, пожалуй, пришлось бы всех меньше помочь, потому что они всего только страдали, а не возвысились до благородного дела свободы – «сего первого блага людей». Положим, вы так дрянно не помыслите, но сознайтесь, что, вводя причины и «мотивы» для человеколюбия, почти всегда доходишь до несколько подобных рассуждений и выводов. Лучше всего – помогать просто потому, что человек несчастен. Помощь единоверцу это именно и означает; повторяю вам, у нас слово «единоверец» вовсе не клерикальная рубрика, а лишь историческое обозначение. Поверьте, что и «единоверие» слишком любит и ценит благородное и великое дело свободы, мало того: умеет и сумеет умереть за него всегда, когда надо будет. А теперь я только против неправильного приложения европейских идей к русской действительности…
IV. Страхи и опасения
Всего забавнее то, что почтенный теоретик прозревает в современном увлечении в пользу славян серьезную для нас опасность и изо всех сил спешит предупредить нас. Он думает, что мы, в минуту самообольщения, выдадим себе «аттестат зрелости» и полезем спать на печку. Вот что он пишет:
«В этом смысле опасны все часто читаемые нами, по поводу жертв в пользу славян, рассуждения на тему: „факты эти обнаруживают в русском обществе отрадное оживление, они доказывают, что русское общество дозрело до“… и т. д. Склонность любоваться собою в зеркало по поводу международных вопросов и заявлений сочувствия национальностям, а затем засыпать сном труженика, исполнившего свой долг, в нас так велика, что все подобные рассуждения, хотя верные до известной степени, положительно опасны. Ведь мы уже торжествовали свою готовность к жертвам при начале Крымской войны, праздновали свою общественную зрелость по поводу депеш нашего канцлера в 1863 году, и по поводу сочувственной встречи, оказанной у нас офицерам североамериканского броненосца, и по поводу сбора в пользу кандиотов, и по поводу оваций славянским литераторам в Петербурге и Москве. Прочтите, что писалось в то время газетами, и убедитесь, что иные фразы ныне буквально повторяются… Спросим себя, что вышло из всех тех „зрелостей“, которые мы поочередно праздновали, и подвинули ли нас вперед те моменты, в которые мы их праздновали?.. Но мы должны помнить, что, следуя влечению, мы не вправе еще претендовать на выдачу нам „аттестата зрелости“…»
Во-первых, тут все, с первого до последнего слова, не верно действительности. «Склонность-де засыпать сном труженика, исполнившего свой долг, в нас так велика» и т. д. Эта «склонность к засыпанию» есть одно из самых предрассудочных и неверных обвинений устарелого теоретизма, очень любившего много болтать и ничего не делать, именно всегда лежавшего на печке и читавшего нравоучения с печки и именно, в самоупоении своей красотой, беспрерывно заглядывавшего на себя в зеркало. Это предрассудочное, а теперь до невероятности оказенившееся обвинение зародилось именно тогда, когда русский человек, если и лежал на печи или только и делал, что играл в карты, то единственно потому, что ему и не давали ничего делать, не пускали его делать, запрещали ему делать. Но чуть лишь у нас раздвинулись заборы, то русский человек тотчас же обнаружил скорее лихорадочное беспокойство и нетерпение в стремлении к делу и даже неустанность в деле, чем желание лезть на печку. Если же и до сих пор не совсем ладится дело, так ведь это вовсе не потому, что оно не делается, а потому, что при двухсотлетней отвычке от всякого дела нельзя так сразу приобресть способность понимать дело, верно подходить к нему и суметь за него взяться. Вам бы только наставления читать и бранить русского человека, по старой памяти. Я говорю это старым теоретикам, никогда не удостоивавшим, с высоты своего величия, вникнуть в русскую жизнь и хоть что-нибудь изучить в ней, ну, хоть чтобы проверить и поправить свои предрассудочные взгляды старинных давнишних годов.