Читать книгу "Дева карельских лесов"
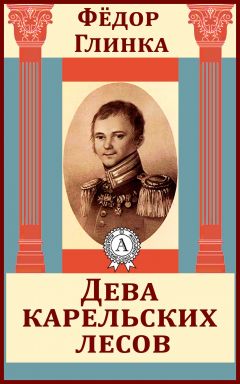
Автор книги: Федор Глинка
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Федор Николаевич Глинка
ДЕВА КАРЕЛЬСКИХ ЛЕСОВ
Повесть в стихах
А.** А.** Н.**[1]1
А**. А*. Н**. – Андрей Афанасьевич Никитин, друг Глинки.
Олонецкая губерния – ныне территория Карельской АССР, частично – Архангельской и Ленинградской областей.
[Закрыть]
Я обещал вам переслать, в письмах, статистическое описание Олонецкой губернии, края уединённого, бедного людьми (ибо на 12 000000 десятин здесь едва найдется 100000, и то не совсем постоянных жителей), но богатого великими запасами лесов еще нетронутых, руд неископаемых, каменных пород (мрамора, порфира и проч.) высокого достоинства, красильных земель и камней, могущих стать наряду с драгоценными, ибо, кроме других, на островах Кижи находят хорошие аметисты. Я уже собрал некоторые материалы для составления обещанного. Но пока созреет что-нибудь довольно удовлетворительное для строгих требований науки, примите, в знак дружбы и благодарности за дружбу, мою небольшую повесть. Она познакомит вас отчасти с пиитической стороною сих лесистых пустынь, на пространстве которых почиют огромные озера, почти можно сказать – пресные моря, ибо Онега имеет более 1000 верст в окружности и 10000 кв. верст площади.
Что касается до описанного происшествия – содержания повести, – я объясняюсь о нем в особом введении.
ВВЕДЕНИЕ
Около 1695-го года, леса, окружающие пустынное озеро Лексу, укрывали трех братий-изгнанников. Они были княжеского рода. Память о них и поныне жива в пустыне Выгорецкой.
В 18** году один из почтеннейших в сем крае (в Олонецкой губ.) чиновников, искусный стрелок, любя странствовать в диких местах (он, может быть, находил в них сходство с своим природным отечеством – горною Шотландиею), проник однажды далее обыкновенного в лесистые окрестности города Петрозаводска, застрелил большую медведицу с двумя подростками и в чаще пустынного леса заметил следы постоянного жилища человека. В ту же ночь сделал обыск; лучи зажженной лучины осветили темноту бора, и открылось, что там, в местах необитаемых, действительно жил, с давнего времени, человек, уклонявшийся от преследования закона. Он был женат и уже в пустыне стал отцом 5-х детей. Все они жили в хижине, имели корову и некоторое хозяйственное обзаведение.
И в самые недавние времена находили по лесам Олонецкой губернии уединенных скитальцев, скрытно проживающих, иногда по нескольку лет, в убогих хижинах. Вместе с ними представляли в суде небольшое их имущество.
Оно состояло из самодельных шведских гуслей, разных изделий из карельской березы и мелочных вещиц, украшенных резьбою. Сим, говоря по-русски, коротали время сии отшельники от общества, которое должно было преследовать их законом возмездия.
Я предлагаю повесть также о несчастных. – Может быть, читатели захотят исследовать: когда? где? и кто такие они были? Это намерение легко может произойти и от духа нынешнего времени, которого отличительная черта – есть стремление со всего снимать покров, все исследовать не только в науках положительных, но и в самых изящных художествах и в самой поэзии! Но, прежде чем приступят к разбору моей повести с намерением узнать, что в ней истинно и что принадлежит изобретению, да позволено мне будет предложить небольшой рассказ. Вот он.
Где-то на Востоке, кажется, там, где в пределах древнего Ирана красуется богатый Ширас, славясь своим огнистым вином, чудесными озами и песнями Хафиза, которого стихи пламенны, как вино, и благовонны, как розы его пленительной отчизны, – кажется, так, как мне рассказывали, случилось однажды нечто достойное быть пересказанным. Молодой человек (вероятно, он был еще очень молод!) гулял в долине (ей, как слышно, дано было звучное название: бильбил и стон, т. е. долина соловьев), нашел прелестную розу. Она блистала румянцем зари и была свежа, молода и прекрасна, как любимейшая из ясен великого шаха, когда выходит она из благовонной купальни своей, чудесно устроенной из хрусталя и зеркал. Долго любовался юноша цветком своим и мог бы любоваться им еще долее… Но ему пришла мысль: исследовать, отчего в розе аромат и румянец? Какие части составляют – цветок? Что можно найти в нем существенно прекрасного? и так далее. Вздумал – и сделал. Уже все листки ощипаны, поток разобран, стебель изломан… И что ж открылось? – Искатель, вообразив найти многое, не нашел ничего, но потерял и цветок и наслаждение… После этого поступайте как угодно с моей повестью.
Но если и чудесная ширасская роза не выдержала холодного исследователя, то что станется с этим бедным цветком, кое-как выросшим на бесплодной олонецкой почве?
ЧАСТЬ 1
1
Над озером, в затишье диком,
Лишь чайки да гагары криком
Тревожат отзывы в лесах,—
Когда на высях коршун жадный
Плывёт, чернея в небесах
Как пятнышко… Безлюдный, хладный
Залег, как в гроб, в обломки гор
Сей край с своими валунами[2]2
Валунами называются камни, часто огромной величины: это обломки первосозданных гранитных гор, принесенные сюда каким-то великим движением вод.
[Закрыть];
Он весь колючими стенами
И цепью обнесен озер.
2
Как озеро зовут? – кто знает?
Без имени лежит оно!
Его нерудяное дно
К себе людей не привлекает!..
На что? – Зачем туда? Кому?
Сей дикий край (в быту пустынном
Ему и имя не дано!)
Лежит, как синее пятно[3]3
В окрестностях высот г. Петрозаводска, как, например, из деревни Сельга («сельга» на языке туземцев значит распаханная гора) и с других возвышений, видны места лесистые, пустые, никем не обитаемые, которые синеют на горизонте длинном; ибо он, всегда почти бестуманный, открыт на большое пространство. Насчет крайней уединенности таких лесных пустыней рассказывают следующий забавный анекдот. Обыватели лесной деревеньки, живущие, как здесь говорится, наедине, удалены будучи от приходской церкви и всякого сношения с местным населением, ведут свой расчет без святцев и календаря и однажды ошиблись весьма неловко. Один из них приехал в город закупать провизию для масленой недели. Горожане, изумясь, спрашивали: «Да для чего закупаешь ты скоромное?» – «Для масленой», – отвечал тот. «Какая теперь масленица? Ты слышишь, звонят по великому посту: уж первая неделя!» Покупщик, разумеется, возвратился к своим и объявил, что они масленицу просчитали!
[Закрыть],
Вдали, на небосклоне длинном.
Так видят иногда его
С озер, где сойма пробегает,
И на вопрос: «Кто там?» бывает
Один ответ: «Там никого!..»
И кто-то в зеркале великом
Лесистый брег нарисовал…
Под рамой каменной светило
Оно, как вылитая сталь,
Но было тускло и уныло,
Как над песчаной степью даль,
Как затаенная печаль;
Оно с туманным, бледным ликом
Давно, давно в пустыне спит;
Как тайна, бор над ним молчит.
3
Однако ж иногда мелькнут
И там одна, порой две тени,
И мнится, будто бы взойдут
На обнаженные ступени
Зеленовидных сих громад…
Над спящим лесовым кристаллом,
Под алым утра покрывалом
Скользит украдкой чей-то взгляд…
И счастье, что не замечают!..
Что некому подслушать их!..
Тут, точно тут! – порой вздыхают
И шепчутся в пустынях сих!..
Там никого… Так отчего лее
В лесах огни горят порой,
И в диких дебрях, в бездорожье,
Мелькает кто-то под горой?
Без бури движутся озеры
И говором полны пещеры?
Карелы дикой ведуны
Вам много чудного наскажут
О тайнах сей лесной страны,
Сорвут покров и вам покажут
Людей, селенья, города,
Их быт, хозяйство, их стада…
4
И там же слышен рев коровы,
И в чаще ржание коня,
И чей-то свист в глуши дубровы…
И… Всё уверило меня,
Что там не без людей!.. Есть кто-то!
Вот, на песке, остался след!..
Где ж временем видают свет?…
Порой, как будто за работой,
Стучат… а кто? и где?… Кому
Там быть? Туда и лыжи
Не мчат ловца: там что ему?…
И звери вьются близко хижин[4]4
«И звери вьются близко хижин». Здесь замечено, что звери охотнее сбираются там, где больше засеянных полей и домашнего обзаведения. Из пустынь выгоняет их, вероятно, недостаток в прокормлении.
[Закрыть].
А там всё глушь и пустота!
Оголодав в лесах без снеди,
Оттоль выходят и медведи.
А след? – А признаки? – Мечта!
5
Нет, не мечта! Я верно знаю:
Есть… Есть там житель, и какой!..
Над безымянною рекой,
Уж часто сам… я сам видаю…
Нет! Не пуста сия страна!..
Пускай дика и неизвестна,
Тем лучше! В ней… и как прелестна!
И как стройна! И как она
Легко скалы перебегает,
Чуть тень за нею поспевает;
В руке стрела, натянут лук,
Она владеет ими ловко!
Но почему же не с винтовкой?
Как можно! В их пустыне звук—
Беда! Он тайную, обитель
Откроет, огласит; наш житель
Укрыт от мира, чужд всего…
Но мне пора открыть его!..
6
Не говорите людям! Бедный!
Пусть доживает! Что губить?
И так задумчивый и бледный!..
И так, в тоске, уж тлеет нить
Его лесной печальной жизни…
Покинув дом, свои поля,
Отброшен от своей отчизны,
Он… как обломок с корабля,
Упав, забыт в день жаркой битвы,
Кружится… Уж давно пришел
Корабль и встречные молитвы
И радость у своих нашел;
А где ж обломок? Он, несчастный!
Всё бьется на волнах, пока,
Гоним тревогой повсечасной,
У брега… невод рыбака
Его нечаянно хватает,
И он в далекой стороне,
Иссохший, медленно сгорает
В чужбине, на чужом огне…
Так он!.. Но имя будь сокрыто!
Страдальцев тайной дорожу!
И всё, что мной от них открыто,—
Без их имен я расскажу.
7
Он… видите ль… он обвиненный…
За что и как?… Не знаю я…
Но за семнадцать лет семья
Иль только он (спасенный,
Отколь: с дороги ль? из тюрьмы?
Кто знает? О том не знаем мы!),
Она и он в сии пустыни
Пришли и погрузились там,
Где – видите ли? – бор тот синий…
Тот угол неизвестен нам!..
Однако ж, из глухой Карелы
Возя заводские урки[5]5
Урками называется повинность в натуре, которую отправляют крестьяне Петрозаводского уезда, приписанные к казенным заводам. Под названием урков (или уроков) возят уголь (который жгут в лесах) и руду, добываемую со дна озер.
[Закрыть],
Видали, что в волнах реки
Спокойно плавал лебедь белый.
Смекали, может быть, и то,
Что вряд ли та пуста дуброва:
Мелькнет в ней конь, порой корова…
И как им быть в бору пустом?—
Есть слух, что прежде в ближни селы[6]6
Ребольские погосты.
[Закрыть]
Ходили наши по ночам
И добрые сыны Карелы
Делились с ними… Но и там
Вдруг стало строго… Все боялись:
Никто не заходил уж к ним,
И наши в свой пустырь прижались,
И им досталось жить одним…
Одним! Но кто знавал, кто знает,
Что значит дружба двух сердец,
Меня тот верно понимает!..
Притом он скоро стал отец.
Но, бедная!.. Ее печали
(Быть может, память лучших дней!)
Томят, томят… И вот уж ей
Недолго жить! Уж погасали
И чувства и огонь очей…
Грустили ль вы в тиши ночей
С прелестной, гибнущей звездою,
Отпавшей от выси своей?…
Так, в цвете, с жизнью молодою,
Отпала, бедная, она!
И мы – под склоном старой ели—
Ее нашли б пустынный гроб,
Когда б не снежные метели
Взбурили белый там сугроб!..
8
А кто же он? – Один?… Их двое:
Младенец-дочь при нем растет!
В ней радостно, в нем сердце ноет:
Он ею, им она живет!..
Не зная лучшего, не знает
Она ни света, ни людей:
По берегам озер гуляет
И свежей младостью своей,
Как роза дебрей сих, блистает,
И помнит их судьба… И вот
Еще товарищ им!.. Он белый!..
На озерах глухой Карелы
Крылатый плавает народ:
То лебеди! Один – так было,
Когда летать пришла пора
И замерзали озера,—
Замедлил… Вдруг его схватило:
Он крыльями примерз ко льдам!..[7]7
«Он крыльями примерз ко льдам». Один из здешних чиновников сам таким образом поймал лебедя; обеспечась красным осенним днем, лебедь расположился плавать на одном из пустынных озер, которое при внезапно переменившейся температуре (что здесь случается очень часто) вдруг начало мерзнуть, и крылатый плаватель захвачен леденеющей поверхностью воды. В Повенецкую и Беломорскую Карелию налетает много лебедей; есть даже в Лекшморецком приходе одно озеро, названное Лебяжьим. В той стороне открыт ныне богатейший запас лиственницы.
[Закрыть]
Но он спасен! – И вот гуляет
С младою девой по лесам,
И лишь порой его смиряет
Из шерсти розовый шнурок.
Вот, стройный, с ожерельем красным,
Не любит быть он одинок—
И ходит спутником прекрасным!..
9
Как их проходит день? Как ночь?
Что делать в вечер длинно-томный?
Смотря на свод небес огромный,
Он часто говорил ей: «Дочь!
Взгляни на красоту созданья,
На этот круглый свод небес,—
У бога много есть чудес…»
И повторял он ей преданья—
Преданья памяти веков,—
Как древле вечная любовь
Явиться в тварях восхотела,
Как раздалось: «Да будет свет!»
И жизнь младая закипела,
И началось теченье лет.
Как из стихийных, бурных споров,
Пестрея тысячьми узоров,
Явилась круглая земля,
И улеглись над нею бури,
И, в раззолоченной лазури,
Постлались черные поля.
Он говорит, что нам известно,
Как дивный, в таинствах судьбы,
Ведет нас промысел небесный,
Что мы у бога не рабы,
Но слабые, больные дети;
Что некогда расставил сети
В стране блаженства праотцам
(По них враждующий и нам)
Коварный, умный искуситель,
И как страданьем искупитель
Опять нас с богом примирил.
Так, умиленный, говорил,—
Дочь слушала, а высь пустая
Переменялась: золотая
Черта за полною луной
В оттенках радуги сияла;
И часто, в тишине ночной,
На звездном серебре пылала
И расстилалась по горам
Заря от севера… Прекрасно
Передавались озерам
Огни и пурпур. Не напрасно
Он поучал, он говорил:
От ранних вечера светил
До утра длинной, длинной ночи
Ее не закрывались очи.
И, встретясь с розами зари,
Она еще отцу внимала
И с детской лаской лепетала:
«Что ж ты умолкнул? Говори!»
10
Пожар!.. Или кончина света!
Я вижу признаки рассвета
В час полночи. – Ужель сбылось,
Что солнце вспыхнет в час полночи?
Смотрите, зарево зажглось!
Не изменяют ли нам очи?
Несутся чрез зеленый лес
Потоки пурпурного пламя:
Не ангел ли в выси небес
Свое развертывает знамя?…
Еще полночь… И даль тиха…
Всё глухо в дебрях и пещерах,
И слышен голос петуха
На восемнадцати озерах…
Но прояснилась вышина,
Виденья тайна прояснилась;
Огнем и кровию полна,
Луна огромная явилась…
В Карелии, в глуши лесной,
Что занимает их? Порой
(Бывает чаще то весной)
Они пленяются игрою
Воздушных, радужных картин:
Встает, как башня, исполин,
Скользит огромными ногами
В хрустальном поле вешних льдов,
Главою ищет облаков
И странствует над озерами…
Зарей и синевом горит
Его прозрачная одежда…
Он мысли, как мечта, манит
И исчезает… как надежда…
«Кто ж это? – дева говорит.—
Отколь виденье возникает?»
«То воздух! То игра лучей.
Так часто у людей бывает,
Обман для сердца и очей»,—
Вздохнув, отец ей отвечает.
В Карелии богатство – виды!
Идешь – и пред тобой вдали
Египта виды: пирамиды,
Заливы, реки, корабли
И стены с длинными зубцами…
В Кареле – корбы[8]8
Корбы – это слово Глинка объясняет в примечании к стихотворению «Летний северный вечер» (1827–1829): «Корбами называют здесь (в Олонецкой губернии) самые дикие места в глухих лесах, где ели, сплетая вершины свои, составляют довольно твердый свод над влажно-каменным грунтом. В сих затишных уютах сохраняется и зимою такая степень теплоты, что чижи цельными стадами ищут себе убежища» (Ф. Н. Глинка. Избранные произведения. Л., 1957, с. 273).
[Закрыть], как шатры,
И синеглавые бугры
Под шелковидными чалмами;
В них заметает полосами
Зима пушистый свой атлас,
И соснам, на вершинах сельги,
Дает и радужный топаз,
И жемчуг для монист, и серьги,
С подвесом чистых хрусталей.
Всё блещет в чаще сих аллей.
Но всё мертво! Как пышность света,
Холодная и без души,
Карельский бор в своей глуши
Дивит, не радуя поэта!
ЧАСТЬ 2
1
Как ты мила, полукарелка,
Невинная, как простота!
Твое хозяйство: клест да белка!
Твоя младая красота
Цветет и родилась в пустыне,
Далеко от отцовских стран!
Твой сарафан, карельский синий,
Как хорошо твой облил стан!
И твой товарищ, лебедь белый,—
В воде, на суше спутник твой!
Ручной, и ласковый, и смелый
К тебе в колени головой
Доверчиво порой ложится,
И дремлет – полный тайных нег!
А клест – над головой кружится,
А белка – свой грызет орех,
Рисуясь на плече. – Как мило
Всё, что твое! Но на руке
Кольцо златое не светило,
И в непроколотом ушке
Алмаз не искрится в сережке,
И на летучей, стройной ножке
Лесная обувь; за спиной—
Стрела… Кому она грозила?…
Ты, верно, ею не губила
Жильцов своей глуши лесной;
Ты, добрая! Ты знала жалость!
Тебя расстраивала малость:
Была игрушкою стрела!
Как жаль, что ты в поре расцвета
Должна дичать вдали от света;
А ты, о дева, так мила!..
2
Быть здесь!.. Но если б быть спокойной!
В сии леса пришла весна:
Стеснился жар в пустыне знойной,
Ясна сухая вышина!
Пески и камни раскалялись
От переломленных лучей[9]9
С наступлением летних жаров здешние скалы сильно нагреваются, так сказать, натапливаются. От сего и розы растут на здешних скалах (как говорится: на припеке) во множестве. По долговременному наблюдению бывшего управляющего Олонецкими заводами г-на Бутенева, большая часть полей северо-восточной сей губернии лежит на каменистом грунте, и земля во множестве перемешана с гальками, и вот почему лучший посев ярового хлеба бывает поздний, ибо каменистая почва, будучи нагрета дневным зноем, сохраняет теплоту и по ночам, отчего растительность ускоряется; иначе зерно могло бы зазябнуть в земле, еще не довольно нагретой.
[Закрыть],
И был лишь вечер без ночей[10]10
«И был лишь вечер без ночей». С конца апреля и в мае наступают здесь, так сказать, ночи бесконечные. Солнце почти не заходит: одна заря, как говорит народ, сменяет другую. В воздухе бывает ни темнота, ни свет – нечто среднее. Звезд не видно, высокое небо цветом как полинялая голубая тафта; иногда является луна в виде плоского бледно-золотистого кружка. Этот полусвет, нерешительный, томный, как и в нравственном смысле всякая нерешительность, наводит уныние. Глаза, привыкшие к темноте, боятся сомкнуться. Что-то как будто потеряно, чего-то ожидаешь. Альфьери, известный трагик, в путешествии своем на Севере испугался сих странных ночей.
[Закрыть];
Почти не гасли, не смеркались
Без звезд, пустые небеса:
С тоскою взоры в них терялись,
И в самый заполночный час,
И утром, пред зарею алой,
Голубо-цветной, полинялой
Казались мантией для глаз!
Но что ж – в отливе изумруда,
В выси, – что деялось с луной?…
Как от священного сосуда
Давно отломленное дно,
Она круглилась неприметно
(На горизонте бледноцветном),
Как серебристое пятно!..
В пустыне душно!.. Всё сгорало,
Томились, вянули леса—
И в деве сердце замирало:
Она тосклива и желта[11]11
Приметная желтоватость есть общий оттенок лица здешних жителей.
[Закрыть],
Трудней в туманных думах ходит,
Чего-то ищет, не находит…
Везде покой и пустота,
А в ней тревожное волненье:
Грустна душа, неясен ум,
Неровен нрав: то вдруг смущенье,
То весела… то – буря дум!..
И ей казалось – там и счастье,
Где дальний город чуть мелькал:
Там есть кому принять участье!
А здесь?… ей будто кто шептал:
«Ты пленница сих душных скал!»
3
Отец увидел, дочь не скрыла
(Где ж научиться ей скрывать?),
И вот родному говорила:
«Я не могу не тосковать!
Мне к людям хочется… Родитель!
Меня ты, бедную, прости!
Ах! долго ль эту жизнь вести?
Сей гроб надолго ль нам обитель?…
Одна, от грусти чуть дыша,
Дремлю ли я, иль замираю,
Какой-то жаждой всё сгораю:
Туда всё просится душа.
И сердцу тесно стало в груди:
Ах! как там весело: там – люди!..»
Вздохнул он, но сказал: «Как быть!
Чего нельзя переменить,
То скрасим, жизнь моя, терпеньем…
Терпение нам лучший друг!
Оно целительным забвеньем
Былого так врачует дух!..
Когда господь, отцов карая,
Изрек им, бедным и нагим,
Свой приговор, и стражем рая
Явился грозный херувим,
И, слившись из огня, покровы
Завесили, как тайну, рай,—
Перед Адамом новый край,
Уединенный и суровый…
И горько, горько возрыдал
Наш грустный предок первородный
(И в тяжкой ссылке благородный!)
«Что даст мне цепь сих мертвых скал,
Эдема сладкими садами
Вскормленному? Что даст земля?
Сии пустынные поля,
Древа с их горькими плодами
Что мне, изгнаннику, дадут?
Всё здесь пророчит скорбь и труд.
Но в чем найду я услажденье?»
И много пролил, грустный, слез,
И ангелы, жильцы небес,
С ним плакали. Но умиленье
Коснулось господа, он рек:
«Прими от зол земных целенье,
Будь дружен с жизнью, человек!..»
Он рек – и дал ему… терпенье!—
Тебе прочту в понятном русском слоге,
Как он в тоске, как он в тревоге,
Терпя и скорбь и нищету,
Передает векам страданье…
Послушай, дочь, сие преданье!
(Читает начало «Пируют Иова сыны»
и «Семь знойных отпылало дней!..»[12]12
Читает начало «Пируют Иова сына» и «Семь знойных отпылало дней!..» далее должно следовать переложение библейской «Книги Иова», над которым Глинка работал в 1826–1834 гг.
[Закрыть])
Вот были, дочь моя, страданья!
Но час ударил воздаянья—
И кончились страданья те.
Ты отдалась пустой мечте:
Что к людям? – С ними, в суете,
Душе не можно устояться,
А можно ль небу отражаться
В восколебавшейся душе?
В пустынном нашем шалаше
Нам тихо… Мы одиноки!
Нет тут ни бурей, ни тревог!
На всё у бога час и сроки,
Придет и наш черед…
Увидим то, что было прежде
И что не отдано тебе.
Отдайся, дочь, святой надежде
И тайной господа судьбе!»
4
«… Я говорил: любви не стало,
Я говорил тебе не раз!
При мне уж счастье отцветало
Там, у людей… И он погас,
Огонь небес, огонь-живитель,
Который души их питал;
Их ум (расчетливый ловитель)
Своим волшебством обаял.
Рабы условного страданья,
Они не знают сладких слез
И неги сердца – состраданья…
Зато теперь от прежних роз
Одни лишь терны им остались.
При мне еще, когда я был
С людьми, они уж изумлялись:
Зачем вдруг жар к добру простыл?
Куда девалося веселье
Отцов, проживших в тишине?
Вступя как будто в новоселье
И посмеявшись старине,
Они забыли прежних нравов
Незлобие и простоту;
Вошли охотой в тесноту
Условных, приторных уставов
И полюбили суету.
И жадных прихотей причуды.
Не стало радостей былых,
Не стало жизни у живых:
Они – как праздные сосуды…
Везде, во всё ввели расчет
Сыны греха, сыны разврата;
Честей алкают, ищут злата,
И стал жесток сей хладный род,
Как сей металл, им столько чтимый!.
Без жизни – жизнию томимы;
Тоска живет у них в очах.
Что ж в их беседах? что в речах?
Всё суд над ближним! И, любимый,
Их умный, острый разговор—
Насмешка, едких слов набор,
Облитый желчию укор.
Гордясь конями и убранством,
Бывало, позванный на пир,
Как раззолоченный кумир,
Приходит гость с холодным чванством;
С притворной лаской меж собой
Пустой привет они меняют
И, будто званные на бой,
И зло и зорко примечают,
Куда и где разить? У них
В их празднествах, при мне бывалых,
Блистали радугами залы,
Кипело в чашах пировых;
Но было что-то всё уныло,
Был всяк студен и одинок
И втайне грустен, как могилой
Мертвец отпущенный на срок.
Верь мне: у них не стало сладких,
Простых, но свежих, пылких чувств:
Везде поддельный блеск искусств,
И все разгаданы загадки;
Их жизнь – прочитанный роман,
Который повторять уж скучно!
И слово: счастье – им не звучно,
Оно для всех – былой обман!»
Так говорил, и чтоб тревогу
Младой души ее развлечь,
Он внемлет с ней молитву богу
И о другом заводит речь:
«Ты родилась в пустыне, и…
Дитя, ты дорого мне стало!
Ты при рождении слезами облита,
Тоской взлелеяна и горем повита…
Зима ль, мороз, места сии,
Другое ль что виной… но, мало—
Помалу, стало упадать
Здоровье бедной!.. И, лелея
Тебя, твоя томилась мать,
Как миловидная лилея
На стебле раненом. Она
Лила и слезы, но украдкой…
Настала ранняя весна,
И в сих пустынях было сладко!
На черствых скалах сих холмов
Породы мхов зазеленели,
И красовались наши ели
Румяным глянцем их цветов[13]13
Весною здешние ели покрываются множеством ярких глянцевито-розовых шишек, на других же они зеленые. В последних созревает желтовидная пыль, которая, разносясь ветром, оплодотворяет первые; от сего зарождаются семена, снабженные тонкими крылышками. В свое время бури разносят сии запасы крылатых семян, и таким образом производятся посевы красных лесов. В продолжение холодных зим семена сии, добываемые из еловых шишек, составляют любимую пищу клеста и других мелких птиц, как, например, чижей, поселяющихся в затишных приютах карельских корб.
[Закрыть].
Мне мысль пришла: я осторожно
Больную взял и перенес
Сюда под ель: тут было можно
Дышать и веяньем небес
И освежительным куреньем
Янтарной, каплющей смолы.
Она смотрела с наслажденьем
На величавые скалы
С их чудной, дикой красотою…
Но вешний воздух, тишина,
Иль солнце кроткой теплотою
Ей дали сон. И вот она,
Всё глубже, глубже засыпая,
Светлела выраженьем дум—
Каких? Об них наш ум не зная,
Что может нам сказать наш ум?
Я видел: тихо исчезало
Страданье на ее челе,
И из нее и в ней сияло,
Казалось, небо, как в стекле:
Она чудесно обновлялась
И, жизнью свежею цветя,
Была чиста и улыбалась,
Как колыбельное дитя…
И вдруг заговорила: «…Поздно!
Не доживу я до зимы!
Но не грусти и верь… не розно—
Но вместе будем только мы!
Как явственно! – Всё, всё я знаю,
Всё вижу и читаю всё:
Отсрочено… пока мое
Дитя я грудью допитаю…»
Я кинулся к ее ногам:
Не знаю, что со мною сталось?
Мое всё сердце разрывалось
И, дав свободу я слезам,
Ее тронул… Она мгновенно
Проснулась и, слегка дрожа,
Была покойна и свежа;
Лишь взор, как будто изумленный,
С неясной думою блуждал,
Чего-то будто бы искал…
«Как сладко я спала!» – сказала,
Но ни о чем не вспоминала,
И я о слышанном молчал!
5
Была, дитя, ты в колыбели,
Я без сохи, сам землю рыл,—
Но вдруг я скучен… загрустил.
Оставил всё, к тебе спешил.
И что же? Над тобой, на ели,
Две страшных лесовых змеи![14]14
Здешние скалы служат убежищем змей. Особливо их главным местопребыванием почитаются Ивановские острова, в виду г. Петрозаводска, на озере Онеге. Там, как рассказывают, змеи встречаются во множестве. В ясные дни они лежат на скалах, растянутые как ленты, и лоснятся, греясь на солнце. По молве народной, там находится змей с двумя головами!
[Закрыть]
Глаза открыла ты свои,
Но, их не зная, не пугалась!
Одна из змей еще ползла,
И та уж в колыбель спускалась;
Но ты, мой друг! была светла
И, чем-то тешась, улыбалась!..
Что сталось с бедным тут со мной?
Я вдруг застыл, вдруг распалился.
Туман в глазах! Кругом ложился
Какой-то мрак передо мной!
Дрожа, мои колени гнулись…
Но я дрожал не за себя—
Бог видит! – Я жалел тебя!..
Уж обе близки… Вдруг проснулись
Во мне и вера и любовь,
И я, как коршун, на врагов!
Схватил… Одну топчу ногами,
Другую рву в моих руках;
Они… но силу дал мне страх
И с ней победу над врагами.
Я кончил свой неравный бой,
Нечистых кровь на мне дымилась,
А ты, младенец тихий мой,
Ты на руки ко мне просилась…
Я взял и кинулся с тобой
Пред ясным небом на колени!..
Давно легли ночные тени,
Но грудь моя была светла:
Мое всё сердце изливалось
В молитве. Что со мною сталось?
Не знаю, где душа была?…»
6
Он говорил, она внимала
И, малодушья устыдясь,
Уж с воплем кинуться желала
К ногам отца. – Но вот, стеснясь
Над высью горной, туча с тучей
Вдруг вспыхнула… Сперва
Сверкает молньей. Вдруг зыбучий
Клубится воздух… Грянул гром,
И с грохотом задребезжали
Камней обломки и скалы;
И вздулись в озерах валы
И белым стадом побежали
На дикий наволок лесной[15]15
Наволоком называется здесь мыс. Сие название показывает, что здешние мысы намыты, или навлечены водою.
[Закрыть],
И хлещет на скалу волной…
Буравит вихорь берег зыбкий,
Растут в Онеге острова:
Всё выше… выше их глава![16]16
«Растут в Онеге острова: все выше… выше их глава!» На озере Онеге приметно одно любопытное явление воздушной оптики. Ивановские острова, в обыкновенное время равные с горизонтом воды, начинают возвышаться и расти (так кажется глазам!) перед наступлением непогоды и северо-восточного ветра. По этому явлению без ошибки узнают скорую перемену в погоде.
[Закрыть]
И гнется красный лес негибкий,
И ель, свидетель трех веков[17]17
«И ель, свидетель трех веков». Здешний оберфорштмейстер Кирсанов при делании опытов по случаю открывшейся новой комиссии по заготовлению лиственных лесов под ведением флигель-адъютанта Лазарева нашел, по перечету слоев, что многие ели выстаивали по два с половиной века и могли бы простоять еще долее.
[Закрыть],
Пустынь пирамида, с бугров
Обрушилась с ужасным треском…
Стемнелось в небе и в лесах!..
И, ослепленный грозным блеском,
Боится леший…[18]18
«Боится леший…» Есть преданье, что лешие, духи лесные, чрезвычайно боятся грома!
[Закрыть] В парусах
Куда-то чью-то сойму мчало[19]19
«Куда-то чью-то сойму мчало». Один из здешних граждан М. рассказывал, что подобный вихорь опрокинул его сойму. Он плыл с братом. Выкинутые из судна, они схватились за борт и снасти и таким образом, под бурею, в 10-ти верстах от берега, носились между жизнью и смертью, пока стихло и жители прибрежных деревень, выехав на лодках в свой приход к обедне, услышали крик терпевших погибель и подали им помощь.
[Закрыть],
Под пеной шумною урчало…
То – кижане! Гроза сильна;
Они бледнеют, но ни слова:
Им кем-то сила придана!
Дика, сердита и сурова
Их молчаливость. Им беда!
Просос и щели меж пазами,
И в свищ журчит вода со дна!
Скорее кузов с муравами!..
Вот их на берег понесло,
Уперся каждый на весло
И режет пенистые груды;
Нет пользы: перед ними
Девятый вал – и челн вверх дном!
Все вплавь, за снасть, за борт схватятся,
И вот на берегу пустом
Один… Но всё сильнее гром…
И ярче молнии блистая,
Как будто сеются дождем!
Тут снег сенной, там вспыхнул дом,
Пылал местами бурелом,
И даль горела золотая…
Пустынники – отец и дочь—
Без слов стихий дивились битве,
Доколь сошли: покой – в молитве
И освежительная ночь.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































