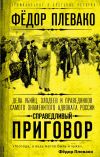Автор книги: Федор Плевако
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 10 страниц)
Совсем нет.
Отзывы одинаковы, я вам это сейчас докажу.
Кроме отзывов, читанных по нашему заявлению, читался один по выбору прокуратуры. Очевидно, что, преследуя цель, противоположную цели подсудимого, прокуратура взяла наиболее неблагоприятный отзыв. И что же? Отзыв Филимонова говорит то же самое. В нем только есть некоторые подробности, вызванные миросозерцанием автора. Так, автор лучшим качеством человека считает «привычку не беречь денег и держать их не запертыми» и хвалит за это Гаврилова.
Я не останавливаюсь на отзывах дворян и купцов, людей, равных с ним по богатству, равных по сословным преимуществам. Я обращу внимание ваше на крестьянские отзывы. Крестьяне, не его крестьяне, а окрестные, заявляют, что не было лучшего посредника, не было добрее человека, чем он: он тратил свое, чтобы улучшить их быт. Он познакомил их с благом, им дарованным «положением», настолько осязательно, что, по его почину, они день 19 февраля, день свободы, ежегодно празднуют общественной молитвой.
И против этого человека, который, насколько мог, содействовал развитию и благосостоянию низшего сословия, теперь собрались улики, обвиняющие его в преступлении – подделке государственных бумаг, сбыт которых всегда рассчитывается на эту же массу простонародья.
Уликой против Гаврилова, уликой, образовавшейся после, но изменившей взгляд на все дело, считают «подкуп свидетелей и соучастников». Перейдем к этому и мы. На первых порах нас поражает масса противоречий и неправды, сказанных Гудковым и товарищами. Чуть ли не все начальство тюрьмы обвиняется им: и доктора, и фельдшера. На его показаниях основан вывод обвинения, что даже тюремный священник занимался не пастырской деятельностью, а переговорами и подкупом.
Но нам известно, что ни начальство, ни служащие при больнице в самом деле суду не преданы, ибо высшая, обвинительная камера не нашла возможным довериться показаниям, с полной верой принимаемым прокурором. Обвинительная камера расходится и в другом с прокуратурой: иной, кроме пастырской деятельности, она не усмотрела в отношениях священника к подсудимым.
Что касается до Гудкова и Зебе как лиц, оговаривавших Гаврилова и бравших назад оговоры, то прежде всего надо заметить, что тюремная жизнь давно сделала из поступков, им приписываемых, источник денежных выгод. Там нередко создаются оговоры, чтобы за снятие их взять выкуп – и за правду, и за неправду. Когда сделан оговор и снят, и при снятии оговора играли роль деньги, то еще нельзя судить: оговор или снятие оговора ложны, и куплена правда или неправда. Вопрос разрешается иными обстоятельствами.
Подтверждают подкуп, указывая на то, что Гудков и Зебе жили роскошно в тюрьме, что жизнь их была так хороша, что и на воле лучше не бывает. Но нам известно, что, кроме Гудкова и Зебе, Виттан и Щипчинский были участниками дела: их слово могло быть не менее важно для Гаврилова, как слово Гудкова и Зебе, значит, и им бы следовало жить так же хорошо. Но ни они, никто другой не указывают на роскошь в жизни этих подсудимых. Между тем Гудков и Зебе все-таки раз оговорили Гаврилова, снятие оговора достоверными их еще не делало; тогда как Щипчинский и Виттан, и особенно первый, не меняя своих показаний, должны были показаться Гаврилову более надежными помощниками.
Но есть свидетели того, что Гудков жил хорошо. Где же средства? Средства эти ему давала должность арестантского старосты, должность прибыльная, если досталась ловкому человеку…
Гудков, настаивая на подкупе, говорит, что за снятие оговора назначено было 10 000 руб. Деньги не были отданы, а ограничились одним обещанием. «Я верил его слову, – говорит Гудков, – я жил у Гаврилова прежде и знал его хорошо». Если Гудков, живя у Гаврилова, вынес впечатление, что последний настолько честный человек, что ему можно поверить на слово 10 000 руб., и если он ему после на слово поверил, то значит, что мнение Гудкова о Гаврилове осталось одинаковым, неизменным.
Но Гудков же говорит, что однако в бане, когда ему палач принес водки от имени Гаврилова, он не стал ее пить, потому что слышал кое-что о Спесивцеве и других. Если это правда, то значит Гудков уже не считал Гаврилова человеком хорошим и, следовательно, вряд ли на слово ему поверил бы 10 000 руб.; если же поверил на слово, то не значит ли это, что свидание в бане изобретено Гудковым и что вообще Гудков способен на изобретательность.
Более правдивый Зебе поддерживает оговор Гудкова, однако нигде не указывает на то, чтобы Гаврилов вел переговоры лично с ним: все делалось через Гудкова, значит, достоинство его показаний держится и падает вместе с достоинством показаний Гудкова, от которого он все слышал. Обвинение ссылается на записку, которой Гаврилов просил у сестры присылки 515 руб., как на несомненное вещественное доказательство подкупа. На что, мол, Гаврилову в остроге деньги?
Мы хорошо знаем происхождение этой записки. Когда она была писана Гавриловым сестре, она его спросила: не 15 ли рублей он просит? Она изумилась сумме 500 руб. Значит, Гаврилову в острог деньги не посылались, если требование 500 руб. изумило его сестру. А на 500 руб. подкупа нельзя было сделать, ведь, по показанию Гудкова и прочих, один он по 200–300 руб. проживал в месяц, да сверх того, жили роскошно друзья и подруги Гудкова.
Обвинение утверждает, что всех сериистов содержал Гаврилов через свою сестру Тимченкову; подтверждает это книжкой Тимченковой, где нашли расход в 20 руб. с пометкой «Сантор», «Санжер.»; утверждают, что это значит «Санторжецкому 20 руб.», а Санторжецкий – арестант, повар, который кормил подсудимых по делу серии. Но на самом деле никакого Санторжецкого в остроге не было, а был Свенторжецкий; в то же время на свете жил некто Санжеревский, хозяин бахмутской квартиры Гаврилова, которому, как он здесь показал, Тимченкова раз платила от 25 до 30 руб. за брата, когда он уже содержался в остроге. Платеж этот ему памятен, потому что она всего раз ему и заплатила. Тимченкова говорит, что этот платеж и был занесен в ее книжку.
Ей не верят. Но я думаю, что «Свенторжецкий» нельзя писать через «Санторжецкий» и что Тимченкова совершенно верно объявила, что эксперты совершенно неверно читали ее руку. Выводы прокурора уже и потому неверны, что на 20 руб. Свенторжецкий бы не прокормил целую семью преступников, а между тем в той же книжке нет других выдач на имя этого арестанта.
У Тимченковой в книжке нашли расход в 300 руб. и около него слово «Трущобы». Она объяснила, что купила роман Крестовского «Трущобы» и заплатила 6 руб., а рядом поставила 300 руб., истраченные на какой-то наряд. Обвинение не верит и, руководясь уроками Гудкова и Зебе, свободно истолковывающих телеграммы и письма, без их помощи на этот раз решает, что «Трущобы 300 руб.» – это значит: «израсходовано на острог 300 руб.».
Опровергать можно выводы; но я не знаю, как и чем опровергать изобретения…
Найдены черновые бумаги, копии тех, которые поданы Коротковым, Гудковым и Зебе в уголовную палату. Нашли заметки и поправки, и опять заподозрили участие Гаврилова. Как еще не задавались вопросом: чьей рукой проведены на этих бумагах черточки и знаки препинания? Экспертиза, вероятно, и тут нашла бы сходство и изменение. Обращаю внимание ваше на то, что поправки относятся большею частью к тем местам бумаг, где указывают обстоятельства, не имеющие влияния на судьбу Гаврилова; обращаю ваше внимание на то, что нахождение этих бумаг у Гаврилова вовсе не странно. В остроге не всегда строги. Арестанты всё знают друг про друга; и если один из арестантов подает бумагу, затрагивающую интересы другого, поверьте, этот другой узнает и, если бумага эта важна для него, открывает ему надежду на лучшее, он сумеет достать и ознакомиться с ней.
Прокурор обещал построить все обвинение не на оговорах – он сам разделяет мнение, что оговорщик – свидетель недостоверный, – а на вещественных доказательствах. Но какие же это доказательства? Прошение Короткова, бумага Гудкова, непонятные телеграммы и несуществующая острожная и доострожная переписка. Они ничего не объясняют. Сделались они материалом обвинения только тогда, когда тот же Гудков и компания дали им толкование и воспроизвели текст, как им было угодно.
Итак, что бы обвинитель ни говорил, а масса доказательств, им предложенных вам, и вся сильнейшая аргументация его – все это тяготеет к оговору, все держится смелостью Гудкова, а по нем уже Зебе и прочими.
Но правосудие не должно быть безразлично к материалу, которым оно пользуется. Вы услышите от председателя, что закон обращает внимание на качество свидетелей и обязывает напомнить вам об этом. Закон дает возможность отводить от присяги людей, близких к потерпевшим от преступления, считая их недостоверными свидетелями. Еще менее достоверен тот, кто называет себя потерпевшим. Слово его, чтобы дать движение уголовному делу, о котором он свидетельствует, должно быть подтверждено другими. Еще более оснований не доверять подсудимым по тому же делу, когда они обвиняют друг друга. Соблазна много снять вину с себя, перенося ее на чужую голову или разделяя ее с другими. В настоящем деле подсудимые обвинены, им назначены каторжные работы. Как ни дурны арестантские роты, но все же они – лучше каторги, и, желая отдалить от себя грозное наказание, не были ли Коротков и другие податливы на искушение ложными оговорами в подкупе замедлить свою отправку в места назначения…
Таковы оговорщики. Прокуратура поэтому сама чувствовала нетвердость основанного на их оговоре обвинения и искала опоры во внешних для дела данных. Предугадывая, что защите придется пользоваться вместо фактов посторонними обстоятельствами, что она будет ссылаться на жизнь подсудимых до обвинения, на их общественное положение, она, однако, сама прегрешила еще более нашего. Смелое, уверенное в своих силах обвинение – на материале, разъясняющем данный случай, – составило бы свои выводы; мелочи и сторонние вопросы только тормозили бы ему путь, и оно отвергнуло бы их. Но не так бывает, не так случилось и здесь. Вас призвали, и вам сказано, что вы призваны судить Гаврилова и Беклемишева за подделку серий; но вместо этого здесь шло также следствие о смерти Спесивцева и Карпова. Опираясь на то, что повешенный Спесивцев найден со слабой петлей, что он повесился после того, как заявил желание сознаться; опираясь на то, что и Карпов оказался отравленным, когда собирался сознаться, хотя о сознании того и другого нет указаний, – намекают, что известная рука поработала над этими несчастными.
Но, господа присяжные, смерть того и другого были явны, и правосудие, однако, не заподозрило ни Гаврилова, ни Беклемишева. К чему же это делать? Если к тому, чтобы вы, подозревая насильственную смерть несчастных, тем с большим негодованием отнеслись к подсудимым, то это уже будет – не суд: обвинительный приговор будет не результатом исследования, а результатом искусственно возбужденного инстинкта мести против подсудимого. А приписывая смерть Спесивцева и Карпова чужой руке без всякого повода и основания, не наносим ли мы оскорбления и без того несчастным. Преступно против нравственного закона самоубийство, но к нему прибегали нередко те лица, которые, хотя и впали в преступление, совершили какое-либо страшное зло, но совесть у которых еще не потеряна и мучает, и терзает их. Потеряв свою честь, стыдясь показаться перед глазами света, тяготясь злом, ими совершенным, люди решаются покончить с собой. Их смерть – грех и несчастье, но она же знак того, что они не равнодушны были к доброму и честному имени и, прегрешив против закона, много и тяжело страдали. Данных, которые дали бы нам право сказать, что Спесивцев и Карпов убиты чужою рукой, нет, и мы не смеем тревожить их могильного покоя, отнимая от них последнее доказательство их неполного нравственного падения.
Не знаю, убедило ли вас соображение прокурора о смерти Спесивцева и Карпова, но оно понравилось Короткову. Он заявил, что и его хотели отравить. Свидетель достоверный, отчего же и не поверить? Только свидетель этот, будучи осужден за подделку, внушает недоверие: он утверждает, что он невинно осужден и ничего не знает, но что тем не менее его подкупали и хотели отравить. Ничего-то не знающий человек чем мог быть опасен?..
Я забыл, исследуя возможность для Гаврилова того преступления, которое ему приписывают, обратить ваше внимание на побудительные причины к нему.
Специальная цель подделки – обогащение. Толчком может служить нужда, которая приводится Солнцевым как причина, вовлекшая его в дело, которая видна и по отношению к Карпову и Щипчинскому.
Гаврилов и здесь был не в тех обстоятельствах: он был богат, у него, вы слышали, было более 10 тысяч десятин земли, незаложенной, свободной. На богатство его указывает и звание предводителя дворянства. Конечно, предводителем избирают иногда тороватых, которых не отличишь от богатых; но зато такие лица попадают нередко из предводителей в долговую. Гаврилов, неся обязанность, на него возложенную сословием, не разорился, не задолжал. Он потерял имение свое уже после, по иным несчастным обстоятельствам.
Мне заметят, что имение его было в споре. Но спор этот был только фиктивный. Завещание, по которому мать его думала завладеть имением, было написано с нарушением форм и, очевидно, было недействительно. Какое же побуждение было к подделке? Надо, чтобы между добром, которого ждут от преступления, и злом, в каком находятся до него, была бы ощутительная разница. Для бедных и запутанных в делах людей это побуждение очевидно, но надо было слишком много благ, слишком мало риску, чтобы с 30-тысячного годового дохода решиться на подделку бумаг.
Сотни лиц, против которых собирается гроза улик, появляются здесь, и многие из них, разрешенные приговором, уходят свободными. Закон преклоняется перед этим актом правосудия, потому что опыт времени научил его, что иногда и против неповинного лица слагается масса обвиняющих его обстоятельств.
Вам предстоит разрешение недоумения по настоящему делу. Много данных, много сил у обвинения – я не спорю; но нет недостатка на иные выводы и у подсудимого. Сообразите же все это, припомните, что те же улики и оговоры были уже в виду судов. Суды обвинили Гаврилова. Когда же дело дошло до верховного учреждения, до Государственного Совета, который по прежнему порядку мог являться и законодательным, и судебным учреждением, то у членов его как у судей явилось сомнение в силе улик, и они не взяли на свою судейскую совесть обвинения против моего клиента. А после этого разве открыто что-нибудь новое? Данные остались те же.
А подкуп? Но подкупом называется – если даже допустить, что сотоварищи по несчастью пользовались помощью Гаврилова, – подкупом называется дача средств под условием говорить неправду: «На тебе деньги, ступай, говори неправду». Кто же, кроме Гудкова, этого достовернейшего свидетеля обвинения, слышал, знал, беседовал и условливался с Гавриловым о подкупе? Не вернее ли, что на вопросы ревностной комиссии, которая принялась за дело горячо, арестанты показывали одно, а когда переведены были в тюрьму, отделались от ее влияния, то показывали то, что находили сообразным с делом. И так они продолжали до того времени, пока состоялся приговор; тогда же, чтобы избежать, отдалить наказание, они вернулись к старым оговорам.
Этому предположению дает подкрепление и тот факт, названный обвинением уликой, – факт, что из арестантских рот Гудков посылал к Гаврилову, прося у него 5 руб. Простая просьба, даже искренняя, прямо указывает, что, кроме просьбы, иного основания требовать с Гаврилова денег у Гудкова не было. А если верить Гудкову, то в это время наступал платеж 10 000 руб.; если бы это было так, то у Гудкова это выразилось бы в письме и ином, более решительном тоне.
Вот что дает нам настоящее дело. Многим располагает обвинение, но и подсудимому есть на что указать. Так много сомнительного, так недостоверны лица, которым верит прокуратура, что обвинение становится вопросом. И, может быть, настоящие концы этого дела покоятся в той бумаге, которую в 1862 году Виттан подал властям. Может быть, это его усилиями, правда, не вполне удавшимися, правосудие сведено на ложный путь. Может быть, не лишено достоверности слово подсудимого, что он невинен.
Я не могу сказать ничего более: я – человек, сужу по-человечески, по внешним фактам, а душу его я не знаю.
Но и от меня, и от вас ничего более не потребуется, и вы должны постановить приговор по тем данным, которые вы изучили. Ваше убеждение должно создаться не беспричинно, а на основании того, что предложено вам обвинением и защитой. Если данные шатки, если показания не внушают доверия, следует вынести оправдание подсудимому. Это не моя просьба, это голос закона.
Председатель, отпуская вас в вашу совещательную комнату, ознакомит вас с требованием закона. Для меня важно только указать вам руководящие начала его.
Закон наш не жесток к подсудимому: он не забывает прав его и не лишает его средств оправдания. Закон не желает обвинения подсудимого во что бы то ни стало: им оставлена теория, требующая для страха подданных сильных и частых обвинений, – он хочет осуждения только тех, чья вина несомненна, всякие же сомнения он требует принять в пользу подсудимого. Закону важнее, чтобы суд был строг к доказательствам и не жесток к подсудимым. Закону одинаково дороги интересы как обвинения, так и оправдания. Никогда не принесет он основательности судебных решений в жертву минутному интересу обвинения того или другого лица.
Строгости в суждении – вот чего я прошу у вас, другой просьбы вы не услышите от меня. Я не подумаю настаивать на том, что годы страданий искупили вину: это будет уже просьба о пощаде, а пощады просят провинившиеся. Это будет уже просьба о милости; но защита, оставаясь верна долгу гражданина, не может вас просить о том, на что вы не имеете права. Вам не дано миловать, да нет и надобности настаивать на этом. Право миловать принадлежит иной, выше вас стоящей власти, перед которой еще не оставалась тщетной ни одна из просьб, отыскивающих милосердия.
Но тот же закон, который не дал вам права помилования, требует, чтобы осуждение произносилось только тогда, когда доказана основательность обвинения.
Теперь я окончу слово мое, и подсудимый останется один перед вами, томительно переживая минуты неведения, ожидая вашего слова.
Не будьте строги без пользы, не будьте жестоки!
Если то, что вы видели здесь, убедило вас, крепко убедило в его виновности, скажите: «Виновен».
Но если от вас требуют грозного приговора, не представив данных, которым бы вы могли ввериться без всякого сомнения, вы скажете, вы должны вынести – оправдание.
Судите же!
Молю Небо, чтобы приговор ваш, удовлетворяя высшим требованиям закона, в то же время был полон наитием того любвеобильного правосудия, сущность которого состоит в том, что, веруя в лучшие стороны нашей природы, суд до последней крайности, до последней возможности сомневается в человеческом падении.
Только этот взгляд истинен, только он верен, только в нем отражается, возможно, полно та небесная правда, которой жаждет человеческое сердце!
Речь Плевако как гражданского истца по делу братьев Александра и Ивана Поповых,
обвиняемых в мошенничестве
Товарищество «К. и С. Поповы», как вам известно, по почтенному прошлому и по личным достоинствам своего теперешнего состава принадлежит к тем промышленным фирмам, которые делают честь торговому сословию своей страны.
Долговременный почет развивает в лицах, им пользующихся, – особенно, если этот почет заслужен, – тонкое понимание того интеллектуального блага, которое в добром имени и почете заключается. Для таких натур – независимо от более осязаемых и всем понятных побуждений искать защиты своего нарушенного подрывом их торгового дела права, – для таких натур, говорю я, тяжело переносить упреки в нерадении и неохранении славы и чести, ими унаследованной.
И вот, когда на поверку оказывается, что упреки идут не без основания, опираются на факты, а между тем эти факты – плод грубого и злонамеренного подкопа со стороны неразборчивого торгашества, простительно и понятно стремление положить предел злу, понятно ополчение против недругов.
Но хотя мы теперь в положении боевом, хотя против нас готовятся удары сильные и, по всей вероятности, меткие, я хочу отступиться от прививаемой боевой тактикой привычки тянуть во что бы то ни стало в свою сторону, рассчитывая на подобный же прием и со стороны соперников и на то, что вы, судьи, восстановите истину, отсекая крайности наших мнений.
Более вдумчивое отношение к задачам сторон на суде убедило меня, что применять механический закон диагонали сил к живому делу правды не следует: две крайности не намечают верного пути, а дают двумя вероятностями больше, что исследователь попадает на путь недолжный.
Я хочу верить, что живое чувство справедливости может угадать и в одном робком голосе более правды, чем в десятках громких и ловких голосов, извращающих ее…
В настоящем деле, как и в большинстве дел, требующих вашего решения, собраны факты, значение которых не общепризнанно. Предстоит по отношению к ним выйти из состояния неизвестности и установить определенное мнение.
Но задача этим не кончается.
За внешними фактами – чаем, травой, ящиками, за их движением по направлению от складов, как и за мускульными движениями ног человеческих, – лежит вопрос о том, куда и зачем это движение предпринимается. Траву могли везти в склад по ошибке, и ошибка могла заключаться только в том, что ее мало привезли; от склада могли отвезти траву как нежелательную и могли отводить отвозом глаза менее подозрительной власти.
Этикетки, которыми А. и И. Поповы украшали свой чай, могли быть только подражанием малограмотного грамотному, могли быть случайным совпадением существенных букв – инициалов одного предприятия, с не менее существенными инициалами имени другой фирмы…
Словом сказать, судебной власти удалось найти в помещении А. и И. Поповых, предназначенном для чайного дела, присутствие подмеси копорки. Сведущие люди установили, что этот сорт травы не имеет на рынке никакого употребления, ни к чему не пригоден и получает свое значение лишь в подпольных сферах промышленности. Кажется, достаточно твердо установлено и то, что Ботин и Хохлов ставили этот продукт именно этому торговому дому.
Я могу смело принять эти факты как непоколебимые. Будь сомнение в этих фактах, обвинителю и нам пришлось бы согласиться, что дело шатко. Фактическую почву надо устанавливать осторожно: фактические вопросы это та область, где нет места догадкам, где каждый обвинительный штрих, как цена крови, должен быть куплен дорогой ценой.
Но раз факт установлен, то значение факта в общей экономии жизни данного лица мы можем устанавливать смелее: ведь закон, правосудие и суд имеют смысл и право на свое существование только потому, что в нашей жизни так много схожего, что по образу и подобию своей обычной, чаще всего случающейся нормы мы можем без страха судить о других. Придумайте, поищите в вашей памяти схожие случаи: зачем честному торговцу в своем помещении иметь, зачем приобретать внушительную массу материала, из которого фабрикуется подделка того самого товара, которым он торгует?
Опыты? Но вы видели здесь, что для опытов достаточно щепотки травы. Мысль тем лучше сосредоточивается над вопросом, чем менее ненужного хлама окружает его оболочку…
Но всякий спор о причине нахождения копорской травы в складе А. и И. Поповых уничтожается благодаря красноречивому комментарию, даваемому местом нахождения.
Стоит перейти из складов чая и копорки, и длинные переходы прямо вводят вас в особые отделения, где в миниатюре вся Европа имела своих неаккредитованных представителей: вот английское мятное масло, вот лаки, вот приютился оподельдок, вот и касторовое масло. Тут неведомо для себя работают иностранцы, работает даже прибывший с того света Алякритский.
Очевидно, мы присутствуем в лаборатории современного Фауста, заключившего союз с Мефистофелем…
Во всяком деловом отношении, в особенности промышленном столкновении, частные удобства и неудобства, слабые и сильные стороны правил и установлений, ограждающих отношения, сказываются во времени. Если мы хотим знать, в данном случае, что значит в торговле фирма и какое зло наносится воспроизведением и подражанием этикетке существующей давно фирмы, мы должны обратиться к опыту стран, где крупные торговые обороты ведутся веками, где и охрана интересов, и подкоп под них богаты многолетним опытом. Позвольте мне познакомить вас в этом отношении с богатой, глубокомысленной практикой французских судов. При заманчивости, какие имеют произведения известных фирм Франции для всемирного рынка, легкомыслие и злоумышление давно старались вводить в заблуждение публику и сбывать вместо настоящих фабрикованные продукты.
И вот как строго и справедливо отнеслись к подобным проделкам французские суды. Они признали, что сбыт товара своего, не снискавшего к себе доверия на рынке, под чужим этикетом, есть деяние, равное мошенничеству и воровству.
Таким ложным знаменем они признали не только случаи полного воспроизведения чужого имени или знака, но и всякое внешнее действие, где имеется в виду недобросовестно ввести покупателя в обман, а себе приобрести незаконную выгоду. По мнению их, даже пользование своим именем, если при этом видно намерение не напоминать о себе, а рассчитывать на сходство своего имени с именем, приобретшим заслуженную репутацию, есть деяние наказуемое и наносящее ущерб чужому законному праву.
Свой взгляд на вышеизложенное оратор иллюстрирует далее примерами из жизни известнейших французских фирм.
Некто Bardou приобрел себе большую известность папиросной бумагой с клеймом J < > В. Подметив сходство знака о с буквой О, публика стала называть бумагу JOB.
Другой торговец пустил в продажу свою бумагу также под маркой JOB и защищался против предъявленного к нему иска тем соображением, что название JOB получилось лишь благодаря заблуждению публики, марка же Bardou не JOB, a J< >В.
Но суд признал его подделывателем.
Тогда обвиняемый подыскивает себе компаньона по имени JOB и продолжает торговать под этой маркой, но новый вердикт приговаривает его к штрафу в 5 000 франков одновременно и на будущее время по 100 франков за каждую открытую подделку.
Осуждая виновных, ввиду их недобросовестного образа действий и старания ввести суд в обман, суд заканчивает свой приговор словами: «Правосудие, охраняя честную и законную торговлю, не может не порицать тех средств, к каким прибегают некоторые торговцы с целью привлечь к себе покупателей».
Та же доктрина будет уместна и в тех случаях, где торговец рядом со своей фамилией ставит фамилию жены, тождественную с названием какой-либо громкой фирмы, если только суд из существа дела не убедится, что смешение двух фирм было возможно. Самым простым примером может служить та обыкновенная мошенническая уловка, когда одну фамилию или слово пишут крошечными буквами, а другое рядом – крупными, чтобы оно бросалось в глаза. Так что весь вопрос будет заключаться не в праве, а в намерении, которое, бесспорно, подлежит неограниченному усмотрению судьи.
Другой пример.
В процессе Chartreus подделыватель настоящего ликера «Elexir de la Chartreuse» оправдывался тем, что он с помощью магнетизма проник в свойства монастырского ликера и фабрикует ликер совершенно с тем одинаковый, и называть его иначе он не может, ибо это значило бы неправильно обозначить истинные его свойства; что открыл он торговлю в Chartreus; что он не называет свой продукт «Liqueurs de la Chartreuse ou de la grande Chartreuse», a – «Liqueurs, fabriquees a la Pierre de Chartreuse», где и основана фирма; что его этикет отличается двумя медалями и, наконец, что фамилия его там вся прописана.
Но уголовный трибунал нашел: 1) относительно права – закон должен быть толкуем в следующем смысле: преступление налицо во всех тех случаях, когда прибавка, убавление или какая бы то ни была порча могут иметь своим последствием смешение новых продуктов с прежде бывшими и составляющими частную собственность; 2) относительно факта, что, без сомнения, право на имя R. Р. Chartreus не принадлежит безразлично каждому собственнику; что название, присвоенное ими ликеру и внесенное в реестр, составляет нечто отдельное от самого ликера; что, стало быть, никто ни прямо, ни косвенно права их в этом отношении нарушить не может; что никто не может ни делать, ни публиковать, ни писать что-либо, могущее вызвать смешение; что таково всегдашнее применение закона и что в данном случае и коммерческий суд, и Гренобльская палата, и исправительный суд в Лионе совершенно правильно поступили, признав, что совершенное тождество не необходимо: достаточно, если клеймо, печать, этикет или виньетка могут ввести публику в заблуждение, убыточное для собственника предмета…
Еще случай, хотя и грубой подделки: некто с целью воспользоваться фирмой Petit, пишет на вывеске au gagne petit («с малым барышом»), – но это «au gagne» можно открыть лишь при усиленно внимательном всматривании…
В этом отношении закон предоставляет судье полнейшую свободу оценки. Судья должен иметь в виду «намерение, с которым совершалось действие», – а это намерение раскрывается из той цели, которую преследовал виновник, из результатов, к которым он стремился, и, наконец, из тех предосторожностей, которыми он обставлял свое дело и которые, как заметил один суд, нередко выдают обман старательностью скрыть его.
Не нужно, чтобы подделка была грубая или полная. Довольно, если можно смешать поддельное с настоящим и если это смешение старались создать.
Известна громкая репутация одеколона Jean Marie Farina. Один фабрикант принял фамилию Antoine Farina и считал себя в безопасности за разницей имени, но по жалобе Jean Marie был приговорен к тюрьме.
Еще резкий пример: Торговый Дом Veuve Cliquot et Pousardin de Rheims снискал большую известность своим шампанским. Некто Fisse подыскивает себе в Париже компаньона по имени Cliquot в лице агента страхового общества, вступает с ним в мнимое товарищество под фирмой Cliquot et С°. Управление делами фирмы вручается приказчику Frantz в качестве простого вкладчика с правом сбывать застоявшиеся в их винных погребах вина (Fisse – тоже виноторговец) под громкой маркой… Cliquot продолжает служить агентом страхового общества.
Cliquot et Pousardin предъявляет к Fisse, Cliquot et Frantz иск о воспрещении последним продавать вино под маркой Cliquot. Реймский коммерческий суд не решается опорочить товарищеский договор и отказывает в иске. Но Парижский апелляционный суд уничтожает контракт ввиду того, что: 1) из представленных к делу документов и в особенности из того обстоятельства, что Louis Cliquot не живет в Реймсе, где находится фирма, что он не коммерсант, что во время заключения компанейского договора он не мог внести капитал в коммерческое предприятие, и, наконец, из его положения в деле явствует, что A. Cliquot был приглашен в товарищество только ради своего имени и в надежде, что при помощи этого последнего новая фирма воспользуется кредитом, открытым дому Veuve Cliquot et Pousardin; точно так же очевидно, что лишь ради этого имя Cliquot фигурирует на пробках бутылок и помещено в названии новой фирмы; 2) такая мнимая спекуляция с вышеуказанной целью наносит ущерб интересам дома Cliquot et Pousardin и потому должна быть прекращена, и хотя Cliquot не лишен права пользоваться своим именем с торговыми целями, но он не может ссужать им других лиц и доставлять им с помощью обыкновенной уступки своего права коммерческий кредит, которым пользуется ныне фирма вдовы Cliquot.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.