Текст книги "Против неба на земле"
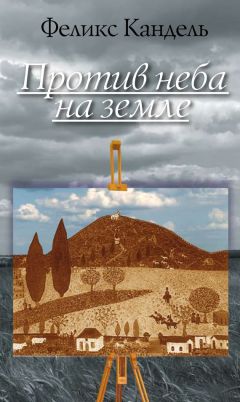
Автор книги: Феликс Кандель
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
– Что же теперь делать?.. – в волнении замирал Шимеле.
– Можно надеть крохотную шапчонку самого малого гусиного размера, но это обидно и нестерпимо. Есть, конечно, и другой вариант.
Гершеле замолкал и молчал долго.
– Говори, – просил Шимеле. – А то засну.
– Чтобы наполнить живот, надо побольше есть. Чтобы наполнить голову, надо почаще думать.
– Я думаю, – сообщал Шимеле. – Сейчас, например, я думаю о том, что делать гусю. И голова моя растет.
– Твоя голова растет – это так. А гусь не знал, о чем подумать, потому что кормили его досыта и думать было незачем. Но это был гусь с еврейского двора, склонный к размышлениям, а потому он стал ходить взад-вперед, крылья заложив за спину: «Задумаюсь-ка я вот о чем: отчего у гуся нет копыт? И рогов тоже нет…» Не думается никак во дворе – гусыни отвлекают, гусыни-глупыни, которые без конца гогочут: «Что на ужин, что на ужин?..» Залез в сарай, темно, никого нет: не думается в сарае о бескопытных и о копытных тоже не думается – спать хочется. Пошел за ворота в густые травяные заросли: думается с трудом и не о том, потому что страшно. А головы совсем уж не видно: гуляет по двору туловище на бескопытных ногах, никто не знает, что делается у гуся под фуражкой, и даже презренные лягушки оквакивают его из-под бочки с водой: «Квак смешно, квак смешно…»
– Дальше что? – спрашивал Шимеле.
– Дальше что? – спрашивал гусь со двора, заглядывая в мастерскую.
– Еще не знаю, – сокрушался Гершеле, в котором иссякал ручеек вымысла.
– Хочешь обидеть? – шипел гусь и тянул шею, чтобы ущипнуть.
– Да ты что!
– Тогда придумай. Найди выход из положения, которое прискорбно и непочтительно.
– Почему я?
– Ты рассказываешь – тебе и находить.
И вытаптывал с угрозой «бройгез-танц» – лапчатый танец обиды.
– Гершеле, – кричала через плетень свадебная кухарка. – Гусака не уступишь? Откормить – и на стол!
– На стол – это зачем?..
– Печенка от него хороша. Жаркое. Шмальц со шкварками…
Шимеле с ужасом глядел на отца. Гершеле с ужасом глядел на кухарку. Гусь прятал голову под крыло – каково это услышать? – и поджимал ногу, словно морозом ожгло пятку на снегу.
– Нет, – говорил Гершеле. – Гусака не уступим.
А тот вытаптывал на радостях «шолем-танц» – танец примирения…
Путь от зачатия известен всякому. Когда минуют назначенные сроки, роженица испускает девяносто девять вздохов, девяносто девять криков, и лишь сотый из них – крик новой жизни. Жила в местечке Хая-повитуха, которая заплетала ногу за ногу, всё роняла, про всё забывала, путала дорогу к роженице, отчего вечно запаздывала и приходила после родов, а то и назавтра. Это оберегало ее от многих неприятностей и это ее кормило: появись растеряха вовремя, кто знает, что бы случилось с младенцем, но женщины, пообвыкнув, не ждали, пока она придет, завяжет пупок, и с молчаливого согласия исправно платили за вызов. Да и то уж…
…проще всего обвинять Хаю-повитуху, но не мешало бы выслушать и другую сторону. У Хаи был муж, Пици Узенький, Пици-трубочист – тощий, на еду вместительный, который ходил в город на промысел, ибо пролезал в любой дымоход на крыше, если, конечно, не было в нем заслонки. Побывав однажды на свадьбе и исправно поработав за столом, Пици округлил животик и под утро застрял надолго в трубе. Печь не топили. Борщ не варили. Трубочиста выталкивали всем народом, заодно с полицией и пожарной частью, но тело шло туго, голова торчала наружу, озирая окрестности, живот опадал от голода, Пици бормотал горестно в ожидании вызволения: «Кому покой, а кому скитание… Кому унижение, а кому возвышение…» Накостыляли по шее, надавали тумаков на дорогу, не велели появляться в их краях, и домой он вернулся отощавшим, без единой копейки, услыхав с порога плач очередного младенца, который разевал рот для принятия пищи…
Дети умножают радость и порождают заботы. Хая-повитуха рожала не реже других в местечке и тоже обходилась без посторонней помощи:
– Чтобы было кого кормить.
И всех это устраивало…
Известно не понаслышке: рабби Ханина и рабби Ошайя в канун субботы изучали книгу Брешит; посредством ее сотворили трехлетнего теленка, им же затем и поужинали. В последующие времена этого уже не умели; с неба не опускалось пропитание, достающееся без забот, возрастали повинности к оснащению войска против безбожного корсиканца, и когда Бася отвздыхала положенные вздохи, Гершеле призадумался: где бы ему подработать, дабы отринуть беспокойство о прокормлении? Ремесло Гершеле не кормило, ремесло никого не кормило: бочки усыхали, обручи опадали, донца выпукивались сами собой, – кому нужны бочонки с кадушками, ежели нечем их наполнить?..
– Бася, – повторил Гершеле заученное с детства: – «Как снится голодному, будто он ест… Как снится жаждущему, будто он пьет…»
Бася понимала мужа с полуслова:
– Гершеле, сердце мое! Сходи к старой Цирле. Она подскажет.
Жена сказала – Гершеле не ослушался. Цирля сидела у раскрытого окна, пекла пупырчатые оладьи и угощала каждого, кто проходил мимо. Старая Цирля похоронила всех одногодок в местечке и жила дальше, отяжелевшая телом. Думала она недолго:
– Главное не то, что из кармана, а то, что в карман. Утаенное умирает. Неразгаданное не рождается. Людям надо подсказать их желания.
– Желания?
– Желания.
– Они и без нас их знают.
– Они не знают, а потому томятся в сомнениях. Подсказавший желание – преуспеет.
И накормила его оладьями.
Назавтра на рыночной площади появилась вывеска «Мы знаем, чего ты желаешь. Зайди и убедись».
Ходили вокруг евреи под грузом огорчений, малым остатком давнего рассеяния, комковатые и клочковатые, сучковатые и дуплистые: видно было с расстояния, что с питанием у них плохо, видно было по иным, что с питанием у тех замечательно. Народ по округе обеднел, истратился, каждый платил другому водицей из колодца, и то не доверху; жизнь размазывалась просяной кашей по тарелке – лизнуть да понюхать. Взглядывали на небо в смутных жалобах: «Дал жизнь – дай парносе!» Косились на заманчивую вывеску, приговаривали уважительно:
– Этот Гершеле! Что-то особенное…
Но дверь открыть опасались, ибо были не при деньгах.
Элькин муж – хромой бедолага, не знающий родства – промышлял по соседству редким промыслом. Элькин муж обучал мычанию окрестных коров с телятами, каждого иным мыком, коротко или протяжно, голосисто или задавленно, чтобы хозяева отличали на расстоянии. Дело шло ходко. Уже объявился клиент, который копил деньги на козу, и Элькин муж подумывал о том, как бы расширить коммерцию.
– Это прибыльно? – интересовались многие.
– Они еще спрашивают… – отвечал он, драный, латаный, в лоскутной рубахе, и мычал с отчаяния, как некормленная корова.
Ему нечего было терять, а потому Элькин муж решился на отчаянный поступок. Первым вошел к Гершеле, затворил за собой дверь, вышел через немалое время – сияет:
– А гройсе менч!.. Он сказал, что желание мое – оставить след памяти. Для тех, которые придут за нами.
– Это так?.. – усомнились маловеры. – Такое у тебя желание?
– Именно! – просветился изнутри продавец мычаний. – Но я об этом не догадывался.
– Сколько же это стоило?
– Первое желание бесплатно.
– Бесплатно? Можно попробовать.
И установилась очередь. И каждому Гершеле сообщал единственное, выстраданное, запрятанное в глубинах:
– Желание твое – не ведать утраты…
– Не испробовать вкуса зла…
– Не преступить за пределы дозволенного…
– Гершеле… – восклицали они на выходе и причмокивали от восторга. – Этот Гершеле! То, что мне надо…
Вечером Гершеле пришел домой, сказал уныло:
– Сапог подметки не стоит… Каждый заходил по первому разу и каждому бесплатно. Даже на завтра есть желающие.
– Гершеле, душа моя! – отозвалась Бася. – Сделай так: первое желание за деньги, второе без оплаты.
Назавтра собрались евреи перед заманчивой вывеской, но входить остерегались, дабы не платить за первый визит. Зашел только Элькин муж, ибо сообразил, что для него это второе посещение, которое снова бесплатно. Пробыл у Гершеле немалое время, вышел – гордо оглядел народ:
– Дополнительное мое желание – воспарить духом и вознестись в понимании.
– А-ах!.. – вздохнули обделенные. – Такое оно у тебя?
– Такое, конечно, такое! Заходите. Каждому за грош.
– Откуда у нас грош?
– Он дает в долг.
– В долг? Стоит попробовать…
И снова установилась очередь. Чтобы Гершеле сообщал каждому его затаенную мечту, ставшую наконец-то явной:
– Осилить горы премудрости…
– Возвыситься по степеням совершенств…
– Покоя в непокое от врагов – такое твое желание…
Ночью Гершеле вернулся домой, сказал в удручении:
– Народу столько – некогда было поесть. А в кассе ни гроша.
– Гершеле, радость моя, – предложила Бася. – Подожди до утра. Уж за третье желание им придется заплатить.
Удача глаза дерет. Всякому охота войти в прибыльное дело, и наутро объявились товарищества на паях, голоштанник на голоштаннике, два мертвеца пустились в пляс – «Шлифер и Шляйфер», «Пельцер и Мельцер», «Махер и Шерешевский», «Гурништ и Ко». Рынок расцветился под утро призывными вывесками: «Мы тоже знаем, чего ты желаешь!», «Чтобы другие так знали, как мы это знаем!», «Вот, наполнилось желание твое: зайди и восхитись!» И опечаленный Гершеле побрел к старой Цирле:
– Для чего зубы, когда нечего жевать? Для чего горло, когда нечего глотать?..
Она выслушала его рассказ, пожевала бесцветными губами, сказала печально:
– Я обещала преуспевание, и ты этого добился. По домам только и разговору о Гершеле, которому стоит подражать. Но доходов я тебе не обещала, – да и откуда тут доходы?
– Другого занятия нет?
– Есть и другое. Скупать позабытые истины, которые не в цене. Дождаться, когда объявится спрос, и выложить на прилавок, с коробом пройти по дорогам. Позабытые истины в завлекающей упаковке…
Ночью Бася жарко зашептала на ухо, не голос – шелк с бархатом:
– Не грусти, Гершеле, свет мой в окошке, переживем и это! Вот я разгадаю твои желания, самые сокровенные: досадно не будет.
– Ты это умеешь?
– Ну конечно! Первое желание – без оплаты. Второе – в долг. Третье – до ранних петухов.
Мальчика назвали Шолем…
…душа человека, что малый колокольчик. У одного глухая, надтреснутая, попользованная без смысла – стук-бряк, у другого звонкая, распевная, взлетающая на верха – дзынь-зынь. Шолему досталась легкая, заливистая душа – бубенчиком прозвенеть по жизни, но сквозь неодолимое его стеснение, сумрачную несговорчивость прорывалось наружу унылое бряк-бряк.
Это был нескладный подросток с блондинистыми пейсами, утонувший в зыбких ощущениях, – пугливо взъерошенный зверек с обкусанными ногтями, который с детства тянул калечную ногу, что тоже не добавляло уверенности. Шолем не любил заглядывать в зеркало, в водную стоячую гладь, ибо выпали ему на долю смытые, непроработанные черты лица, как недодержанные в небесном проявителе, без намека на складку возле носа, морщинку на лбу, без надежды на решительный характер, словно уготовано ему от рождения строить и разрушать, разрушать и строить без видимых результатов. Шолем опасался не боли – насмешки, разоблачения, и оттого вечно ссорился с приятелями, а бабушка Зельда держала его сторону, даже если он был неправ, бабушка не укоряла внука, хоть и было за что.
Обстоятельства копили обиды. Обиды растравляли раны и подсасывали укоризнами. Шолем забивался в угол сарая, раздражительный, неуживчивый, догрызающий остатки ногтей, бормотал жалобы с уговорами, упрашивал неведомо кого, чтобы расселась земля, пожрала насмешников, и если бабушка отыскивала его, то отпаивала теплым молоком, укладывала в постель, подтыкала одеяло под бочок:
– Закрой глаза, Шолем. Заспи обиду.
Садилась на скамеечку, открывала молитвенник, читала по складам, а мальчик ее слушал. На ветхих страницах было помечено карандашом: «Здесь вздыхают», «Здесь огорчаются», «Здесь охают и проливают слезы».
– А где же радуются? – спрашивал Шолем, но у нее не было ответа.
Бабушка Зельда говорила плохо, зато молчала она замечательно, молчанием утешая внука, утишая гнев-удручение. Шолем терзался благодарностью, не способный отплатить за ласку, но бабушка угадывала его томления и говорила так:
– Ничего, милый, не надо. Сохрани для детей своих. Отдашь то, что получил от меня, и мы в расчете. Только одаривай теплыми руками – не одаривай холодными.
Когда бабушка слегла в постель, изгрызанная болезнями, Шолем затосковал. Так тосковал, что не мог есть, не мог пить и исхудал без меры. Сидел возле ее кровати, твердил упрямо:
– Не уходи… Не пущу… Тебе еще рано…
Пришла беда под крышу. Потянулись тоскливые дни – стаями отлетных птиц. Огонек задыхался в глубинах воскового стакана, опускаясь на дно не по своей воле, метался горячечно, припадал, угасая: «Воздуху! – молил. – Воздуху!..» Шолем подреза́л верхние истончившиеся стенки, и огонь снова возгорался покойным недвижным лепестком – словно больной, у которого спадал жар, погружался в долгий освежающий сон. Но бабушке Зельде нечем было помочь, бабушка завершала пребывание на земле и делала это так: глаза глядели, губы шевелились, а тело по частям становилось неживым. Первыми умерли ноги и остались лежать под одеялом, как иссохшие плети на огородной гряде. Затем умерли руки, и лишь в слабом шевелении пальцев еще проглядывало желание двигаться. Веко опало, чтобы не подняться. Шея потеряла подвижность. Свет отемнел в глазу. Голова не поворачивалась на подушке, чувствуя на языке вкус смерти, желчи подобный. Бабушка Зельда отмирала по частям, и Шолем оплакал каждую из них.
Ручьями утекли снега. Пронзительно заголубело небо. Облака поплыли в торжественном шествии, промытые, пушистые, взбитые заботливой рукой. Прогретая земля исходила паром, жаждая скорого осеменения. Мыши полезли из распечатанных с зимы нор – тощие, оголодавшие, настырные и увертливые. Бабушка шепнула перед уходом:
– Шолем, я тебя не оставлю…
Ее укутали в саван, белизна которого указывала на отсутствие желаний, и понесли хоронить. По весне. При нарождении молодого месяца, манившего обещаниями. Ребе сказал так:
– Пока свеча горит…
А больше ничего не сказал.
Пришли соседи – проводить бабушку Зельду, исцеленную от недугов, набежали любопытные, и Шолем затосковал посреди посторонних от неравенства в страданиях. Когда бабушку укладывали на ложе и покрывали землей, он ощутил остро, болезненно, надрезом по плоти, как одним человеком на свете – из тех, кто любил его – стало меньше. «Могла бы еще пожить…» – укорил без звука и поплыл по могучей, полноводной реке печали, что обтекала вокруг кладбища, оттоками петляла посреди надгробий, чтобы прибить к невидному камню, словно бабушкина любовь к нему, неприсыпанная землей, сохранялась на этом месте. «И умерла и погребена здесь…»
Шолем часто наведывался к могиле, жаловался на сверстников, а бабушка жалела его и утешала из иного места пребывания, где темным-темно для тела и светлым-светло для души, если в это, конечно, поверить. Враждующих не хоронили рядом, грешника не погребали возле праведника, – у бабушки Зельды врагов не было, она не грешила чрезмерно, а потому пребывала среди достойных, неподалеку от наставника, который родился с кипой на голове. Теперь бабушка не говорила ни слова, но молчала по-прежнему замечательно. Стоило только прислушаться – она отзывалась Шолему дуновением ветра, стрекотом кузнечика, духовитостью трав, проросших на могиле, как отпаивала теплым молоком, подтыкала под бочок одеяло, вздыхала неслышно: «Уложи горе под подушку, Шолем. Переночуй с ним, и станет привычней…»
Сказано – не доказано: раз в сотню лет является на небе мечтательная звезда, сошедшая с путей согласия, вводит в сомнение кормчих, путает карты с исчислениями, отчего корабли сбиваются с курса, бьются о рифы, уходят под воду на вечное погребение. Раз в десять лет проходит стороной блуждающий странник, путает мысли и понятия, надежды перемешивает с сожалениями.
Ничто не появляется из ничего. Было лето. Полуденный его припек под тугое гудение шмеля. К прогретому камню прикасалась спина. Слеза остывала, опадая. Суматошились муравьи, вспархивали стрекозы, прорастала на усыхание трава. Молчанием утешала бабушка Зельда в паутинной его тоске, и в полудреме уединения, в радужном переливе явлено было Шолему видение…
Из ниоткуда, из обжигающего глаз света, в сквозистой тени куста соткался некрупный старик – угольной, жаром обожженной головешкой, в одеждах диковинного покроя, с посохом в руке, опахнул запахами немытой кожи и застарелой дорожной пыли. Лицо забурело жженым кирпичом. Борода сплелась с усами, опадая до пояса. Заросли лохматых бровей перекрыли глаза. Ноги его были коротки, до того коротки, словно стоптались за долгую дорогу. Тяжеленная плита из темного гранита покрывала спину, нависала над головой и придавливала к земле, пригнув натруженную шею, будто разгребся человек из могилы, приподнял камень и отправился в путешествие по известной ему причине. Плиту прожгло солнцем, буквы запеклись на надписи – не углядеть, лишь «пей» и «нун» поддавались внимательному рассмотрению: «Здесь погребен…» Старик поворачивал голову вбок, к синеве высот, пальцем указывал на пригорок рядом с бабушкой Зельдой, делал плечом движение, чтобы скинуть ношу, – голос раздался, как громыхнуло грозовым облаком на подходе: «Не время… Еще не время!» Вздохнул, переступил с ноги на ногу и покорно побрел дальше, опустив голову, стаптывая ноги, растворяясь в полуденном мареве на краю кладбища. Был – не был. Пришел и прошел. След и тень…
– Кто это?
Мертвым доподлинно известно, что происходит на земле, – чтобы живые так знали! Бабушка отозвалась перешептыванием листвы над головой – улови и прими:
– Странствующий печальник…
– Пойти следом?
– Иди, Шолем…
Плоды отрываются от ветвей для обретения самих себя. Звезды снимаются с позиций. Человек – с обжитого пристанища. Заблуждения – единственное, что следует припомнить и увязать в дорогу, чтобы не споткнуться о прежний пенек.
– Если потеряюсь, разыщи меня.
– Разыщу, Шолем…
Шли без дорожных припасов. Кормились по случаю. Воду пили, хлеб ели, варево из капустного листа и затерялись среди беспечных пространств, беззащитные перед невзгодами. Бабушка Зельда вела внука – без пути путь; на всякой развилке Шолем вставал, прислушивался и непременно получал ответ.
– Направо, Шолем… – отзывалась бабушка каплями рассветной росы, и они отправлялись по правой тропке, углядывая бедствия, народами претерпеваемые. – Теперь, Шолем, налево…
Прошли край горьких дождей. Зноем опаленные посевы. Пересекли леса, природой насажденные, илистые реки и гиблые болота. Обошли стороной земли с немирными кавказцами, где жизнь пахла смертью, колодцы были засыпаны, хлеба выжжены на корню. К ночи подступал дарованный покой, отдых натруженным ногам, чистая звезда над головой, но с рассветом они снова шагали дальше – от мезузы к мезузе, от миньяна к миньяну, от погребения к погребению. Повсюду теснились верующие и сыны верующих, разрозненные меж народов, былинки на волне водоворотов, приткнутые к очередной заводи; повсюду покоились во прахе, присыпанные случайной землей. Выискивали место среди могил, чтобы скинуть ношу со спины, вздохнуть с облегчением, но голос погромыхивал поверху: «Еще не время…»
Немногие увязывались за ними из окрестных местечек, немногие из немногих, и отставали у крайних домов. Чего хотели, того не могли, что могли, о том не помышляли.
– Откуда идут евреи?
– Оттуда, – отвечал Шолем.
– Куда направляются евреи?
– Туда.
Слепому от рождения что известно? Луна для него темна, небо черно, звезды – гвоздиками на неведомом куполе. Старик с плитой помнил, как небо лучилось синевой, луна серебрила озерные воды, звезды перемигивались в ночи, чтобы померкнуть к утру, но видеть не желал из-под нависших бровей – слепой глазами и зрячий душой. Жизнь установилась с разделением на звуки: тьма с пением птиц – она же день, тьма без пения – ночь. На привале, под переливы пернатых над головой, беседовал с сыновьями из прошлой жизни, наставляя на путь веры; без переливов, в ночи, выслушивал жену, которая нашептывала ему потайные слова.
Сбегались отовсюду падучие болваны, притворно бесноватые, слюнявые и гунявые, босые и с колтунами, хихикали, плевали вослед, грозили костлявым кулаком, плиту на спине принимая за вериги, старика – за юродивого, сгоняя чужаков с места своего кормления. Рассветы опадали цветными лепестками, стык к стыку, обозначая иные пространства. Дни обращались в ночи, а ночи в дни. Шолем сбивал ноги в кровь, прикладывая к ранам траву-подорожник; складка проглядывала на лбу, проявляя характер, которого недоставало. Через годы, в полуночном мире, в мандариновых его краях, бабушка пробилась к внуку – шуршанием полевой мыши в сникшей листве:
– Куда ты забрался? Так далеко мне не дошептать…
– На пути, – объяснил. – К пристанищу.
– Воротись, Шолем. Кто же будет следить за могилами?..
К вечеру вышли на кладбище, проплутали меж рядов, углядели нескладного подростка возле свежего погребения – сумрачным, взъерошенным зверьком с обкусанными ногтями.
– Кто это? – спросил подросток, глядя на них, и ему отозвалось шелестением травы.
– Пойти следом? – спросил.
Ответа они не разобрали – не для них был ответ.
– Если потеряюсь, разыщи меня…
Ночью старик заговорил на прощание, облекая печаль в слова. Они запутывались в переплетении усов с бородой, но Шолем распутывал их и добирался до смысла:
– …затворились врата милосердия… Волны страданий накрыли с головой… Три дня и три ночи лежали мы на родных могилах, а перед уходом снимали плиты и уносили в чужие земли, во тьму кромешную. Стража сопровождала до границы и заметала следы наших ног. Монахи шли рядом, уговаривали переменить веру, чтобы остаться на той земле, где некогда нашли утешение, но мы шагали с песнопениями, подбадривая друг друга; музыканты играли радостные мелодии на флейтах, скрипках, барабанах, дабы все вокруг знали: мы не оплакиваем ни одно изгнание, кроме изгнания из Иерусалима…
Замолчал надолго, собираясь с силами. Ощупал в кармане увесистый ключ от дома, сработанный мастером из Кордовы, затем продолжил:
– Ходу оттуда – полтора века. Еще полтора. И еще. Посреди народов вчерашнего дня. Когда откуда-то изгоняют, надо, чтобы куда-нибудь впустили… У тебя свой путь, Шолем.
А почудилось: «У тебя своя жуть…»
Наутро старик отправился в дорогу с очередным поводырем – живая память, блуждающая тайна под грузом прошлого, которую не терпится искоренить, а бабушка Зельда повела внука домой:
– Направо, Шолем. Теперь налево…
Пришел – не обнаружил себя прежнего, многих не обнаружил в местечке, лишь старая Цирля тащила на плечах, плитой на погребение, сто двадцать неподъемных лет.
Спросила:
– Ты кто?
Ответил:
– Странствующий печальник.
– Зачем пришел?
– Отыскать пристанище.
Прикинула:
– Тогда так. Имеется в запасе промысел, не всякому под силу. Осилишь?
– Осилю, – сказал Шолем.
– Старого Янкеле схоронили. Который ходил по домам. Передавал дурные известия.
– Не осилю, – сказал Шолем.
– Платят за это поштучно. Из общинной кружки. И платят неплохо: работа тягостная, при слезах. Янкеле тем и кормился, сыновей женил, дочерей выдал замуж, – дурных вестей и на тебя хватит.
– Нет, – повторил Шолем. – Это не по мне.
Сутул. Суховат. Волос золотист. Прошелся по кладбищу из конца в конец, не упустив никого, ознакомился с новыми могилами, посидел в раздумье у невидного камня, в тиши отстоявшегося покоя: «И умерла и погребена здесь…» Написал пару слов, положил лист на холмик, придавил камнем, – от ночной сырости намокла бумага, размылись чернила, буквы протекли к земле, вглубь просочившись для прочтения: «Я вернулся». Река печали иссякла, обратившись в пересохшее русло, но бабушкина любовь теплилась на том же месте.
Поселился в кладбищенской сторожке поближе к ней. Выполол сорняки. Вычистил дорожки. Укрепил завалившиеся камни. Возвел ограду вокруг усопших, чтобы не стали добычей забвения и при нужде заступались за живых.
Женился.
Передал семя свое.
Родил Ушера.
Любовь сына уберег до старости…
…Ушер вошел в жизнь при солнечном касании, когда неспешно розовело за лесом, – верный знак, что вырастет щедр, влюбчив, незлобив, легок на поступь, заливист и голосист: дзынь-зынь. Ушер – зеркальных дел мастер – выполнял работу со старанием: отбирал стекло без изъяна, резал до нужного размера под пение алмаза, раскатывал олово до неприметной тонкости, натирал ртутью; зеркала перенимали светлый взгляд мастера, ясный его облик, а потому приукрашивали всякого, кто к ним приближался, врачевали совесть, настраивали сердца, а к вожделению не склоняли.
Каждый находил утешение в его зеркалах, в озерной их чистоте, даже замшелые запечные старики; каждого манило шагнуть в их глубины, обосноваться в голубоватом покое, чтобы оттуда, из зеркального бытия, взглядывать на мир в благодушии и довольстве. А они стояли на полу, висели на стенах в ожидании покупателя, отражались одно в другом, как сон во сне, ручей в ручье, кружили голову своему создателю – кудряв, крепок, волосом рыжеват, будто немало Ушеров работало в мастерской зеркальщика. Птица залетала ненароком, металась во многих обликах, не находя выхода; к вечеру он и сам запутывался, не в силах отличить явное от мнимого, себя от изображения, – это значило, пора заканчивать работу и возвращаться домой.
– Не дышите на зеркала, – умолял заказчиков. – Не захватывайте руками! Они от этого слепнут…
В один из дней прискакали гайдуки, заломили руки, отвезли к паночке, жизнь проводящей в прелестях, потехах и танцеванье. Вышла к нему в постельных одеждах, коварна и обольстительна, и Ушер потупился, дабы не согрешить в помыслах от злого очарования.
– Видишь мои зеркала?
В углу лежали осколки – великой грудой. Может, она их била, недовольная видом своим, а может, лопались от гневного ее взора.
– Правда ли, что твои зеркала приукрашивают женщин, отчего хорошеют безмерно к приходу мужей?
Ушер кивнул головой.
– Правда ли, что это способствует деторождению?
Снова кивнул.
– Изготовь для меня зеркало вожделения, – повелела паночка, потакая желаниям. – Чтобы подвигало к шалостям Амура. Сделаешь – озолочу. Не сделаешь – сгоню всех со своей земли. И кладбище ваше разорю.
Ушер побежал к раввину:
– Беда, ребе!..
Старый раввин молился всю ночь, а наутро сказал:
– Сделай ей зеркало.
Далее – противоречиво. Далее – многие несообразности, из которых выберем самые достоверные. Рассказывают: паночке полюбилось ее отражение в зеркале, толпой пошли воздыхатели с их шалостями, и она оставила местечко в покое. Уверяют: паночка осердилась и приказала распахать кладбище, но когда гайдуки приблизились к могиле наставника, родившегося с кипой на голове, пали их волы, пали лошади, пали бездыханными они сами. Утверждают со слов очевидцев: зеркало отразило нутро паночки, скрытое от всех, ненасытную ее похотливость, отчего обернулась в козлоподобного демона, не отбрасывающего тени, и ускакала в пустыню…
Облако наползло без спешки со стороны кладбища, провисло до спелых подсолнухов, спрыснуло обильную морось на истомившиеся на припеке посевы. Подсолнухи опустили отяжелевшие головы и увидели человека на тропе, тощего, иссохшего, который лежал ничком, без движения. На нем был драный балахон из мешка, голову укрывала соломенная шляпа с объеденными полями, словно их сжевала коза, ноги в опорках запеклись кровавыми отметинами. Подсолнухи покачивали головами на ветру, как осуждали или печалились, но помочь несчастному не могли, и он пролежал до заката без надежды на снисхождение.
На него наткнулись по случаю, засуматошились, растормошили, омочили водой иссохшие губы. Поднял с усилием голову, задал непростой вопрос:
– Попраны ли надежды?
– Попраны, – ответили. – Но частично.
– Это мы отладим…
Его принесли в крайний дом, и Блюма, жена Ушера, выставила на стол миску крупяного супа, густо заправленного картофелем для основательного насыщения, – бедность диктует вкусы.
Зачерпывал понемногу. Пережевывал не спеша. Насытился, зарозовел, вновь задал вопрос:
– Чудеса случаются?
– Какие у нас чудеса…
– И это поправим.
Поднял глаза к потолку, прикрыл ладонью и запел. Нежданно переливчатым голосом, пробиваясь в высоты высот, жалуясь, тоскуя, восторгаясь и завораживая. Сбегались женщины с ребятишками. Сходились мужчины. Толпились в дверях, протискивались внутрь, заслоняли свет в окошках. Пришла даже старая Цирля, одолев с натугой переулок; даже ребе приоткрыл окно в доме, а младенцы выпустили изо рта материнскую грудь, зачарованные дивными звуками.
Голос устремлялся ввысь, как путь прокладывал, каждого тянул за собой во врата трепета, словно наступила суббота в неурочный день. Дом песней полнился. Радость восходила к небесам. Родник пробивался через завалы под сладкозвучное пение, гул живой воды – через запруды, затапливая печаль, орошая засушливые души, восторгом наполняя сердца, страстным желанием прильнуть к источнику, вознося на такие вершины, которых не помышляли достичь прежде. Пол отдалялся. Крыша раздвигалась. Солнце скакало шаловливым барашком, звезды опадали росной капелью, изумрудами украшая травы. А они переглядывались в изумлении, удостоившись минутного озарения: где горечь вчерашнего дня? – за горечь принимали жизненные необходимости, оказавшиеся незначительными.
Лица сияли. Чувства обновлялись. Дыхание становилось неслышным. Были ли слова у той песни? Каждому достались свои.
Замолчал, сказал тихо:
– Кому дано – отработай…
И все нехотя опустились на землю. Покрутили головами. Спросили несмело:
– Это чего было?
– Чудо, – ответил. – Обещанное. Плохо – это теперь плохо, а хорошему конца нет.
Усомнились. Переглянулись:
– Проясни.
И он прояснил:
– Жил скрытником. Жил затворником. Наказывал себя за желания. Бил по щекам за недостойные помыслы. Сокращал порции еды в уморении плоти. Пол не подметал, стены не белил. Спал на малом сундуке, свесив во сне ноги. Не слушал пение птиц и журчание ручейков, ибо радость ведет к легкомыслию. Пошел к ребе, спросил: «Что еще сделать, чтобы приблизить приход Освободителя?» Ребе ответил: «Купи кровать и пообедай…» Вы меня поняли?
Они не поняли.
– Злодейства за вами не оказывается, но этого мало. Мало Ему этого.
Опять не поняли.
– Прискучили Ему ваши стенания. Призвучили жалобы с воздыханиями. Предстаньте с веселием – это так просто!
– С утра и начнем…
И снова усомнились.
Подкормили его, подлечили раны на ногах; наутро собрался в путь, сказал Ушеру:
– Передай сыну своему… Жил на свете человек, который отправился на борьбу с силами нечистоты. Пением очищать вселенную.
– У меня нет сына. Одни дочери.
– Это мы поправим…
Первая в жизни удача – она самая главная: где, когда, у каких родителей появиться на свет. Иоселе родился у Ушера-зеркальщика, к Иоселе пристыла его душа, и Ушер сына баловал, не оставляя просьбы без исполнения.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































