Текст книги "Против неба на земле"
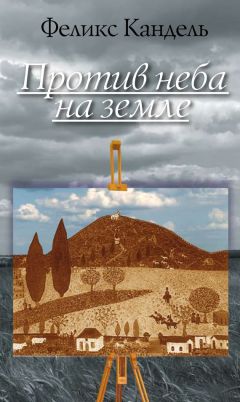
Автор книги: Феликс Кандель
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
3
Крохотный Шпиц, учитель математики в выпускных классах, сказал однажды:
– Дорога появится для того, кто на нее шагнет. Не дорога – тропка, по которой идти, непроезжая, непрохожая, и куда она заведет – неизвестно. Что же определит правильность выбранного пути? Кто знает?
Никто не знал.
– Всё, что повстречается на тропе, станет необходимым, всё случайное окажется неслучайным, всё необязательное – обязательным и поплывет в руки без видимого твоего участия. Не будет более пустой породы – верный признак того, что нашел жилу, которую тебе разрабатывать. Но берегись! Жила может закончиться так же внезапно, как началась; ты выбрал ее до конца и скребешь по камню. Распознай это вовремя, шагни на другую тропу, вновь непроезжую, вновь непрохожую, не уподобляйся тем, которые скребут и скребут, выдавая на-гора пустую породу, – люди внешней мудрости.
Оглядел класс и добавил совсем уж невозможное, как выругался или наколдовал на будущее:
– Дважды себя не перелицуешь…
Мудрый Шпиц, муж умозрений, томился алгеброй с геометрией, жаждая погрузиться в глубины познаний, а оттого был въедлив и настырен. Ходил по классу – руки за спину, изводил каверзными вопросами, к математике не относящимися, выводил учеников из темницы глупости: к чему тело, когда головы нет?
– Мелко! – кричал на их ответы и топал ботинком мальчикового размера. – Где изощренность умов? Восторг познавания? Выявление ранее недоступного? От дураков нет прохода!..
Назавтра приходил собранный, напружиненный перед броском, говорил, как вбивал в головы:
– В последние дни перед потопом. Явлены были. Прелести. Будущего мира. Зачем? С какой целью?
– Чтобы одумались, – отвечал лучший ученик. – Раскаялись во избежание наказания.
– Мелко! – ликовал Шпиц. – Не утонуть!.. Чего стоит раскаяние, оплаченное будущими прелестями?
– Чтобы сожалели о потерянном, – отвечал другой ученик. – За минуту до гибели.
– Мелко! Еще мельче!.. Всевышний не злорадствует, Ему незачем!
– Чтобы… – говорил шалопай Шпильман, и все готовились к очередной потехе. – Прелести явлены не им, а Ною, поощрением за старание. Другое объяснение: прелести явлены нам – предостеречь от будущих бедствий. Объяснение третье, опровергающее первые два: был ли вообще потоп?
– Возможно, он прав, – задумывался Шпиц. – Но мудрецы бы его не похвалили…
Крохотного Шпица раз в году призывали в армию, в охранную роту, и он выстаивал на посту с ружьем на вырост: солдат-гном, каска по уши. Служил старательно, с охотой, в свободные часы лежал на матраце – голые ступни просыхали на ветерке от тесноты башмаков, соседа по палатке изводил вопросами: «Способен ли ты понять, что на свете является наказанием, а что наградой?» Сосед бурчал в дрёме: «Дед, затихни…» Шпиц не затихал: «Иначе гостем пройдешь по жизни, захожим гостем», и невыспавшийся его сосед, замученный нескончаемой работой чужого ума, вопил ненавистно: «Дед, сбегал бы ты в атаку! Чтоб на раз кончили…»
Редкая, в колечках, борода. Редкие локоны вокруг лысого, в веснушках, темени. На прощальном вечере Шпиц сказал:
– Этому всё равно. Пусть делает, что захочет.
И Шпильмана выпустили в мир, не нацелив заранее на удачу.
Карась – рыбка малая, но сладость в уху добавляет. Неукротимый Шпиц, школьный заеда-истязатель, был чародеем, не иначе. Гном-математик из потайной пещеры раскидал по свету алмазы с волшебными гранями, что растопили снег искристыми брызгами и проложили множество путей-ответов, по которым блуждать до старости…
Шпильман говорит за едой:
– Открываю на кухне кран, и вместе с водой в кастрюлю выпадает рыбка. Вот такая, – показывает. – С палец.
Глаза округляются. Кусок не проглатывается. Девочка Михаль, которая любит поесть, откладывает вилку:
– Так не бывает…
– Почему?
Категорически:
– Потому.
Ну что ж, решает Шпильман, обратимся к здравому смыслу:
– Откуда приходит вода?
– Из Кинерета.
– Правильно. Труба засасывает воду из озера, а вместе с водой утянуло бедняжку.
– Мама, это правда?
Мама молчит.
– Рыбка, – уточняет Галушкес, – выпала из крана хвостом вперед.
– Почему?
– Потому что стремилась назад, в озеро. Но поток очень уж силен – не одолеть.
Девочка Михаль печалится…
Через день Шпильман добавляет:
– Иду к машине, вижу розового кота на перекрестке. «Это какой свет?» – спрашивает. «Красный». – «Коты не переходят на красный свет. Теперь какой?» – «Зеленый». Идем – он говорит: «Куда едешь?» – «Домой». – «Где твой дом?» – «В Рамоте». – «У тебя машина большая?» – «Большая». – «А то не помещусь…» Едем – беседуем.
– О чем? – спрашивает девочка Сарра – локти от удивления уже в тарелке.
– О всяком. Почему котов не учат бальным танцам. Отчего не изготавливают кошачьи зонтики, чтобы не мокнуть под дождем во время прогулок. Где продают бинокли для котов – углядеть мелкую мышь. Как раздобыть теплые кошачьи тапочки – согреть озябшие лапы, когда возвращаешься с охоты. В Рамоте кот вылез из машины и говорит: «Завтра поедешь в город?» – «С утра». – «Меня возьми».
Сарра:
– Папа, это правда?
Папа улыбается.
Наутро выходят из дома – сидит у порога пушистый кот, как огромный розовый одуванчик. Сидит – ждет.
– О, – говорит Танцман, веселый еврей. – Вот и он…
Полный восторг!
Родители недовольны:
– Что же ты делаешь? Они только что выстроили мир. Заселили его. Утвердили незыблемые порядки. А ты всё рушишь.
– Вовсе нет. Я населяю их детство. Наполняю откровениями. Делаю его притягательным. Чтобы хотелось туда вернуться. Чтобы было куда возвращаться.
– Так-то оно так…
И Шпильман понял: начинать надо с родителей. Как можно скорее. Трах, музыканты, трах!..
– Иду по улице, вижу котов на заборе. Один под зонтиком, другой в тапочках, третий с биноклем. Читают вывеску на магазине. «Давно читаете?» – спрашиваю. «Чем издеваться, – отвечает кот под зонтиком, – лучше бы помог». – «Давайте, – говорю, – вместе». – «Вместе мы не можем, – отвечает кот в тапочках. – У нас буквы не складываются в слова». – «А если бы и складывались… – добавляет тот, который с биноклем. – Я различаю букву „шин“, этот угадывает букву „куф“, и то не всегда, а тому кажется, будто ему знакома буква „алеф“. Но на вывеске их нет». И принялись разучивать на заборе салонный танец «экивок»…
4
Две тоски подстерегают на свете, всего две: ближняя – рукой потрогать и отдаленная – не дотянуться. По земле оставленной, любви отлетевшей, по родителям, которых не вернуть, по самому себе, невесть куда сгинувшему, по неприглядной скамейке в парке, где ожидал ту, единственную, чье имя и облик давно позабыты, – это тоска ближняя, приручаемая: ее излечивает время, приглушают расстояния, затушевывают иные образы. Отдаленная – она запрятана глубоко, не всегда, не всякому доступная: по утерянному раю, в который не попасть, по звездным мирам, до которых не долететь, по отлетевшим дыханиям юности и чистоте запачканных намерений, – отдаленная тоска не в нашей власти, а оттого неисцелима.
Она звонит по утрам, теща-прелестница – со сна не раздышаться, в голосе хрипотца от неисчислимых сигарет:
– Соберись. Навести старуху.
– Я простужен, Белла. У меня насморк.
– Ну и что? От своих заразиться – на радость. От родных бактерий.
– А если…
– Какие могут быть «если»? Твой вирус – мой вирус.
Бульон чист и прозрачен. Сухарики невесомы и золотисты. На котлету уложены горкой прожаренные луковые скорлупки, проглядываемые на просвет. К чаю выставляется варенье из инжира, начиненного орехом. «Я хороша в изготовлении еды. В распускании старых свитеров тоже неплоха». Высшая степень презрения тещи Беллы: «У них сосиски в морозильнике и макароны в кастрюле».
– Что нового? – спрашивает Шпильман.
– Нового?.. – отвечает. – Я покончила с этим. Со старым бы разобраться.
Для одних главное в еде – скорое насыщение, для других – смакование блюда, неспешное наслаждение удачно приготовленной пищей. Шпильман ест без торопливости, растягивая удовольствие, а Белла рассказывает с паузами, чтобы одолеть одышку:
– Это было то время. Когда фильмы пускали от конца к началу. Для привлечения зрителей. «Урод в шкафу». «Скелет под одеялом». «Привидение за дверью». Такие пустяки тогда еще пугали. От ужаса у мамы начались схватки, и родилась я. Хилой и недоношенной… Жили мы небогато, но сытно. Женщины полнели и расшивали платья, чтобы в них поместиться; мужчинам вставляли клинья в брюки… Меня баловали. «Женщина должна есть конфеты, – говорила мама. – И нюхать фиалки. Тогда это женщина». Меня учили играть на скрипке: мы, евреи, любим это занятие. Со скрипкой можно уйти из страны, когда прогонят; со скрипкой можно и убежать, а рояль не унесешь с собой… Меня оберегали от забот: «Успеешь, – говорили. – Наработаешься». Успела. Наработалась…
У нее отекшие ноги, у тещи Беллы, наплывом на разношенные туфли, но она топчется возле плиты, готовит гостю угощение. Хозяйка в доме своем, королева среди подданных, мудрая владычица в ладу с вещами, мебелью, посудой, повелевающая ими в комнатах и на кухне. «Белла, – удивляется доктор. – Ты замечательная больная, потому что выздоравливаешь. Одно удовольствие тебя лечить». – «Эти лекарства… – отвечает Белла. – Дешевле быть здоровой». По утрам она выходит к остановке, с усилиями взбирается в автобус: главное – одолеть первую ступеньку, самую коварную, что подрастает из месяца в месяц. «Белла, – говорит водитель, которому тоже пора на покой. – Что бы тебе не объявиться лет сорок назад?» – «Что бы тебе не поискать?» – откликается Белла и едет от одной конечной остановки до другой, оглядывая окрестности. По этой улице ходила. В тот магазин заглядывала. Этим воздухом дышала. С тем человеком разговаривала. «И это всё? Ради этого выпустили в мир?» Водитель отвечает: «Разве этого мало?..»
– Из Варшавы мы побежали на Украину, с Украины в Сибирь. Нас бомбили. От ужаса начались схватки. И родилась доченька, твоя жена, слабой и недоношенной… Ехали в товарном вагоне. Не было пеленок. Распашонок. Молока у меня тоже не было. Из соседней теплушки принесли куклу. Большую, с закрывающимися глазами. Куклу раздели, ее платье отдали доченьке. Она и была как кукла…
Старомодных надо беречь. Старомодные – охранители прошлого. У нее десятки крохотных зеркал, у тещи Беллы, которые она держит под запором, в мягкой рухляди, чтобы не захватали руками. «В этом отражался отец. В этом – мама. В том – непутевый мой муж…» На полке под стеклом стоят книги. К книгам прислонены фотографии, с них поглядывают родные с друзьями: слева живые, справа оплаканные. Получив очередное сообщение, Белла переставляет фотографию с одной стороны на другую, не надеясь на память, которая может подвести. В один из дней Шпильман обнаружил, что справа разместились улыбающиеся лица, слева – пасмурно озабоченные, словно переход в иной мир освобождает от хлопот-огорчений.
– На Голанах погибла вся рота. Нам сказали – ты тоже. Кто-то даже видел: в танке или около. У нее начались схватки, и родился семимесячный – еле выходили. Тебе сын, мне внук… Что же это за век такой? Отчего все недоношенные?..
У Шпильмана нет ответа. У нее – тоже.
– Век прожила в скудости. Ела что придется. Носила что попало. Кровать со шкафом не поменяла ни разу. Умру – так и не узнаю, какой матрац мягче, какие наряды лучше… Шпильман, ты мне сочувствуешь?
– А как же. Слетать бы тебе в Европу, навестить свое детство.
– Нет моего детства. Удушили его. В газовой камере. Играют теперь на сцене, смакуют идиш, бывших своих соседей поменяв на выдуманных, которые под гримом. Этих они любят.
Берет со сковороды котлету, сочную, румяную, истекающую ароматами, подкладывает ему на тарелку:
– Ад уже был на земле. Мы прошли через ад. Есть надежда, что его отработали и попадем теперь в рай.
– Будем рассчитывать на лучшее, теща моя.
– Лучшее для меня – чтобы не стало хуже, зять мой.
Смотрит, как он подбирает еду, бурно вздыхает:
– Тебе плохо, Шпильман.
– Мне хорошо. Меня усыновили в супермаркете. Прихожу к открытию, спрашиваю: что купить? Собирается совет – продавщицы с кассиршами. Все меня знают, все жалеют. «Возьми курицу». – «Надоело». – «Шницели». – «Видеть не могу». – «Гамбургер с картошкой». – «Уйду в другой магазин!..» Это на них действует, и они предлагают: «Фаршированные перцы». – «Перцы?» – «Перцы. Легко приготовить». – «Что для этого надо?» Берут за руку, ведут по магазину, набирают нужные продукты – сам себе завидую.
– Ты бы женился, Шпильман. Тяжко одному.
– Я не один. У меня ежик.
5
День из дней. Вечер из вечеров. Она является теперь незваной, женщина, которой Шпильман недодал в лучшие ее годы, – так она считает. Оглядывает комнату с камином, ввысь вознесенный потолок, чистоту с покоем, буйство домашних произрастаний – не может отдышаться.
– Ты торопилась? – спрашивает Шпильман.
– Я поднималась по лестнице.
Излишества портят фигуру и притупляют ощущения, но обида держится до конца, передаваемая по наследству.
– Что ты от меня бегаешь, Шпильман?
Цвет опал. Лето миновало. Ночи удлинились и похолодали. Она кокетничает еще по привычке, эта женщина, но кокетство шло ей дюжину морщин тому назад. Она надеется, возможно, на продолжение, но смотрит на нее не тот Шпильман, другой Шпильман, совсем, быть может, не Шпильман. Ноги идут за сердцем – туда, где некогда ожидало желание, а прошлое стерто, смыто, прошлое осталось лишь в памяти прикосновений, не более; с этой женщиной не о чем помолчать, ибо молчание – явление обоюдное, настоянное в глубинах ощущений.
– Шпильман, – просит женщина. – Увесели надеждой.
Он не понимает порой, что она спрашивает. Она не понимает, что он отвечает. Так они беседуют.
– Вам повезло, – сказал агент по продаже недвижимости. – В ваш дом въезжает интеллигентная семья, которую не увидишь, не услышишь их криков.
Это оказалась тихая семья, которая производила много шума. У них постоянно сверлили, прибивали, вколачивали, перестилали полы, меняли ванны с унитазами, ломали и возводили перегородки, чтобы затихнуть ненадолго, набраться сил и средств, вновь поломать, высверлить и перестроить, расходуя деньги и соседские нервы. В этом непрерывном обновлении находило выход несогласие с жизнью, стихийное желание перемен, но когда хозяйка квартиры обратила внимание на Шпильмана, у них всё затихло. Отключились дрели. Отпали за ненадобностью молотки с зубилами. Осталась непрокрашенной половина стены. Шпильман копошился под обломками порушенной жизни, ослепший от страданий, тыкался кутенком в поисках тепла и наткнулся на тело, которое приняло его, обогрело, обволокло заботой. Она жила в соседнем подъезде, и это было удобно. Она прибегала в любое время, лишь только представлялся случай, неутомимая во всех отношениях, и когда он приоткрыл наконец глаза, уже приняла решение. «Мой Шпильман», – сказала подругам, как застолбила участок, а он уходил, он выбирался из-под развалин, прозревший и сконфуженный. Повиниться бы теперь: «Виноват, милая» – вызвать бурные укоризны с пролитием слез. Покаяться: «Я тебе благодарен» – пробудить необоснованные надежды. Она звонит из уличных автоматов для заполнения порожних секретов – так оно завлекательнее, взывает с упреком: «Куда ты опять пропал?..» А он не «опять», он давно и навсегда, но этим «опять» поддерживается ниточка отношений: годы совместной тайны, как годы совместной жизни – не перечеркнуть. В сущности, можно ее пожалеть, но почему рядом с несчастной женщиной должен оказаться еще один несчастный мужчина?..
– Шпильман, тебе не надоело быть Шпильманом?
– Пока нет.
– А мне невмоготу с собой.
– Что-нибудь подберем…
…назовем ее Ципи, а лучше Шош, Кохи, Рухи, Браха. Она брюнетка – нет, брюнеток и так много, – пусть будет шатенка, но крашенная в рыжину, в проблескивающий на солнце густой медный окрас. Шош – секретарша, секретарша у высокого начальства, которая не сделает того, чего не пожелает, не пойдет туда, куда не захочет, которую не уволить – только терпеть и ублажать. Черты лица грубо прорезаны. На пальцах крупные кольца с камнями, в ушах тяжелые серьги, на шее тройной ряд ожерелий, в руке сигарета, на столе вечная чашка кофе устрашающей крепости, на стене карточка счастливой семьи: Шош – пятнистые трико в обтяжку могучих форм, муж-добытчик возле фургона «Ремонт – покраска», дети-погодки в широченных штанах ниже колен, еще мелкие, но уже нагловатые, наследующие папину хватку. У Шош высокая талия, тяжелые бедра с уверенной походкой, распахнутые одежды и желание во взоре – не уклониться от жребия. За ней увязываются и от нее бегают, получив свое, мужчины всех возрастов, отмываясь под душем от пахучих объятий; за ней хвостом тянется легенда, но это не доступность, нет, это превосходство сытой женщины, от которой многое зависит…
– Не балуешь ты меня, Шпильман…
…назовем деву Матильдой, неотразимой Цецилией, привезем из Канады, нет, лучше из Рио, умыкнув с очередного карнавала, долгоногую, самбой распаленную, без видимых на теле покровов. Отец у нее еврей, мама – мулатка: приодеть в пристойное платье до пола, подобрать парик, провести через гиюр, поменять имя на Фейгу, выдать замуж за строгого хасида в черных одеяниях, поселить в Бней-Браке, наделить многоплодием… – но глаза выдадут, глаза не упрячешь, пусть лучше протанцует самбу от Хайфы до Эйлата, продлив до старости тот карнавал, мимоходом выходя замуж, рожая детей, выкармливая пиццей и макаронами, облачая в подаренные наряды, меняя между делом вздыхателей, словно хранятся они в шкафу, обвисли рядком на плечиках, чтобы примерить перед выходом из дома, опахнуть дерзкими ароматами, – но вздыхателям, и ей тоже, не сбежать от буйного темперамента…
– Это уже получше.
Досада – ее укрытие…
– Я всё о тебе знаю, неблагодарный. Всё!
– Ну уж… Всё о себе и мне неизвестно.
Они сидят на балконе и смотрят друг на друга: вот женщина, из-за которой задерживаются закаты. Мир утихает в ожидании, готовясь к вечернему сеансу, даже неумолчный рокот с далекого шоссе. Багрянец по кромке небес – не насытиться взором, и самолет проскальзывает в синеющей чистоте над здешней сутолокой, поблескивая подсвеченными крыльями, подмаргивая Шпильману сигналами опознавания.
– Господи! Одним ничего, а другим самолет в небе… Конечно, в такой квартире можно любить эту жизнь.
Шпильман привык к вечным ее наскокам: лишь болезненная гордость чувствительна на уколы.
– Самолет входит в стоимость квартиры, – говорит он. – Это оговорено в договоре при покупке. Каждым вечером, для завершения дня.
Самолет входит в стоимость квартиры. И окрестности, которые не присвоить глазом. Прозрачность глубин в горах, чувствами обогретая растительность на склонах, поверху накинутая взвесь печали – горечью неминуемого расставания. Кому оно перейдет по наследству? Кто убережет-озаботится? Для кого жизнь сделается пригожей, без непременных бедствий, и войдет наконец в стоимость квартиры?..
Блекнет багряное великолепие. Балкон открыт всем ветрам. Двери ветрам открыты. Окна.
– Вот человек, которого всё устраивает, – говорит женщина, на что-то еще надеясь. – Дни проводящий в затыкании ушей. Обожравшийся оптимист, которого ничем не проймешь.
Но это не так.
6
Ежик старел. Силы заметно убывали. Иголки на спине седели, выпадая от прикосновений, ломкие и неколкие для врага. Ныли лапки, ныло его нутро, не желая сворачиваться в клубок, задремывали желания, затухал аппетит, замирали жизненные потребности, пробуждаясь вразнобой, без необходимого на то согласия. Ежик зарывался в палую листву и размышлял в оцепенении, кто же им позавтракает напоследок. Лисы. Шакалы. Бездомные собаки. Или расклюют поганые вороны. Шпильман подобрал его на тротуаре, забредшего невесть откуда, сослепу затерявшегося в толчее обуви, и принес домой, чтобы принял смерть от старости. Достойную смерть в достойных условиях.
– Вместе, – сказал, – продержимся…
Синь густеет понизу. Глохнет – тускнеет – черепица на крышах. Голоса слышнее издалека, лай собак к ночи. Солнце укатывается в горные долины, чтобы окунуться в море в вечернем купании и явить себя поутру в чистоте намерений. Глазу раскрываются невозможные дали: пустоты пустот или глубины глубин? Неслышно опадают росные капли, смачивая перила на балконе, стол со стульями, серебрят кудри на голове у Шпильмана. Розоватая кисея разметывается предзакатными ветрами – сквозь нее проглядывает звезда, пыхает напоследок угольно-багровым жаром в отчаянной попытке удержать свет, цвет, восторг.
Чем занимаются люди, какими привычностями, о том можно не спрашивать. Но чем занят Всевышний в извечных Своих хлопотах? Творит чудесные опыты. Переводит стрелки на путях заблуждений. Наполняет время содержанием, выстраивает и заселяет пространства, умудряя обитателей и подсчитывая потери. А чем Он занимается в редкие минуты покоя? Наводит сумерки небесные, творит закаты, которые не повторяются, на радость Себе и Своим созданиям.
Укатить солнце в укрытие и тушью, волосяной кисточкой прочертить по окоёму контуры приметных возвышений. Перебрать полотнища в закатных окрасах, выбрать приглянувшееся, непопользованное, павлиньим хвостом на полнеба. Укрепить месяц – вызолоченным ноготком на взлете. Разместить поодаль переливчатое создание – пусть это будет Венера. Горстью, из лукошка – сеятелем по яшме небес – раскидать маловидные созвездия, которым продержаться до рассвета. Щедро, единым мазком нанести облако – синь поверху, розоватость прощального отсвета в подбрюшии. Пробудить к ночи духовитость цветений, подкурить дымчатую взвесь волшебства, подписаться росчерком пера – падучей звездой наискосок, залюбоваться, запрокинув голову, – творение завершено, декорация выстроена для вечернего спектакля, и он начинается.
Зрителей немного. Всего двое. Впитывающие и насыщающиеся для душевной пользы. Шпильман на стуле в поздние свои шестьдесят и сникший, усталый ежик в ранние его семьдесят. «Господи! – взывают в молчании. – Опустись хоть однажды на этот балкон! Присядь рядом! Взгляни отсюда на дело рук Своих…» Днем балкон обращается в стол для птиц, которые приносят еду, суетливо насыщаются, не убирая за собой, и Шпильман находит потом шелуху от зерен, остатки исклеванных ягод, иссохшие корки, которые не пробить клювом. Наведывались на балкон и бродячие кошки, считая его своей территорией, жили на нем, спали на нем, рожали шелудивое потомство, а когда появился ежик, кошки от обиды и ревности стали мочиться у дверей, запахами выказывая Шпильману едкий протест. Новый квартирант поговорил с ними по душам, и они ушли на другие, незанятые еще балконы. Ежик спит теперь на подстилке возле дивана, лакает молоко, уплетает с аппетитом куриные котлеты, в жаркие дни лежит перед крохотным вентилятором, а тот его обдувает. Вентилятор дрожит от старания, неприметно ползет по скользкому плиточному полу, путешествуя на поводке по комнате, и ежик передвигается вместе с ним, овеваемый прохладными струями. Ему, неболтливому, Шпильман раскрывает тайники чувств:
– Была у меня жена, а кому-то дочь, кому-то мать, бабушка кому-то. Но мне-то жена, плоть моя, владычица души моей…
Она работала в музее, в глубоких его подвалах, и Шпильман приходил туда, садился рядом, наблюдая за плавными движениями женщины, без которой не было ему жизни. Из ближних и отдаленных раскопок привозили во множестве черепки, собранные в одном месте, укладывали на стол, а она их подбирала и склеивала – вдумчиво, терпеливо, один к одному, чтобы из битых останков выстроить вазу для цветов, кувшин для вина, сосудец под благовония. Черепок прикладывался к черепку, осколок к осколку, прошлое проявлялось на глазах, выказывая свои формы, оставляя прогалы от несысканных частей, а Шпильман наполнялся покоем, утихали волнения его души, заново собранной из лоскутков, возникала потребность оценить себя по справедливости и проложить путь до завтра.
Говорит ежу:
– Высмотрено в поколениях. Праведникам даны полные годы – родиться и умереть в тот же день… У нее была разница в неделю.
Она ушла в те времена, когда машины еще покрывали чехлами, чтобы защитить от солнца, – кто это делает теперь? Ушла и унесла с собой чистоту, открытость, окна души настежь, а следом за ней – вслед за теплотой – верная тому примета – ушли мелковатые, светлого окраса ящерки, которые прежде не переводились по комнатам, прошмыгивали деловито под ногой, забирались под одеяла-подушки. Прошли месяцы. И прошли годы. Ящерки снова вернулись в дом, и Шпильман утешился: признали, значит, и его. Одна из них – самая, должно быть, шаловливая – упала в чашку с водой и захлебнулась. Выложил на подоконник, промокнул салфеткой, пошевелил лапками, как при искусственном дыхании: хвостик дернулся, дрогнула спинка, шелохнулись лапки, – она обсохла на легком сквозняке и убежала по своим делам. Ящерки не боятся ежика. Ежик не боится Шпильмана, сумерничает с ним, разглядывая закаты, трется о ногу в минуты доверия, разве что не мурлычет, – Шпильману на радость.
У каждого свои ежи.
– Я скажу, а ты сразу забудь. Обещаешь?
Ежик отвечает молчанием: «Обещаю».
– Я ей не изменял. Редко. Почти никогда. Зачем? Нам было так хорошо! Ночи не могли дождаться…
Квартира неприметно превращается в нору, гнездо, логово. Воркота по комнатам, булькотня, квохтанье; даже стиральная машина снисходительно курлыкает, словно делает одолжение, когда ее включают. В кладовке затаился пылесос, который урчит по надобности не хуже кота. Журчит вентилятор, охлаждая ежа. В туалете воркует, неспешно заполняясь, странное приспособление из белого фаянса, которым ежи пренебрегают. В ванной комнате поселились Ворчала с Бурчалой, чуда мохнатые, чтобы клокотать в трубах сливной водой. Молоко взбулькивает горлом селезня, когда переливают из бутылки в кастрюлю, а простокваша издает глубокий чувственный гульк спаривающихся сизарей, с наслаждением высвобождаясь из тесного пластмассового хранилища. Под плитками пола – если вслушаться – похрустывают, обустраиваясь, невидные ерзуны-пролазы, бегучие, при нужде кусучие, выкидывая наружу излишние им песчинки. Мурлычет холодильник на кухне, железное бездушное существо: когда ты полон вкусными, полезными для здоровья продуктами, поневоле замурлычешь в сытости и покое. Сметана, к примеру. Со сметаны и собака замурлычет, а с горчицы и кошка загавкает. Жизнь совершается в накоплении желаний, и потому воркота, гулькотня, квохтанье – это выражения довольства, которые скапливаются в душе, переполняют ее, звуками выплескиваются наружу.
Здесь, на балконе, Шпильман приходит в гости к самому себе. Молитвы его – бдения на закате. Молитвы – город в отдалении, раскрывающийся навстречу, светлый, воздушный, щедро подсвеченный в ночи. Молитвы – пробуждением от дремоты, словно расплескивается по лицу прозрачная, зубы леденящая, с вершин устремленная вода пригоршнями горных впадин.
Завершается биография горизонтальная, разумно и неспешно. На подходе биография вертикальная.
– Что ты всё выдумываешь, Шпильман!
– Я не Шпильман. Я теперь Балабус, хохотун и насмешник, шпиль-менч с бубенцами, который домысливает за других. Тридл дидл, дидл дудл, о-ля-ля!
– Но ежели ты таков, чем же тогда недоволен?..
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































