Текст книги "Проклятие королей"
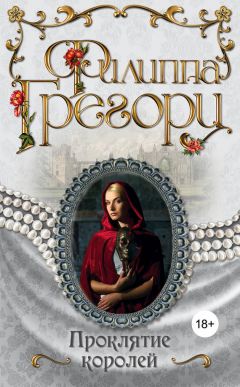
Автор книги: Филиппа Грегори
Жанр: Исторические приключения, Приключения
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Она замечает меня, едва я тихо вхожу в комнату, и, когда псалом заканчивается, манит меня к себе. Дамы отступают и притворяются, что поправляют друг другу безукоризненные головные уборы; понятно, что после вчерашней встречи все знают, из-за чего ссорилась со мной Миледи, и все считают, что я пришла сдаться.
Миледи улыбается мне.
– А, леди Маргарет. Мы можем договориться о вашем переезде ко двору?
Я делаю вдох.
– Я была бы очень рада присоединиться ко двору, – говорю я. – Я была бы очень рада, если бы мой сын отправился к принцу Гарри в Элтемский дворец. Умоляю вас, Миледи, оказать ему эту милость. Ради его отца, вашего родственника, который вас так любил. Позвольте сыну сэра Ричарда вырасти аристократом. Позвольте своему юному родственнику состоять при вас, прошу.
– Я так и сделаю; если вы сослужите мне службу, – ровным голосом отвечает она. – Скажите мне правду, и вы спасете нас, свою семью, от недостойной невесты. Скажите что-то, что я могу передать своему сыну королю, чтобы он предотвратил брак испанской лгуньи с нашим невинным мальчиком. Я молилась об этом и вполне уверена. Катерина Арагонская не станет женой принца Гарри. Вы должны быть верны мне, матери короля, а не ей. Предупреждаю, леди Маргарет, подумайте, что скажете. Опасайтесь последствий! Очень хорошо подумайте, прежде чем принять решение.
Она гневно смотрит на меня, в ее темных глазах сомнение, словно она хочет удостовериться, что я понимаю, чем она мне угрожает, и во мне просыпается чувство противоречия. Страх исчезает, когда Миледи начинает мне угрожать. Я готова рассмеяться над ее словами. До чего она глупа! Злая, жестокая, глупая старуха! Она что, забыла, кто я, раз вот так мне угрожает? Пред очами Господа я – Плантагенет. Я дочь дома Йорков. Мой отец нарушил святость монаршего положения, убил короля и был убит своим собственным братом. Моя мать примкнула к своему отцу во время восстания, а потом переметнулась и воевала против него вместе с мужем. Мужчины и женщины нашего дома всегда следуют своей воле, нас нельзя пугать последствиями. Если нам показать опасность, мы всегда, всегда идем ей навстречу. Нас называют «дьявольским отродьем» за наше дьявольское своеволие.
– Я не могу лгать, – тихо говорю я. – Я не знаю, был ли принц состоятелен с женой или нет. Я никаких признаков не видела. Она мне говорила, и я ей верю, что они не были любовниками. Я верю, что она девственница, какой приехала в эту страну. Я верю, что она может выйти за любого подходящего принца, которого одобрит ее отец. Лично я считаю, что она стала бы очень хорошей женой принцу Гарри и очень хорошей королевой для Англии.
Лицо Миледи темнеет, я вижу, как на виске у нее стучит жилка; но она ничего не говорит. Быстрым гневным взмахом руки она велит своим дамам выстроиться у себя за спиной. Она поведет их к обеду, а я больше никогда не буду обедать за королевским столом.
– Как угодно, – она выплевывает слова, словно яд. – Надеюсь, вы проживете на вдовье содержание, леди Маргарет Поул.
Я приседаю в глубоком реверансе.
– Я понимаю, – кротко говорю я. – Но мой сын? Он – воспитанник короля, он сын вашего кузена, и он чудесный мальчик, Ваша Светлость…
Она проходит мимо меня, не говоря ни слова, дамы следуют за ней. Я поднимаюсь и смотрю им вслед. Я пережила мгновение гордости, бросилась в бой со своего Эмбионского холма на Босуортское поле – и не нашла ничего, лишь поражение. И теперь я не знаю, что делать.
Замок Стоуртон, Стаффордшир, осень 1506 года
Еще год я делаю все, что в моих силах, чтобы выжать из своих земель побольше денег. Когда в поле выходят сборщики колосьев, я изымаю миску зерна из каждой корзины, нарушив всегдашние правила и расстроив деревенских стариков. Я сужу браконьеров в поместье и поражаю их тем, что требую выплаты штрафа за каждое мелкое воровство. Я запрещаю крестьянам ставить силки и добывать что-либо на своей земле – даже кроликов, даже старые яйца, которые куры отложили не в курятнике, и нанимаю егеря, чтобы не позволял никому ловить форель в моих реках. Если мне попадается ребенок, собирающий яйца в гнезде дикой утки, я штрафую его родителей. Если в лесу обнаруживается человек с вязанкой хвороста, в которой хоть один прут был слишком толстым, я забираю всю его ношу и тоже штрафую. Я бы и птиц штрафовала за то, что летают над моими полями, и петухов за то, что поют, – если бы они могли заплатить.
Люди так бедны, что забирать у них еще что-то бесчеловечно. Я начинаю мысленно считать, сколько яиц может отдавать мне каждая хозяйка, у которой есть хотя бы шесть кур. Требую свою долю меда с человека, у которого всего один улей – он хранил соты с лета. Когда фермер Страйд режет корову, которая упала в канаву и сломала шею, я взимаю свою долю мяса до унции, а еще жир и кожу на обувь. Я – дурная хозяйка, я давлю на фермера, когда он в беде, из-за меня непростое время становится еще хуже; так же давит на меня королевский казначей.
Я посылаю слуг охотиться на оленей, фазанов, цапель, болотных курочек – на всех, кого можно есть. Ловец кроликов должен приносить из садков больше добычи, мальчик, который опустошает голубиные гнезда, уже привык, что я стою у подножия его лестницы. Я все больше боюсь, что у меня станут воровать, и начинаю воровать сама, настаивая, что мне причитается больше, чем моя доля. Я понимаю, что становлюсь землевладельцем, каких всегда презирала: мы превращаемся в семью, которую ненавидят крестьяне. Моя мать была самой богатой наследницей в Англии, мой отец был братом короля. Постоянной щедростью они привлекали и удерживали сторонников, последователей и слуг. Мой дед кормил в Лондоне всех, кто приходил к его порогу. Любой мог явиться к обеду и унести с собой кусок мяса, который удержится на кинжале. Я их наследница, но я предаю их обычаи. Я думаю, что меня почти свели с ума тревога о деньгах и болезненный страх у меня в животе – то волнение, то голод; я так измучилась, что уже не отличаю одно от другого.
Однажды я выхожу из церкви и слышу, как деревенский старик жалуется священнику и просит его поговорить со мной.
– Отец мой, вы должны с ней поговорить. Мы не можем платить, что должны. Мы даже не знаем, сколько задолжали. Она просмотрела все договоры, которым по много лет, и нашла, за что оштрафовать. Она хуже Тюдора, хуже короля, только и делает, что изучает законы и обращает их себе на пользу. Она уморит нас голодом.
Но, как бы то ни было, этого не хватает. Я не могу купить мальчикам новые сапоги для верховой езды, не могу кормить их лошадей. Год я борюсь, пытаясь отрицать, что сама у себя занимаю, обирая крестьян, ворую у бедняков, но потом понимаю, что все мои жалкие попытки окончились ничем. Мы разорены.
Никто мне не поможет. Мое вдовство против меня, моя бедность против меня и само имя мое против меня. И, что хуже всего, против меня мать короля, и никто не отважится мне помочь. Двое моих кузенов все еще заточены в Тауэре; они мне не помогут. Только мой родственник Джордж Невилл отвечает на одно из десятков писем, что я разослала. Он предлагает воспитать старших мальчиков у себя в доме, и мне придется отослать Генри и Артура, пообещав, что я заберу их, как только смогу, что они не отправляются в изгнание навсегда, что произойдет что-нибудь, и мы воссоединимся, вернувшись в свой дом.
Как проигравшийся картежник, я говорю им, что скоро настанут хорошие времена, но сомневаюсь, что хоть один мне верит. Мажордом Джон Литтл увозит их в дом кузена Невилла, Берлинг-Мэнор в Кенте, на последних наших лошадях: Джон седлает большого коня, который таскает плуг, Генри садится на своего гунтера, Артур – на пони, которого давно перерос. Я пытаюсь улыбаться и махать им, но меня слепят слезы, и я едва вижу сыновей; только их бледные лица и большие испуганные глаза. Два мальчика в убогой одежде уезжают из дома, не зная, куда направляются. Я не знаю, когда снова их увижу, я не смогу наблюдать их детские годы и беречь их, как надеялась. Я не выращу их Плантагенетами. С ролью их матери я не справилась, им придется расти без меня.
Урсуле восемь, она слишком мала, чтобы отсылать ее в большой дом, она останется со мной, а Джеффри в свои два – мой малыш. Он только научился ходить и пока еще не говорит, он прилипчивый и беспокойный, легко плачет, всего пугается. Я не могу отпустить Джеффри. Он уже достаточно страдал: родился в скорбящем доме и с рождения был лишен отца. Джеффри останется со мной, чего бы мне это ни стоило, я не могу с ним разлучиться, он знает лишь одно слово: мама.
Но Реджинальду, веселому, счастливому и смелому мальчику, надо найти место. Он слишком юн, чтобы стать оруженосцем, у меня нет родни с маленькими детьми, которая согласилась бы его взять. Друзья, которые были у меня на Пустошах и в Уэльсе, прекрасно знают, что меня не хотят видеть при дворе и не платят мне пенсию. Они справедливо считают это знаком того, что я у Тюдоров в немилости. Мне приходит в голову только один человек, слишком не от мира сего, чтобы высчитывать, насколько опасно будет мне помочь, и слишком добрый, чтобы отказать. Я пишу духовнику Миледи, епископу Фишеру:
Дорогой отец,
надеюсь, вы сможете мне помочь, поскольку больше мне не к кому обратиться. Я не могу платить по счетам и не могу содержать детей.
Я вынуждена была отправить двоих старших к кузену Невиллу; но мне хотелось бы найти место в добром религиозном доме для своего маленького сына Реджинальда. Если Церковь будет на том настаивать, я отдам его в монахи. Он умный мальчик, сообразительный и живой, возможно, даже духовный. Думаю, он будет хорошо служить Господу. В любом случае я не могу его оставить при себе.
Сама я с двумя младшими детьми надеюсь найти убежище в монастыре, где мы сможем жить на мой небольшой доход.
Ваша дочь во Христе, Маргарет Поул.
Он сразу отвечает. Он сделал больше, чем я просила: нашел место для Реджинальда и убежище для меня. Епископ пишет, что я должна остановиться в аббатстве Сайон, одном из любимых мест молитвы моей семьи, напротив нашего старого дворца в Шине. Во главе аббатства стоит мать аббатиса, при ней около пятидесяти монахинь, но принимают они только благородных гостей, и я могу поселиться там с дочерью и маленьким Джеффри. Когда Урсула достигнет нужных лет, она может стать послушницей, а потом монахиней ордена, и ее будущее будет обеспечено. По крайней мере, у нас будет еда на столе и крыша над головой в ближайшие несколько лет.
Епископ Фишер нашел Реджинальду место в братском для аббатства доме – Шинском приорате, монастыре ордена картузианцев. Реджинальд будет жить всего в пяти милях от нас, за рекой. Если мне позволят ставить на окно свечу, он будет видеть свет и знать, что я думаю о нем. Нам могут разрешить нанимать лодку и переправляться через реку, чтобы повидаться с ним по праздникам. Нас будет разделять лишь устав домов Божьих и широкая, широкая река, но я смогу видеть трубы приората, где живет мой сын. У меня есть все причины радоваться такому щедрому разрешению наших бед. О сыне будут заботиться в одном доме, а у меня с младшими детьми будет крыша над головой, и он будет у нас почти на глазах. Я должна бы ликовать от облегчения.
Вот только, только, только… я падаю на колени и молю Богоматерь спасти нас от этого убежища. Я убеждена, что это место не подходит Реджинальду, моему умному, одаренному, говорливому мальчику. Картузианцы – орден молчаливых отшельников. Их монастырь – место, где не нарушают тишину и исполняют строжайшие религиозные обеты. Реджинальд, мой веселый мальчик, так гордится тем, что научился петь по голосам, так любит читать вслух, он выучил загадки и шутки, которые рассказывает братьям – не торопясь, сосредоточенно. Этому веселому говорливому мальчику придется прислуживать монахам, живущим отшельниками в отдельных кельях, они все молятся и трудятся в одиночку. В приорате не произносят ни слова, кроме как по воскресеньям и праздникам. Раз в неделю монахи выходят на прогулку, во время которой можно тихо беседовать друг с другом. Все остальное время они проводят в молитвенном молчании, каждый наедине со своими мыслями, в борьбе во имя Господа, в своей келье за высокими стенами, слушая только вой ветра.
Мне невыносимо думать, что мой говорливый оживленный сын будет обречен на молчание там, где так строго соблюдают священное послушание. Я пытаюсь себя уверять, что Господь заговорит с Реджинальдом в холодной тишине и призовет его служить себе. Реджинальд научится молчать, так же, как научился говорить. Научится ценить собственные мысли и не смеяться, не петь, не скакать и не валять дурака перед старшими братьями. Снова и снова я уверяю себя, что это – замечательная возможность для моего блестящего мальчика. Но в сердце своем я знаю, что если Бог не призовет этого малыша на пожизненную священную службу, то получится, что я отправила своего умного и любящего ребенка в молчаливую тюрьму до конца его дней.
Он снится мне заточенным в тесную келью, и я, вздрогнув, просыпаюсь и вслух произношу его имя. Напрягаю ум, пытаясь придумать, чем еще можно его занять. Но я не знаю никого, кто взял бы его оруженосцем, и денег, чтобы отдать его в подмастерья, у меня нет, к тому же – что он мог бы делать? Он из Плантагенетов, я не могу отдать его учиться к сапожнику. Неужели наследнику дома Йорков мешать сусло для пивовара? Была бы я лучшей матерью, если бы отправила его учиться ругани и богохульству в пивной, а не молитвам и молчанию в праведном ордене?
Епископ Фишер нашел ему место, безопасное, такое, где его будут кормить и учить. Я это приняла. Больше я ничего для мальчика сделать не могу. Но когда я думаю о своем беззаботном сыне там, где единственный звук – это тиканье часов, возвещающих время следующей службы, мое горло против воли сжимается и глаза туманятся от слез.
Мой долг – разрушить свой дом и семью, которые я с такой гордостью создавала, став новой леди Поул. Я приказываю всем домашним и усадебным слугам собраться в большом зале и говорю им, что для нас настали тяжелые времена и что распускаю их со службы. Я выплачиваю им жалованье до этого дня, больше ничего дать не могу, хотя знаю, что ввергаю их в нищету. Я говорю детям, что нам придется оставить дом, пытаясь улыбаться и представить это как приключение. Будет так интересно пожить где-то еще. Я запираю Стоуртонский замок, куда муж привез меня невестой, где родились мои дети, и оставляю Джона Литтла исполнять обязанности бейлифа, собирать подати и штрафы. Две трети он будет отсылать королю, треть – мне.
Мы уезжаем из дома: Джеффри я везу на руках, сидя на седле позади Джона Литтла, Урсула на маленьком пони, а Реджинальд, кажущийся крохотным, на гунтере брата. Он хороший наездник, ему досталось от отца умение обращаться с людьми и лошадьми. Ему будет не хватать конюшен и собак, жизнерадостного шума скотного двора. Я не могу заставить себя сказать ему, куда он направляется. Все думаю, что в пути он спросит, куда мы едем, и я наберусь мужества сказать, что нам придется расстаться: Урсула и Джеффри поедут со мной в один дом божий, а он в другой. Я пытаюсь себя обмануть, будто он поймет, что это – его предназначение, пусть и не то, которое избрали бы мы, но неизбежное. Но он доверчиво не спрашивает. Он полагает, что мы останемся вместе, ему не приходит в голову, что его могут отослать прочь.
После отъезда из дома Реджинальд держится тихо, Джеффри радуется путешествию, а Урсула поначалу веселилась, но потом начинает хныкать. Реджинальд ни разу не спросил меня, куда мы едем, и я начинаю думать, что он каким-то образом уже узнал, что он хочет избежать этого разговора, как и я.
Только в последнее утро, когда мы едем по дорожке вдоль реки в сторону Шина, я говорю:
– Скоро будем на месте. Это твой новый дом.
Реджинальд, сидящий на пони, смотрит на меня снизу вверх.
– Наш новый дом?
– Нет, – коротко отвечаю я. – Я поселюсь недалеко, за рекой.
Он молчит, и я думаю, что он, возможно, не понял.
– Мы с тобой часто жили врозь, – напоминаю я. – Когда мне нужно было уезжать в Ладлоу и я вас оставляла в Стоуртоне.
Реджинальд смотрит на меня, широко распахнув глаза. Он не говорит: «Но тогда со мной были братья, и сестра, и все, кого я знал с рождения, а в детской была няня, и учитель занимался с братьями и со мной». Он просто смотрит на меня, ничего не понимая.
– Ты ведь меня не оставишь одного? – в конце концов спрашивает он. – У чужих? Мама? Ты ведь не оставишь меня?
Я качаю головой. Я едва могу заставить себя говорить.
– Я буду тебя навещать, – шепчу я. – Обещаю.
И вот мы видим высокие башни приората, ворота открываются, и сам приор выходит со мной поздороваться. Он берет Реджинальда за руку и помогает ему спешиться.
– Я буду приезжать повидаться с тобой, – обещаю я, сидя на лошади и глядя вниз на золотую корону его склоненной головы. – А тебе позволят навещать меня.
Стоя рядом с приором, он кажется очень маленьким. Он не вырывает руку, не сопротивляется, но поднимает ко мне бледное личико, смотрит на меня темными глазами и отчетливо произносит:
– Миледи матушка, позвольте мне ехать с вами, с братом и сестрой. Не оставляйте меня здесь.
– Ну, ну, – твердо говорит приор. – Пусть не возвышают голос дети, которым надлежит всегда молчать при тех, кто старше и лучше их. И в этом доме ты будешь говорить лишь тогда, когда тебе велят. Тишина, святая тишина. Ты научишься ее любить.
Реджинальд послушно прикусывает нижнюю губу и больше не произносит ни слова; но продолжает смотреть на меня.
– Я буду к тебе приезжать, – беспомощно говорю я. – Тебе здесь будет хорошо. Это славное место. Ты будешь служить Богу и церкви. Ты будешь тут счастлив, я уверена.
– Доброго дня, – произносит приор, намекая, что мне пора. – Что нужно сделать, лучше делать быстрее.
Я разворачиваю лошадь и оглядываюсь на сына. Реджинальду всего шесть, он кажется очень маленьким рядом с приором. Он бледен от страха. Он послушно молчит, но его маленький рот беззвучно складывается в слово «мама».
Я ничего не могу поделать. Ничего не могу сказать. Я разворачиваю лошадь и уезжаю.
Сайонское аббатство, Брентфорд, к западу от Лондона, зима 1506 года
Мой мальчик, Реджинальд, учится жить в тени и тишине, как и я. В Сайонском аббатстве, которым управляет орден бригитинок, нет молчальников, сестры даже ездят в Лондон учить и молиться; но я живу среди них, словно дала обет молчания, как мой мальчик. Я не могу говорить о своей обиде и горечи, а кроме горького и обидного, мне сказать нечего.
Я никогда не прощу Тюдорам это горе. Они прошли к трону по крови моих родичей. Они вытащили моего дядю Ричарда из грязи Босуортского поля, раздели донага, бросили через седло его собственного коня, а потом зарыли в безвестной могиле. Моего брата казнили для того, чтобы король Генрих чувствовал себя увереннее, моя кузина Елизавета умерла, пытаясь родить ему еще одного сына. Меня отдали замуж за бедного рыцаря, чтобы унизить, а теперь он умер, и я пала ниже, чем, казалось мне, может пасть Плантагенет. И все это – все! – лишь ради того, чтобы узаконить их право на трон, который они, как бы то ни было, захватили.
Но очевидно, что Тюдорам их завоевание и наше подчинение принесло немного радости. С тех пор как умерла его жена, наша принцесса, король не уверен в своих придворных, тревожится из-за подданных и страшится нас, Плантагенетов из дома Йорков. Он несколько лет засыпает деньгами императора Максимилиана, чтобы тот выдал моего кузена Эдмунда де ла Поула, претендента Йорков на трон, и отослал его домой на смерть. Теперь я узнаю, что сделка заключена. Император берет деньги и обещает Эдмунду, что ему ничто не угрожает, показывая письмо короля, сулящее безопасность. Письмо подписано самим королем. Это залог того, что Эдмунд может вернуться домой, ничего не опасаясь. Эдмунд хочет верить обещаниям Генриха Тюдора, он полагается на слово короля-помазанника. Он видит подпись, проверяет печать. Генрих Тюдор клянется, что Эдмунда ждет безопасная дорога и честная встреча. Эдмунд – Плантагенет, он любит свою страну и хочет вернуться домой. Но едва он минует решетку замка Кале, его берут под стражу.
С этого начинается череда обвинений, которая пройдет по моей родне, как ножницы сквозь шелк, и теперь я на коленях молюсь за них. Моего кузена Уильяма Куртене уже арестовали, теперь его обвиняют в заговоре и измене, моего родственника Уильяма де ла Поула жестоко допрашивают в камере. Кузен Томас Грей следующим оказывается за решеткой, лишь за то, что обедал со своим двоюродным братом Эдмундом де ла Поулом много лет назад, до того, как тот бежал за границу. Один за другим мужчины нашей семьи исчезают в Тауэре, их обрекают на одиночество и страх, их заставляют называть имена тех, кто звал их к обеду; их держат в этой мрачной тюрьме или тайно отсылают за море, в замок Кале.
Сайонское аббатство, Брентфорд, к западу от Лондона, весна 1507 года
Я пишу своим сыновьям, Генри и Артуру, чтобы узнать, как они, учатся ли они, прилежны ли; но не могу злоупотреблять щедростью аббатства, приглашая мальчиков сюда. Сестры в своем уединении не будут рады видеть двух резвых молодых людей, и к тому же я все равно не могу оплатить им дорогу.
Я вижусь с Реджинальдом лишь раз в три месяца, его отправляют ко мне за реку на нанятой гребной лодке. Он является, как велено, замерзший и скорчившийся на носу маленького ялика. Реджинальду позволяют остаться лишь на ночь, а потом нужно возвращаться. Его выучили молчать, и хорошо выучили; он не поднимает глаз, держит руки по швам. Когда я бегу ему навстречу и обнимаю его, он неподвижен и не идет ко мне, словно мой живой разговорчивый мальчик умер и погребен, и мне осталось обнимать только холодное маленькое надгробие.
Урсуле почти девять, она растет не по дням, а по часам. Я снова и снова отпускаю подолы платьев, доставшихся ей из милости. Пальцы ног двухлетнего Джеффри упираются изнутри в носки сапожек. Укладывая его спать, я глажу его ступни и расправляю пальцы, словно могу помешать им вырасти кривыми и скрюченными. Подати в Стоуртоне должным образом собирают и пересылают мне, но я должна отдавать все деньги аббатству – за наше содержание. Не знаю, как найти место Джеффри, когда он станет слишком большим, чтобы жить в аббатстве. Возможно, и его, и Урсулу придется отдать церкви, как и их брата Реджинальда, и они исчезнут в тишине. Я часами стою на коленях, моля Бога дать мне знак, или немного надежды, или просто послать денег; иногда я думаю, что, когда двух оставшихся мне детей навеки запрут в церкви, я привяжу к поясу мешок с булыжниками и уйду в холодные глубины Темзы.
Сайонское аббатство, Брентфорд, к западу от Лондона, март 1507 года
Я опускаюсь на колени на ступенях алтаря и смотрю на распятого Христа. Мне кажется, я иду скорбным путем Плантагенетов, одолеваю Via Dolorosa, как некогда Он, два долгих года.
Потом опасность подступает ко мне еще на шаг: король велит арестовать моего кузена Томаса Грея и кузена Джорджа Невилла, лорда Бергавенни, у которого живут мои мальчики, Генри и Артур. Оставив моих сыновей в Кенте, он отправляется в Тауэр, куда, по слухам, каждую ночь является лично сам король, чтобы наблюдать за пытками тех, кого подозревает. Разносчик, пришедший к воротам аббатства с грошовыми книжками и четками, рассказывает привратнице Джоан, что в городе поговаривают, будто король стал чудовищем, которому нравится слушать крики боли.
– Рытик он, – шепчет он.
Это старое слово, так называют проклятых кротов, которые роются во мраке среди мертвых и погребенных, и на них обрушивается земля.
Мне отчаянно хочется вызвать к себе сыновей, забрать их из дома человека, которого арестовали за предательство. Но я не смею. Я боюсь привлекать к себе внимание, я почти в заточении, почти прячусь, почти в святом убежище. Я не должна указать шпионам Тюдоров на Реджинальда, который живет в тишине в Шинском приюте, на Урсулу и себя саму, скрывшихся за молитвой в Сайоне, или на Джеффри, самого драгоценного, жмущегося ко мне. Монахини знают, что идти ему некуда, что даже трехлетнего ребенка нельзя выпускать в мир, поскольку нет сомнений, что Генрих Тюдор, учуяв кровь Плантагенетов, пойдет по его следу.
Этот король стал для народа мрачной загадкой. Он не похож на королей из моего дома – открытых, любивших наслаждения весельчаков, которые правили в согласии со всеми и добивались своего обаянием. Этот король следит за народом, ему достаточно одного слова, чтобы бросить человека в тюрьму и пытать, чтобы тот обвинял других, а они обвиняли его; но получив доказательство измены, он – поразительно! – прощает и отпускает помилованных; но налагает на них такие чудовищные штрафы, что служить ему они будут вечно, не избавятся и через десять поколений. Королем движет страх, им правит алчность.
Мой троюродный брат, Джордж Невилл, опекун моих мальчиков, выходит из Тауэра и ни слова не говорит о своей хромоте, которая, кажется, появилась оттого, что ему сломали ногу и дали ей неправильно срастись; он стал беднее на целое состояние, но он свободен. Другие мои кузены все еще в Тауэре. Джордж Невилл никому не рассказывает о соглашении, которое заключил в сырых тауэрских стенах, он молча выплачивает королю половину своего дохода, без слова жалобы. Его обложили такими штрафами, что двадцати шести друзьям пришлось за него поручиться, и ему запрещено возвращаться в его любимый дом в Кенте или в Суррей, Сассекс и Хемпшир. Он стал изгнанником в своей стране, хотя ему так и не предъявили обвинение и доказательств против него нет.
Никто из тех, кого арестовали с ним вместе, не говорит о своем договоре с королем, который каждый подписал в темных комнатах в подвале Тауэра, где стены толсты, а двери заперты на засов, и только король стоит в углу, пока его палач крутит винты дыбы и веревки врезаются в тело. Но говорят, что соглашения по огромным долгам подписаны кровью арестованных.
Кузен Джордж присылает мне краткое письмо.
Вы можете спокойно оставить мальчиков при мне, они вне подозрения. Я беднее, чем был, и изгнан из своего дома, но я все еще могу их приютить. Лучше оставьте их со мной, пока все не уляжется. Они укажут к вам дорогу, это лишнее. Лучше оставайтесь на месте и ведите себя тихо. Ни с кем не говорите, никому не доверяйте. Для Белой Розы нынче тяжелое время.
Я сжигаю письмо и не отвечаю на него.
Сайонское аббатство, Брентфорд, к западу от Лондона, весна 1509 года
Король с каждым годом становится все недоверчивее, он удаляется во внутренние покои дворца, сидит с матерью и отказывается пускать на порог чужих, удваивает число стражей у двери, постоянно, снова и снова, проверяет расходные книги, пытается сохранить мир, повязав тех, кто и без того был ему верен, огромными штрафами, забирает земли в залог хорошего поведения, требует даров по доброй воле, вмешивается в судебные дела и присваивает издержки. Саму справедливость теперь можно купить, заплатив королю. Безопасность можно купить, заплатив в его казну. Можно что-то вписать в отчеты, сделав подарок нужному слуге, а можно стереть за взятку. Уверенности нет ни в чем, кроме того, что за деньги, поданные в королевскую казну, можно купить все. Я думаю, мой кузен Джордж Невилл на грани разорения, он платит за свою свободу каждые три месяца, но никто не смеет написать мне и рассказать об этом. Я иногда получаю письма от Артура и Генри, и в них ни слова об аресте их хозяина и его возвращении, разоренным и сломленным, изгнанным из дома, который был его гордостью. Мальчикам всего шестнадцать и четырнадцать, но они уже знают, что мужчинам нашего рода нужно молчать. Они родились в самой одаренной, самой умной и пытливой семье в Англии и научились придерживать языки, чтобы их не вырвали. Они знают, что, если в твоих жилах течет кровь Плантагенетов, лучше тебе родиться глухонемым. Я читаю их невинные письма и сжигаю, прочитав. Я не смею хранить даже добрые пожелания моих мальчиков. Никто из нас не смеет ничем владеть.
Я вдовею четыре года, помощи мне ждать неоткуда, денег едва хватает на пропитание, крыши для детей нет, приданого для дочери нет, невест для сыновей тоже, нет друзей, нет шансов снова выйти замуж, поскольку я не вижу мужчин, кроме священников; я по восемь часов в день стою на коленях вместе с монахинями, соблюдая литургические часы, и наблюдаю, как меняются мои молитвы.
В первый год я молюсь о помощи, на второй – об освобождении. К концу третьего молюсь о смерти короля Генриха, о проклятии его матери и о возвращении моего дома, дома Йорков. В молчании я стала желчным мятежником. Я желаю Тюдорам гореть в аду и начинаю надеяться, что проклятие, наложенное на них кузиной Елизаветой и ее матерью, все еще действует, через все эти годы, что оно покончит с Тюдорами и оборвет их род.
Сайонское аббатство, Брентфорд, к западу от Лондона, апрель 1509 года
Первой мне сообщает новости старая привратница аббатства, которая прибегает к двери моей кельи и распахивает ее, не постучав. Урсула на своей раскладной койке не шевелится, но Джеффри спит со мной на узкой кровати, в моих объятиях, и поднимает голову, когда Джоан входит и провозглашает:
– Король умер. Проснитесь, миледи. Мы свободны. Бог милостив. Он нас благословил. Он спас нас. Проклятие зверя багряного снято. Король умер.
Мне снилось, что я при дворе дяди Ричарда в Шериф-Хаттоне и кузина Елизавета танцевала для него в вихре золотой и серебряной парчи. Я тут же сажусь и говорю Джоан:
– Тише. Не стану я это слушать.
Ее старое, многое повидавшее лицо расплывается в улыбке. Никогда раньше не видела, чтобы она улыбалась.
– Вы это выслушаете! – говорит она. – И каждый может это сказать, каждый может услышать. Потому что хозяин всех шпионов умер и шпионов выгнали с работы. Король умер, и трон теперь перейдет чудному, чудному принцу – как раз вовремя, чтобы нас всех спасти.
Тут начинает звонить колокол аббатства, ровным, глубоким звуком, и Джеффри вскакивает на колени и кричит:
– Ура! Ура! Генри будет королем?
– Конечно, – отвечает старуха, ловя его маленькие ручки и поднимая его, так что он танцует на кровати. – Господь благослови его и день, когда он взойдет на престол.
– Мой брат Генри! – взвизгивает Джеффри. – Король Англии!
Меня приводит в такой ужас эта невинная изменническая речь, что я хватаю Джеффри и зажимаю ему рот ладонью, поворачиваясь к Джоан с отчаянной мольбой о молчании. Но она лишь качает головой, глядя на Джеффри, и смеется над его гордостью.
– По праву – да, – смело говорит она. – Им должен стать твой брат Генри. Но у нас есть чудный мальчик из Тюдоров на смену хозяину потливой горячки, и принц Гарри Тюдор взойдет на престол, а шпионы и сборщики налогов уйдут в прошлое.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































