Текст книги "Анти-Дюринг. Диалектика природы"
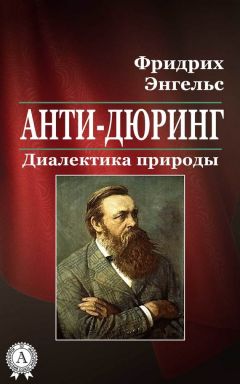
Автор книги: Фридрих Энгельс
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 58 страниц)
Следовательно, не только морального, но и умственного неравенства достаточно для того, чтобы устранить «полное равенство» двух воль и утвердить такую мораль, согласно которой можно оправдать все позорные деяния цивилизованных государств-грабителей по отношению к отсталым народам, вплоть до зверств русских в Туркестане.[78]78
Речь идет о событиях, имевших место в период завоевания царской Россией Средней Азии. Во время хивинского похода 1873 г. по приказу генерала Кауфмана отряд русских войск под командованием генерала Головачева в июле – августе совершил карательную экспедицию против туркменского племени иомудов; экспедиция отличалась крайней жестокостью. Основным источником, из которого Энгельс заимствовал данные об этих событиях, явилась, очевидно, книга американского дипломата в России Юджина Скилера «Туркестан. Заметки о путешествии в Русский Туркестан, Коканд, Бухару и Кульджу» (Е. Schuyler. «Turkistan. Notes of a Journey in Russian Turkistan, Khokand, Bukhara, and Kuldja». In two volumes. Vol. II, London, 1876, p. 356–359).
[Закрыть] Когда генерал Кауфман летом 1873 г. напал на татарское племя иомудов, сжег их шатры и велел изрубить их жен и детей, «согласно доброму кавказскому обычаю», как было сказано в приказе, то он тоже утверждал, что подчинение враждебной, вследствие своей извращенности, воли иомудов, с целью ввести ее в рамки общежития, стало неизбежной необходимостью и что примененные им средства наиболее целесообразны; а кто хочет какой-нибудь цели, тот должен хотеть и средств к ее достижению. Но только он не был настолько жесток, чтобы вдобавок еще глумиться над иомудами и говорить, что, истребляя их в целях выравнивания, он этим как раз признаёт их волю равноправной. И опять-таки в этом конфликте люди избранные, поступающие якобы сообразно с истиной и наукой, – следовательно, в конечном счете философы действительности, – призваны решать, что такое суеверие, предрассудок, грубость, злые наклонности характера, а также решать, когда именно необходимы насилие и подчинение в целях выравнивания. Равенство, таким образом, превратилось теперь в… выравнивание путем насилия, и первая воля признаёт равноправность второй путем ее подчинения. Отступление № 3, переходящее здесь уже в позорное бегство.
Мимоходом заметим: фраза о том, что чужая воля признаётся равноправной именно в процессе выравнивания путем насилия, представляет собой только искажение теории Гегеля, согласно которой наказание есть право преступника:
«В том, что наказание рассматривается как заключающее в себе собственное право преступника, содержится уважение к преступнику как к разумному существу» («Философия права», § 100, Примечание).
Здесь мы можем остановиться. Было бы излишним следовать еще далее за г-ном Дюрингом, наблюдая, как он сам разрушает по частям столь аксиоматически установленное им равенство, общечеловеческую суверенность и т. д.; как он, ухитрившись построить общество с помощью двух мужей, вынужден, однако, для конструирования государства привлечь еще третьего, ибо, – вкратце излагая дело, – без этого третьего не могут состояться никакие постановления большинства, а без таких постановлений – следовательно, также без господства большинства над меньшинством – не может существовать ни одно государство; как он затем постепенно сворачивает в более спокойный фарватер конструирования своего социалитарного государства будущего, где мы еще будем иметь честь навестить его в одно прекрасное утро. Мы в достаточной мере могли убедиться, что полное равенство двух воль существует лишь до тех пор, пока обе эти воли ничего не желают, но как только они перестают быть абстрактными человеческими волями и превращаются в действительные индивидуальные воли, в воли двух действительных людей, – равенство тотчас же прекращается. Мы видели, что детский возраст, безумие, так называемые зверские черты характера, мнимые суеверия, приписываемые предрассудки, предполагаемая неспособность у одной стороны и воображаемая человечность, понимание истины и науки у другой, – одним словом, всякое различие в качестве обеих воль и сопровождающих их интеллектов оправдывает неравенство между людьми, которое может доходить до подчинения. Чего же нам тут требовать еще, раз г-н Дюринг разрушил свое собственное здание равенства столь коренным образом и до самого основания?
Но если мы и покончили с плоской и несуразной дюринговской трактовкой представления о равенстве, то это еще не значит, что мы покончили с самим этим представлением, которое играло, в особенности благодаря Руссо, определенную теоретическую роль, а во время великой революции и после нее – практически-политическую роль и которое еще и теперь играет значительную агитационную роль в социалистическом движении почти всех стран. Выяснение научного содержания этого представления определит также и его ценность для пролетарской агитации.
Представление о том, что все люди как люди имеют между собой нечто общее и что они, насколько простирается это общее, также равны, само собой разумеется, очень старо. Но от этого представления совершенно отлично современное требование равенства. Это требование состоит, скорее, в том, что из того общего свойства людей, что они люди, из равенства людей как людей, оно выводит право на равное политическое и – соответственно – социальное значение всех людей или, по крайней мере, всех граждан данного государства или всех членов данного общества. Должны были пройти и действительно прошли целые тысячелетия, прежде чем из первоначального представления об относительном равенстве был сделан вывод о равноправии в государстве и обществе и этот вывод даже стал казаться чем-то естественным, само собой разумеющимся. В древнейших первобытных общинах речь могла идти в лучшем случае о равноправии членов общины; женщины, рабы, чужестранцы, само собой разумеется, не входили в круг этих равноправных людей. У греков и римлян неравенства между людьми играли гораздо большую роль, чем равенство их в каком бы то ни было отношении. Древним показалась бы безумной мысль о том, что греки и варвары, свободные и рабы, граждане государства и те, кто только пользуется его покровительством, римские граждане и римские подданные (употребляя последнее слово в широком смысле), – что все они могут претендовать на равное политическое значение. Под властью Римской империи все эти различия постепенно исчезли, за исключением различия между свободными и рабами; таким образом возникло, по крайней мере для свободных, то равенство частных лиц, на почве которого развилось римское право, совершеннейшая, какую мы только знаем, форма права, имеющего своей основой частную собственность. Но пока существовала противоположность между свободными и рабами, до тех пор не могло быть и речи о правовых выводах, вытекающих из общечеловеческого равенства; это мы еще недавно видели в рабовладельческих штатах североамериканского союза.
Христианство знало только одно равенство для всех людей, а именно – равенство первородного греха, что вполне соответствовало его характеру религии рабов и угнетенных. Наряду с этим оно, в лучшем случае, признавало еще равенство избранных, которое подчеркивалось, однако, только в самый начальный период христианства. Следы общности имущества, которые также встречаются на первоначальной стадии новой религии, объясняются скорее сплоченностью людей, подвергавшихся гонениям, чем действительными представлениями о равенстве. Очень скоро установление противоположности между священником и мирянином положило конец и этому зачатку христианского равенства. – Наводнение Западной Европы германцами устранило на столетия все представления о равенстве, создав постепенно социальную и политическую иерархию столь сложного типа, какого до тех пор еще не существовало. Но одновременно оно вовлекло в историческое движение Западную и Центральную Европу и создало впервые компактную культурную область, где впервые возникла система преимущественно национальных государств, которые друг на друга влияли и держали друг друга в страхе. Таким путем была подготовлена почва, на которой только и стало возможным в позднейшее время говорить о человеческом равенстве, о правах человека.
Кроме того, в недрах феодального средневековья сложился тот класс, который призван был сделаться в своем дальнейшем развитии носителем современного требования равенства, а именно – буржуазия. Буржуазия, бывшая первоначально сама феодальным сословием, довела преимущественно ремесленную промышленность и обмен продуктов внутри феодального общества до сравнительно высокой ступени развития, когда в конце XV века великие открытия морских путей развернули перед ней новое, более широкое поприще. Внеевропейская торговля, которая до тех пор велась только между Италией и Левантом, распространилась теперь на Америку и Индию и скоро превысила по своему значению как обмен отдельных европейских стран между собой, так и внутренний обмен каждой отдельной страны. Американское золото и серебро наводнили Европу и как разлагающий элемент проникли во все щели, трещины и поры феодального общества. Ремесленное производство перестало удовлетворять растущий спрос; в ведущих отраслях промышленности наиболее передовых стран оно было заменено мануфактурой.
Однако вслед за этим громадным переворотом в экономических условиях жизни общества далеко не сразу наступило соответствующее изменение его политической структуры. Государственный строй оставался феодальным, тогда как общество становилось все более и более буржуазным. Торговля в крупном масштабе, следовательно в особенности международная, а тем более – мировая торговля, требует свободных, не стесненных в своих движениях товаровладельцев, которые как таковые равноправны и ведут между собой обмен на основе одинакового для них всех права, – одинакового по крайней мере в каждом данном месте. Переход от ремесла к мануфактуре имеет своей предпосылкой существование известного числа свободных рабочих, – свободных, с одной стороны, от цеховых пут, а с другой – от средств, необходимых для самостоятельного использования своей рабочей силы, – людей, которые могут договариваться с фабрикантом о найме их рабочей силы и, следовательно, противостоят ему как равноправная договаривающаяся сторона. И, наконец, равенство и равнозначность всех видов человеческого труда, поскольку они являются человеческим трудом вообще,[79]79
Энгельс цитирует здесь I том «Капитала» (см. настоящее издание, т. 23, стр. 69).
[Закрыть] нашло свое бессознательное, но наиболее яркое выражение в законе стоимости современной буржуазной политической экономии, – законе, согласно которому стоимость какого-либо товара измеряется содержащимся в нем общественно необходимым трудом.[80]80
Это объяснение современных представлений о равенстве из экономических условий буржуазного общества было развито впервые Марксом в «Капитале».
[Закрыть] – Однако там, где экономические отношения требовали свободы и равноправия, политический строй противопоставлял им на каждом шагу цеховые путы и особые привилегии. Местные привилегии, дифференциальные пошлины и всякого рода исключительные законы стесняли не только торговлю чужестранцев или жителей колоний, но довольно часто также и торговлю целых категорий собственных подданных государства; цеховые привилегии всюду и всегда стояли поперек дороги развитию мануфактуры. Нигде путь не был свободен, нигде не было равенства шансов для буржуазных конкурентов, а между тем это равенство являлось первым и все более настоятельным требованием.
Как только экономический прогресс общества поставил в порядок дня требование освобождения от феодальных оков и установления правового равенства путем устранения феодальных неравенств, – это требование по необходимости должно было скоро принять более широкие размеры. Хотя оно было выдвинуто в интересах промышленности и торговли, но того же равноправия приходилось требовать и для громадной массы крестьян. Крестьяне, находясь на всех ступенях порабощения, вплоть до полного крепостного состояния, принуждены были большую часть своего рабочего времени отдавать безвозмездно всемилостивому феодальному сеньору и сверх того уплачивать еще бесчисленные оброки в пользу него и государства. С другой стороны, неизбежно должно было возникнуть требование, чтобы были уничтожены и феодальные преимущества, чтобы были отменены свобода дворянства от податей и политические привилегии отдельных сословий. А так как дело происходило уже не в мировой империи, какой была Римская империя, а в системе независимых государств, которые вступали в сношения друг с другом как равные, находясь приблизительно на одинаковой ступени буржуазного развития, то естественно, что требование равенства приняло всеобщий, выходящий за пределы отдельного государства характер, что свобода и равенство были провозглашены правами человека. При этом для специфически буржуазного характера этих прав человека весьма показательно то обстоятельство, что американская конституция, которая первая выступила с признанием прав человека, в то же самое время санкционирует существующее в Америке рабство цветных рас; классовые привилегии были заклеймены, расовые привилегии – освящены.
Известно, однако, что с того момента, когда буржуазия вылупляется из феодального бюргерства, превращаясь из средневекового сословия в современный класс, ее всегда и неизбежно сопровождает, как тень, пролетариат. Точно так же буржуазные требования равенства сопровождаются пролетарскими требованиями равенства. С того момента, как выдвигается буржуазное требование уничтожения классовых привилегий, рядом с ним выступает и пролетарское требование уничтожения самих классов, сначала – в религиозной форме, примыкая к первоначальному христианству, а потом – на основе самих буржуазных теорий равенства. Пролетарии ловят буржуазию на слове: равенство должно быть не только мнимым, оно должно осуществляться не только в сфере государства, но и быть действительным, оно должно проводиться и в общественной, экономической сфере. И в особенности с тех пор, как французская буржуазия, начиная с великой революции, выдвинула на первый план гражданское равенство, – французский пролетариат немедленно вслед за этим ответил ей требованием социального, экономического равенства, и требование это стало боевым кличем, характерным как раз для французских рабочих.
Требование равенства в устах пролетариата имеет, таким образом, двоякое значение. Либо оно является – и это бывает особенно в самые начальные моменты, например в Крестьянской войне, – стихийной реакцией против вопиющих социальных неравенств, против контраста между богатыми и бедными, между господами и крепостными, обжорами и голодающими; в этой своей форме оно является просто выражением революционного инстинкта и в этом, только в этом, находит свое оправдание. Либо же пролетарское требование равенства возникает как реакция против буржуазного требования равенства, из которого оно выводит более или менее правильные, идущие дальше требования; оно служит тогда агитационным средством, чтобы поднять рабочих против капиталистов при помощи аргументов самих капиталистов, и в таком случае судьба этого требования неразрывно связана с судьбой самого буржуазного равенства. В обоих случаях действительное содержание пролетарского требования равенства сводится к требованию уничтожения классов. Всякое требование равенства, идущее дальше этого, неизбежно приводит к нелепости. Мы уже привели примеры подобных нелепостей, и нам придется еще указать немалое число их, когда мы дойдем до фантазий г-на Дюринга относительно будущего.
Таким образом, представление о равенстве, как в буржуазной, так и в пролетарской своей форме, само есть продукт исторического развития; для создания этого представления необходимы были определенные исторические условия, предполагающие, в свою очередь, долгую предшествующую историю. Такое представление о равенстве есть, следовательно, все что угодно, только не вечная истина. И если в настоящее время оно – в том или другом смысле – является для широкой публики чем-то само собой разумеющимся, или, по выражению Маркса, «уже приобрело прочность народного предрассудка»,[81]81
К. Marx. «Das Kapital». Bd. I, 2. AufL, Hamburg, 1872, S. 36 (К. Маркс. «Капитал». Т. I, 2 изд., Гамбург, 1872, стр. 36). См. настоящее издание, т. 23, стр. 69. В «Анти-Дюринге» Энгельс цитирует I том «Капитала» по второму немецкому изданию. Только в X главе второго отдела Энгельс при переработке этой главы для третьего издания «Анти-Дюринга» использовал третье немецкое издание I тома «Капитала».
[Закрыть] то это – не результат аксиоматической истинности этого представления, а результат того, что идеи XVIII века получили всеобщее распространение и продолжают сохранять свое значение и для нашего времени. Таким образом, если г-н Дюринг без дальних околичностей может позволить своим пресловутым двум мужам хозяйничать на почве равенства, то это происходит оттого, что народному предрассудку это кажется совершенно естественным. И в самом деле, г-н Дюринг называет свою философию естественной, так как она исходит из таких только представлений, которые ему кажутся совершенно естественными. Но почему они кажутся ему естественными, – этого вопроса он, конечно, и не ставит.
«Для политической и юридической области в основу высказанных в этом «Курсе» принципов были положены углубленнейшие специальные занятия. Поэтому… необходимо исходить из того, что здесь… дело идет о последовательном изложении результатов, достигнутых в области юриспруденции и государствоведения. Моей первоначальной специальностью была как раз юриспруденция, и я посвятил ей не только обычные три года теоретической университетской подготовки: в течение трех последующих лет судебной практики я продолжал изучение этого предмета, причем мои занятия были направлены, главным образом, на углубление его научного содержания… Точно так же моя критика частноправовых отношений и соответствующих юридических несуразностей не могла бы, конечно, выступить с такой же уверенностью, не будь у нее сознания, что ей известны все слабые стороны этой специальности так же хорошо, как и ее сильные стороны».
Человек, имеющий основание так говорить о самом себе, должен заранее внушать к себе доверие, особенно в сравнении с «г-ном Марксом, изучавшим когда-то, по его собственному признанию, небрежно юридические науки».
Поэтому нас не может не удивить, что выступающая с такой уверенностью критика частноправовых отношений ограничивается повествованием о том, что «юриспруденция недалеко ушла в отношении научности…», что положительное гражданское право есть бесправие, так как санкционирует насильственную собственность, и что «естественной основой» уголовного права является месть, – утверждение, в котором новым является разве только мистическое облачение в «естественную основу». Достижения государствоведения ограничиваются повествованием о взаимоотношениях известных уже нам трех мужей, из которых один до сих пор всегда совершал насилие над остальными, причем г-н Дюринг пресерьезно обсуждает вопрос о том, кто ввел впервые насилие и порабощение, – второе или третье из этих лиц.
Проследим, однако, несколько далее углубленнейшие специальные занятия и научность нашего самоуверенного юриста, углубленную трехлетней судебной практикой. О Лассале г-н Дюринг рассказывает нам, что он был привлечен к судебной ответственности «за побуждение к покушению на похищение шкатулки», но «осуждение не состоялось, ибо было применено еще возможное в то время так называемое оправдание за недоказанностью обвинения… это полуоправдание».
Процесс Лассаля, о котором здесь идет речь, разбирался летом 1848 г. перед судом присяжных в Кёльне,[82]82
Лассаль был арестован в феврале 1848 г. по обвинению в подстрекательстве к краже шкатулки с документами для использования их в бракоразводном процессе графини Гацфельдт, который Лассаль вел в качестве адвоката с 1846 по 1854 год. Процесс Лассаля состоялся 5—11 августа 1848 года. Судом присяжных Лассаль был оправдан.
[Закрыть] где, как почти во всей Рейнской провинции, действовало французское уголовное право. Только для политических проступков и преступлений там, в виде исключения, введено было прусское право, но уже в апреле 1848 г. это исключительное постановление было опять отменено Кампгаузеном. Французское право вовсе не знает расплывчатой категории прусского права – «побуждение» к преступлению, а тем более «побуждение к покушению на преступление». Оно знает только подстрекательство к преступлению, причем для наказуемости подстрекательства требуется, чтобы оно было произведено «путем подарков, обещаний, угроз, злоупотребления своим положением или силой, путем коварных подговоров или наказуемых проделок» (Code penal, ст. 60).[83]83
Code penal – французский Уголовный кодекс, принятый в 1810 и введенный с 1811 г. во Франции и в завоеванных французами областях Западной и Юго-Западной Германии; наряду с Гражданским кодексом действовал в Рейнской провинции и после присоединения ее к Пруссии в 1815 году. Прусское правительство посредством целого ряда мероприятий стремилось внедрить в этой провинции прусское право. Эти мероприятия, вызвавшие решительную оппозицию в Рейнской провинции, были отменены после мартовской революции указами от 15 апреля 1848 года.
[Закрыть] Прокуратура, углубившись в прусское право, проглядела, подобно г-ну Дюрингу, существенное различие между строго определенным французским законом и расплывчатой неопределенностью прусского права, возбудила против Лассаля тенденциозный процесс и блистательно провалилась. Утверждать же, будто французский уголовный процесс знает категорию прусского права – «оправдание за недоказанностью обвинения», это полуоправдание, – на это может отважиться лишь совершенный невежда в области современного французского права; последнее признаёт в уголовном процессе только осуждение или оправдание – и ничего среднего между ними.
Таким образом, мы должны сказать, что г-н Дюринг, конечно, не мог бы с такой уверенностью применить к Лассалю свою «историографию в высоком стиле», если бы когда-либо держал в руках Code Napoleon.[84]84
Code Napoleon (Кодекс Наполеона) – французский Гражданский кодекс (Code civil), принятый в 1804 году. Энгельс назвал его «классическим сводом законов буржуазного общества» (см. настоящее издание, т. 21, стр. 311). // В данном месте «Анти-Дюринга» Энгельс говорит о Кодексе Наполеона в широком смысле, имея в виду совокупность пяти кодексов, принятых при Наполеоне в 1804–1810 годах: гражданский, гражданский процессуальный, торговых, уголовный и уголовно-процессуальный.
[Закрыть] Мы должны, следовательно, констатировать, что г-ну Дюрингу совершенно неизвестен единственный современный буржуазный кодекс, имеющий своей основой социальные завоевания великой французской революции, которые этот кодекс переводит на юридический язык, – т. е. совершенно неизвестно современное французское право.
В другом месте, где г-н Дюринг критикует введенный на всем континенте, по французскому образцу, суд присяжных, принимающий решение большинством голосов, мы находим следующее поучение:
«Да, можно будет даже освоиться с такой, – не лишенной, впрочем, некоторых исторических примеров, – мыслью, что в совершенном обществе осуждение, при наличии возражающих голосов, будет немыслимым институтом… Однако этот серьезный и глубоко идейный образ мысли, как уже отмечено выше, должен казаться для традиционных форм неподходящим потому, что он для них слишком хорош».
Г-ну Дюрингу опять-таки неизвестно, что единогласие присяжных, – не только в приговорах по уголовным делам, но и при решениях в гражданских процессах, – безусловно необходимо по английскому общему праву, т. е. по тому неписаному обычному праву, которое действует в Англии с. незапамятных времен, следовательно, по меньшей мере с XIV века. Таким образом, тот серьезный и глубоко идейный образ мысли, который, по мнению г-на Дюринга, слишком хорош для современного мира, имел в Англии силу закона уже в самое мрачное время средневековья и из Англии был перенесен в Ирландию, в Соединенные Штаты Америки и во все английские колонии, – причем углубленнейшие специальные занятия не подсказали г-ну Дюрингу по этому вопросу ни единого слова! Итак, сфера действия единогласного решения присяжных не только бесконечно велика по сравнению с ничтожной областью, в которой действует прусское право, но она даже более обширна, чем все области, вместе взятые, в которых дела решаются большинством голосов присяжных. Г-ну Дюрингу совершенно неизвестно не только единственное современное право – французское; он обнаруживает такое же невежество и относительно единственного германского права, которое до настоящего времени продолжает развиваться независимо от римского авторитета и распространилось по всем частям света, – относительно английского права. Да и зачем его знать? Ведь английская манера юридического мышления «все равно оказалась бы несостоятельной перед сложившейся на немецкой почве системой воспитания в духе чистых понятий классических римских юристов», говорит г-н Дюринг и добавляет далее:
«Что значит говорящий по-английски мир со своим детским языком-мешаниной по сравнению с нашим самобытным языковым строем?».
На это мы можем только ответить вместе со Спинозой: Iguorantia non est argumentum, невежество не есть аргумент.[85]85
О том, что невежество не есть аргумент, Спиноза говорит в «Этике» (часть первая, прибавление), выступая против представителей поповско-телеологического взгляда на природу, которые выставляли «волю бога» как причину причин всех явлений и у которых единственным средством аргументации оставалась апелляция к незнанию иных причин.
[Закрыть]
После всего этого мы не можем прийти к иному выводу, кроме того, что углубленнейшие специальные занятия г-на Дюринга состояли лишь в том, что три года он углублялся теоретически в Corpus juris,[86]86
Corpus juris civilis (Корпус юрис цивилис) – свод гражданского права, регулировавший имущественные отношения римского рабовладельческого общества; составлен в VI в. при императоре Юстиниане. Энгельс охарактеризовал его как «первое всемирное право общества товаропроизводителей» (см. настоящее издание, т. 21, стр. 311).
[Закрыть] а последующие три года углублялся практически в благородное прусское право. Конечно, такая ученость уже сама по себе представляет заслугу и была бы достаточной для какого-нибудь весьма почтенного старопрусского уездного судьи или адвоката. Но когда берешься сочинять философию права для всех миров и для всех времен, то следовало бы хоть кое-что знать также и о правовых отношениях таких наций, как французы, англичане и американцы, – наций, игравших в истории совсем иную роль, чем тот уголок Германии, где процветает прусское право. Однако пойдем дальше.
«Пестрая смесь местных, провинциальных и общеземельных прав, которые самым произвольным образом перекрещиваются в самых разнообразных направлениях, то как обычное право, то как писаный закон, создаваемый часто путем придания важнейшим решениям уставной формы в ее чистом виде, – эта коллекция образчиков беспорядка и противоречия, где частности уничтожают общее, а затем, при случае, общие определения уничтожают частные, поистине не пригодна для того, чтобы создать у кого-либо ясное правосознание».
Но где же царит эта путаница? Опять-таки в сфере действия прусского права, где рядом с ним, над ним и под ним сохраняют силу в самых разнообразных степенях провинциальные права и местные статуты, кое-где также и общегерманское право и прочий хлам, вызывая у всех юристов-практиков тот крик отчаяния, которому здесь с таким сочувствием вторит г-н Дюринг. Ему нет надобности покидать свою любимую Пруссию, а достаточно посетить Рейнскую провинцию, чтобы убедиться, что вот уже семьдесят лет, как там со всем этим покончено, не говоря о других цивилизованных странах, где подобные устарелые порядки давно устранены.
Далее:
«В менее резкой форме естественная личная ответственность прикрывается тайными, а потому и анонимными, коллективными решениями и коллективными действиями коллегий или иных бюрократических учреждений, которые маскируют личное участие каждого члена».
И в другом месте:
«При наших теперешних порядках покажется поразительным и крайне строгим требованием, если кто-либо выскажется против маскировки и прикрытия личной ответственности коллегиями».
Быть может, г-ну Дюрингу покажется поразительной новостью, если мы сообщим ему, что в сфере действия английского права каждый член судебной коллегии должен отдельно высказать и мотивировать свое суждение на открытом заседании, что невыборные административные коллегии, без открытого ведения дел и открытого голосования, представляют собой преимущественно прусское учреждение и неизвестны в большинстве других стран и что поэтому его требование может казаться поразительным и крайне строгим только… в Пруссии.
Точно так же и его жалобы на принудительное вмешательство церкви, с ее обрядами, при рождении, браке, смерти и погребении могли бы относиться, – если речь идет о более крупных цивилизованных странах, – только к Пруссии, а со времени введения в ней книг для записей актов гражданского состояния эти жалобы не относятся больше и к ней.[87]87
Закон о введении в Пруссии, в обязательном порядке, гражданской регистрации рождений, браков и смертей был принят по инициативе Бисмарка; он был окончательно утвержден 9 марта и введен в действие с 1 октября 1874 года. 6 февраля 1875 г. был издан аналогичный закон для всей Германской империи. Этот закон лишал церковь права регистрации актов гражданского состояния и тем самым значительно ограничивал ее влияние и доходы. Он был направлен преимущественно против католической церкви и явился существенным звеном в бисмарковской политике так называемой «борьбы за культуру» («культуркампф»).
[Закрыть] То, что г-н Дюринг надеется осуществить только посредством своего «социалитарного» будущего строя, успел тем временем сделать даже Бисмарк посредством простого закона. – Такую же специфически прусскую иеремиаду можно услышать в жалобе г-на Дюринга по поводу «недостаточной подготовки юристов к выполнению своей профессии», – жалобе, которую г-н Дюринг распространяет и на «чиновников администрации». Даже утрированное до карикатуры юдофобство, которое при всяком случае выставляет напоказ г-н Дюринг, и то составляет если не специфически прусскую, то все же специфически ост-эльбскую особенность. Тот самый философ действительности, который суверенно смотрит сверху вниз на все предрассудки и суеверия, сам до такой степени находится во власти личных причуд, что сохранившийся от средневекового ханжества народный предрассудок против евреев он называет «естественным суждением», покоящимся на «естественных основаниях», и даже доходит до следующего монументального утверждения: «социализм – это единственная сила, способная успешно бороться против состояний населения с сильной еврейской подмесью» (состояний с еврейской подмесью! – Какой это «естественный» язык!).
Довольно. Невероятное хвастовство своей юридической ученостью имеет подоплекой, в лучшем случае, самые заурядные профессиональные познания зауряднейшего старопрусского юриста. Область тех достижений юриспруденции и государствоведения, которые нам последовательно излагает г-н Дюринг, в точности «совпадает» со сферой действия прусского права. Кроме римского права, знакомого теперь каждому юристу даже в Англии, юридические познания г-на Дюринга ограничиваются единственно и исключительно прусским правом, этим кодексом просвещенного патриархального деспотизма, написанным таким языком, словно по этой книге г-н Дюринг учился грамоте, – кодексом, который со своими нравоучительными замечаниями, своей юридической неопределенностью и шаткостью, своими мерами пытки и наказания, в виде палочных ударов, принадлежит еще всецело к дореволюционному времени. Что сверх того, то для г-на Дюринга от лукавого, – как современное буржуазное французское право, так и английское право с его совершенно своеобразным развитием и его гарантиями личной свободы, неизвестными на всем континенте. Философия, которая «не признаёт никакого просто видимого горизонта, но в своем производящем мощный переворот движении развертывает все земли и все небеса внешней и внутренней природы», – эта философия имеет своим действительным горизонтом… границы шести старопрусских восточных провинций[88]88
Речь идет о провинциях Бранденбург, Восточная Пруссия, Западная Пруссия, Познань, Померания и Силезия, которые входили в состав Прусского королевства до Венского конгресса 1815 года. К числу этих провинций не относилась, в частности, наиболее развитая в экономическом, политическом и культурном отношениях Рейнская провинция, которая была присоединена к Пруссии в 1815 году.
[Закрыть] и, пожалуй, еще нескольких других клочков земли, где действует благородное прусское право; за пределами же этого горизонта она не развертывает ни земель, ни небес, ни внешней, ни внутренней природы, а развертывает только картину собственного грубейшего невежества относительно всего, что совершается в остальном мире.
Невозможно рассуждать о морали и праве, не касаясь вопроса о так называемой свободе воли, о вменяемости человека, об отношении между необходимостью и свободой. Философия действительности тоже имеет решение этого вопроса и даже не одно, а целых два.
«На место всех ложных теорий свободы надо поставить эмпирические свойства того отношения, в котором рациональное понимание, с одной стороны, а с другой – инстинктивные побуждения как бы соединяются в некоторую равнодействующую силу. Основные факты этого рода динамики должны быть взяты из. наблюдения и, насколько это окажется возможным, определены также и в общем виде в отношении качества и величины, чтобы на их основании измерять наперед события, еще не наступившие. Таким путем не только основательно устраняются нелепые фантазии о внутренней свободе, которые пережевывали и которыми кормились целые тысячелетия, но они заменяются также чем-то положительным, пригодным для практического устройства жизни».
Согласно этому взгляду, свобода состоит в том, что рациональное понимание тянет человека вправо, иррациональные влечения – влево и при наличии этого параллелограмма сил действительное движение происходит по направлению диагонали. Следовательно, свобода является здесь средней величиной между пониманием и влечением, разумом и неразумием, и степень этой свободы могла бы быть эмпирически установлена у каждого человека посредством «личного уравнения», пользуясь астрономическим выражением.[89]89
Личное уравнение – систематическая ошибка в определении момента прохождения небесного тела через заданную плоскость, зависящая от психо-физиологических особенностей наблюдателя и от способа регистрации прохождения.
[Закрыть] Однако немногими страницами дальше г-н Дюринг заявляет:
«Мы основываем нравственную ответственность на свободе, которая означает, впрочем, для нас не что иное, как восприимчивость к сознательным мотивам, сообразно природному и приобретенному рассудку. Все такие мотивы действуют с непреодолимой естественной закономерностью, несмотря на то, что мы воспринимаем возможность противоположных поступков; но как раз на это неизбежное принуждение мы и рассчитываем, когда приводим в действие моральные рычаги».









































