Текст книги "Письма об эстетическом воспитании человека"
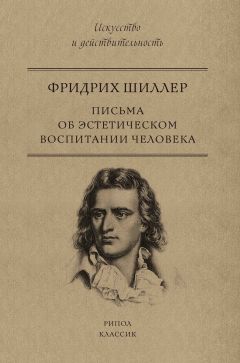
Автор книги: Фридрих Шиллер
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 9 страниц)
Письмо 20
Уже из самого понятия свободы ясно, что на нее нельзя влиять, но из предшествующего с тою же необходимостью следует, что свобода есть следствие природы (понимая это слово в самом обширном смысле), а не дело человека, так что свобода может быть и естественными средствами усилена и задержана. Свобода возникает лишь тогда, когда человек закончен, когда оба побуждения развились в нем; итак, она должна отсутствовать, пока человек не развился полностью, пока одно из обоих побуждений исключено, и, напротив, свобода вновь восстанавливается всем тем, что возвращает человеку его полноту.
Возможно, однако, указать момент как в целом роде, так и в единичном человеке, когда человек еще не закончен и когда в нем действует лишь одно из обоих побуждений. Мы знаем, что человек начинает непосредственной жизнью, чтобы закончить формой, что он ранее индивид, чем личность, что он переходит к бесконечности от ограничения. Итак, чувственное побуждение обнаруживается ранее, чем разумное, ибо ощущение предшествует сознанию, и в этом приоритете чувственного побуждения мы находим разгадку всей истории человеческой свободы.
Ибо существует момент, когда побуждение к жизни, которому еще не противодействует побуждение к форме, действует как нечто природное и необходимое, когда чувственность является силою, ибо бытие человека еще не началось, так как в самом человеке не может быть иной силы, кроме воли. Однако в состоянии мышления, к которому человек теперь должен перейти, наоборот, именно разум должен быть силою, и место физической необходимости должна заступить необходимость логическая или моральная. Итак, сила ощущения должна быть уничтожена, прежде чем закон заступит место ощущения. Недостаточно того, чтобы началось нечто, чего ранее не было; необходимо, чтобы прекратилось нечто, что ранее было. Человек не может непосредственно перейти от ощущения к мышлению; он должен сделать шаг назад, ибо только благодаря тому, что уничтожается известная определимость, может наступить противоположная. Итак, чтобы заменить страдательность самостоятельностью и пассивное определение активным, он должен мгновенно освободиться от всякого определения и пройти через состояние простой определимости. Таким образом ему необходимо в известном смысле вернуться к отрицательному состоянию простой неопределенности, в котором он находился в то время, когда ничто еще не влияло на его чувства. Это состояние было лишено всякого содержания, и теперь необходимо соединить равную неопределенность и равно безграничную определимость с наивозможно большим содержанием, ибо непосредственно из этого состояния должно возникнуть нечто положительное. Определение, которое человек получает благодаря ощущениям, должно быть удержано, ибо он не должен терять реальность, но вместе с тем оно должно быть уничтожено, поскольку оно есть ограничение, ибо должна наступить неограниченная определимость. Итак, задача состоит в том, чтобы в одно и то же время и уничтожить и сохранить определенность состояния, а это возможно лишь одним способом, а именно противоположением ей иной определенности. Чашки весов находятся в равновесии, пока они пусты, но они также будут находиться в равновесии, если на них положить одинаковую тяжесть.
Итак, дух переходит от ощущения к мышлению путем некоторого среднего настроения, в котором чувственность и разум одновременно деятельны, но именно поэтому взаимно уничтожают свою определяющую силу и создают путем противоположения отрицание. Это среднее настроение, в котором дух не испытывает ни физического, ни морального понуждения, но деятелен и тем и иным способом, заслуживает быть названным свободным настроением по преимуществу, и если состояние чувственной определенности назвать физическим, а состояние разумного определения назвать логическим и моральным, то это состояние реальной и активной определимости следует назвать эстетическим{9}9
Для читателей, которым не вполне доступно истинное значение этого слова, коим невежество столь злоупотребляло, будет небесполезно следующее объяснение: все вещи, способные стать явлением, могут быть представляемы в четырех различных отношениях. Предмет может непосредственно относиться к нашему физическому состоянию (нашему бытию и благополучию) – в этом физическое его существо; или же он может относиться к уму и доставлять нам познания – это его логическое существо; или же предмет может относиться к нашей воле и может быть рассматриваем как предмет выбора для разумного создания – это моральное его существо; или же, наконец, предмет может относиться к совокупности, ко всем нашим различным силам, не будучи объектом для каждой в отдельности, – это эстетическое его существо. Человек может быть приятным нам своею услужливостью; он может своею беседою наводить нас на размышление; он может своим характером внушать нам уважение; наконец, он может независимо от всего этого нравиться нам только как явление, без того, чтобы мы при его обсуждении принимали в расчет какой-либо закон или имели в виду какую-либо цель. В последнем качестве мы оцениваем его эстетически. Точно так же можно говорить о воспитании здоровья, о воспитании ума, о воспитании нравственности, о воспитании вкуса и восприимчивости к красоте. Это последнее имеет в виду гармоническое развитие совокупности наших чувственных и духовных сил. Я еще отмечу здесь ради полноты, что часто под влиянием ложного вкуса и ошибочного рассуждения вносят в понятие эстетического понятие произвольного (хотя эти письма об эстетическом воспитании не имеют почти иной цели, как устранение этой ошибки); дух в эстетическом настроении свободен и даже в высшей мере свободен от всякого принуждения, однако он отнюдь не свободен от законов, и эстетическая свобода отличается от логической необходимости при мышлении и от нравственной необходимости при волеизъявлении только тем, что законы, по которым действует при этом дух, не сознаются и не кажутся принуждением, так как не вызывают противодействия.
[Закрыть].
Письмо 21
Существует, как я отметил в начале предшествующего письма, двоякого рода состояние определимости и двоякого рода состояние определенности. Теперь я могу пояснить это положение.
Дух определим лишь постольку, поскольку он вообще неопределен; но он в то же время определим постольку, поскольку не исключительно определен, то есть поскольку не ограничен в своем определении. Первое – простое отсутствие определения (дух не имеет границ, ибо не имеет и реальности); второе – эстетическая определимость (дух не имеет границ, ибо содержит в себе всю реальность).
Дух определен, поскольку он только ограничен; но он определен также и постольку, поскольку он ограничивает себя своею собственною безусловною мощью. В первом положении дух находится, когда он ощущает, во втором, когда он мыслит. Итак, то, что мышление представляет собой по отношению к определению, эстетическое расположение представляет собой по отношению к определимости; первое – это ограничение вследствие внутренней неисчерпаемой силы, второе – это отрицание вследствие внутренней бесконечной полноты. Подобно тому как ощущение и мышление соприкасаются лишь в одной точке, а именно в том, что в обоих состояниях дух определен, что человек является исключительно одним из двух – или индивидом, или личностью, – во всем же остальном они до бесконечности различны, точно так же и эстетическая определимость лишь в одном пункте совпадает с простою неопределенностью, а именно в том, что обе исключают определенное бытие, будучи во всем остальном столь же различны, как ничто и все, то есть бесконечно. Если представлять себе последнюю, то есть неопределенность, происходящей от недостатка, пустою бесконечностью, то следует реальную ее противоположность, то есть эстетическую свободу определения, представлять как заполненную бесконечность. Это представление полнейшим образом совпадает с тем, что изложено в предыдущем исследовании.
Итак, в эстетическом состоянии человек является нулем, если обращать внимание лишь на единичный результат, а не на всю способность, и если принять в расчет отсутствие всякой особой определенности. Поэтому следует вполне согласиться с теми, которые считают прекрасное и расположение духа, проистекающее из прекрасного, совершенно безразличными и бесплодными с точки зрения познания и убеждения. Они совершенно правы, ибо красота в отдельности не доставляет ровно ничего ни рассудку, ни воле; она не преследует никакой отдельной интеллектуальной или моральной цели; она не находит ни единой истины, не помогает выполнению какой-либо обязанности – одним словом, в одинаковой мере не способна создать характер и просветить рассудок. Итак, эстетическая культура нисколько не определяет личного значения или достоинства человека, поскольку они могут зависеть от него самого, и ею достигается лишь одно, что человеку дается теперь природная возможность сделать из себя то, что он хочет, что ему вполне возвращается свобода быть тем, чем он должен быть.
Но как раз этим достигнуто нечто бесконечное. Ибо как только мы вспомним, что человек был лишен именно этой свободы благодаря одностороннему понуждению со стороны природы в ощущениях и благодаря исключительному законодательству разума в мышлении, мы должны рассматривать эту способность, которая ему возвращается в эстетическом настроении как величайший дар, как дар человеческой природы. Конечно, человек уже обладает человеческой природой и форме предрасположения, ранее всякого определенного состояния, в котором она могла бы проявиться, но на деле он теряет ее в каждом определенном состоянии, в какое он попадает, и она должна быть ему возвращаема вновь через посредство эстетической жизни каждый раз, когда он хочет перейти в противоположное состояние{10}10
Правда, быстрота, с которой некоторые характеры переходят от ощущений к мышлению и к решениям, делает едва заметным или даже вовсе незаметным эстетическое настроение, через которое они должны были пройти в это время. Подобные люди не могут продолжительное время выносить состояние неопределенности и бурно стремятся к цели, которой не находят в состоянии эстетической неограниченности. Напротив, эстетическое состояние значительно распространяется у других, а именно у тех, которые находят наслаждение в чувстве духовной полноты, а не в единичном его действии. Насколько первые боятся пустоты, настолько для вторых невыносимо ограничение. Мне незачем напоминать, что первые созданы для деталей и для второстепенных дел, вторые же (предполагая, что они соединяют с своей способностью и реальность) предназначены для целого и для крупных ролей.
[Закрыть].
Итак, не только поэтически дозволительно, но и с точки зрения философской справедливо называть красоту нашей второй созидательницей. Ибо, хотя она дает нам человечность лишь в возможности, предоставляя нашей свободной воле осуществить эту возможность в той или другой мере, все же красота имеет нечто общее с нашей первоначальной созидательницею, природою, которая тоже дарует нам лишь возможность человечности, пользование же ею предоставляется нашему собственному волевому определению.
Письмо 22
Итак, если эстетическое расположение духа в одном отношении должно быть приравнено нулю, а именно поскольку мы будем смотреть на единичные и определенные следствия, то в другом отношении его нужно рассматривать как состояние высшей реальности, поскольку мы обращаем внимание на отсутствие всяких границ и на сумму тех сил, которые совокупно в нем действуют. Итак, нельзя отказать в правоте и тем, которые эстетическое состояние считают плодотворнейшим для познания и нравственности. Они совершенно правы, ибо расположение духа, которое заключает в себе всю человеческую природу в целом, по необходимости должно в возможности заключать и каждое отдельное ее выражение; расположение духа, которое устраняет из всей человеческой природы всякие ограничения, должно по необходимости устранить их и из каждого отдельного ее обнаружения. Именно потому это расположение благоприятствует всем функциям человеческой природы без различия, что оно не принимает под свое покровительство одной какой-либо функции в отдельности, и потому оно не покровительствует какой-либо отдельной функции, что в нем находится основание всех их. Все остальные упражнения дают духу какое-нибудь специальное умение, но зато полагают в нем и особое ограничение, лишь эстетическое ведет к безграничному. Всякое другое состояние, в каком бы мы могли очутиться, указывает нам на предшествующее и для своего разрешения нуждается и последующем; только эстетическое представляет целое само в себе, так как оно соединяет в себе все условия своего возникновения и продолжения. Только в нем мы чувствуем себя изъятыми из потока времени, и наша человеческая природа проявляется в такой чистоте и неприкосновенности, как будто бы она еще нисколько не поддалась влиянию внешних сил.
Что льстит нашим чувствам путем непосредственного ощущения, то делает нашу нежную и подвижную душу доступной всякому впечатлению, но в той же мере делает нас менее способными к усилию. Что напрягает наши умственные силы и приглашает к отвлеченному мышлению, то укрепляет наш дух ко всякого рода сопротивлению, но в той же степени делает его более грубым и менее впечатлительным, в какой поощряет большую самодеятельность. Поэтому-то как одно, так и другое по необходимости ведет в конце концов к истощению, ибо материя не переносит продолжительного лишения формирующей силы, а сила не может быть долгое время без материи, стремящейся принять форму. Напротив, предавшись наслаждению истинной красотой, мы в этот миг в одинаковой мере владеем нашими деятельными и страдательными силами, и тогда мы способны с одинаковой легкостью обратиться как к серьезному делу, так и к игре, к покою и к движению, к уступчивости и к противодействию, к отвлеченному мышлению и к созерцанию. Вот это высокое душевное равновесие и свобода духа, соединенные с силою и бодростью, и дают то настроение, которое должно оставлять в нас истинное художественное произведение: лучшего пробного камня подлинной эстетической доброкачественности не существует. Если после наслаждения подобного рода мы предпочтительно расположены к какой-либо особой деятельности или особой впечатлительности, к другому же мы оказываемся непригодными и нерасположенными, то это является безошибочным доказательством того, что мы не испытали чистого эстетического действия, независимо от того, заключалась ли причина нашей неудачи в предмете, или в образе нашего ощущения, или же в том и другом вместе (как это почти всегда бывает).
Та к как в действительности чисто эстетического действия не бывает (ибо человек никогда не может стать вне зависимости от сил), то превосходство известного произведения искусства может состоять лишь в большем его приближении к идеалу эстетической чистоты, и при всей свободе, до какой оно может возвыситься, мы все же его воспримем в своеобразном расположении и в особом направлении духа. Род известного искусства тем благороднее и отдельное проявление его тем совершеннее, чем более общим является расположение и чем менее ограничено направление духа, которое вызвано этим родом искусства и этим отдельным его произведением. Это можно проверить на произведениях различных искусств, а также на различных произведениях одного и того же искусства. Хорошая музыка вызывает в нас возбужденную восприимчивость, прекрасное стихотворение – оживление воображения, а прекрасное произведение скульптуры или здание – пробуждение рассудка, но тот дурно выбрал бы время, кто пригласил бы нас к отвлеченному мышлению после высокого музыкального наслаждения, или же направил бы нас на размеренную повседневную житейскую деятельность непосредственно после высокого поэтического наслаждения, или захотел бы воспалить наше воображение и поразить чувство непосредственно после созерцания прекрасных картин и скульптур. Причина в том, что даже самая содержательная музыка стоит в более близкой связи с чувствами благодаря ее материалу, чем то может допустить истинная эстетическая свобода; что самое удачное стихотворение более участвует в произвольной и случайной игре воображения, как своей среды, чем то дозволяет внутренняя необходимость истинно прекрасного; что самая превосходная статуя благодаря определенности ее понятия и – она-то, может быть, еще более всех других – граничит с серьезной наукой. Однако эти особые связи все более и более теряются в зависимости от степени высоты, какой достигает известное произведение этих трех родов искусства, и то, что различные отрасли искусства в их действии на души становятся все более и более похожими, не нарушая при этом своих объективных границ, есть необходимое и естественное следствие их совершенства. Наиболее высокая и благородная музыка должна стать образом и действовать на нас со спокойной силою произведения античной древности; скульптура в ее высшем совершенстве должна стать музыкою и трогать нас своей непосредственно чувственной стороной; поэзия в ее высшем развитии должна нас мощно охватывать подобно музыке, но в то же время должна нас окружить, подобно пластике, спокойной ясностью. Именно тем обнаруживается совершенство стиля во всяком искусстве, что он умеет устранить специфические рамки искусства, не уничтожая его специфических преимуществ и придавая ему более общий характер благоразумным пользованием особенностями искусства. И не только ограничения, зависящие от специфического характера известного искусства, должен своей обработкой преодолеть художник, но также и ограничения, вытекающие из материала, с которым ему приходится работать. В истинно прекрасном произведении искусства все должно зависеть от формы, и ничто – от содержания, ибо только форма действует на всего человека в целом, содержание же – лишь на отдельные силы. Содержание, как бы ни было оно возвышенно и всеобъемлюще, всегда действует на дух ограничивающим образом, и истинной эстетической свободы можно ожидать лишь от формы. Итак, настоящая тайна искусства мастера заключается в том, чтобы формою уничтожить содержание; и тем больше торжество искусства, отодвигающего содержание и господствующего над ним, чем величественнее, притязательнее и соблазнительнее содержание само по себе, чем более оно со своим действием выдвигается на первый план или же чем более зритель склонен поддаться содержанию. Душа зрителя и слушателя должна оставаться вполне свободною и не пораненною, она должна выйти из заколдованной сферы художника столь же чистою и совершенною, как и из рук бога или творца. Самый легкомысленный предмет должен получить такую обработку, чтобы мы остались расположенными перейти непосредственно от него к самой строгой серьезности. Самый строгий материал должен быть так обработан, чтобы в нас осталась способность непосредственного перехода от него к самой легкой игре. Искусства аффекта, к коим принадлежит трагедия, не представляют противоречия этому требованию, ибо, во-первых, они не вполне свободные искусства, так как они служат определенной (патетической) цели, а во-вторых, ни один истинный ценитель искусства не станет отрицать того, что даже произведения подобного рода тем совершеннее, чем более они даже в сильнейшей буре аффекта щадят духовную свободу. Существует искусство страсти, но страстное искусство – это противоречие, ибо неизбежное следствие прекрасного – освобождение от страстей. Столь же противоречиво понятие искусства поучительного (дидактического) или нравственно улучшающего (морального), ибо ничто в такой мере не противоречит понятию красоты, как стремление сообщить душе определенную тенденцию.
Однако если известное произведение искусства вызывает впечатление только содержанием, то это еще не всегда доказывает отсутствие в нем формы; это может столь же часто свидетельствовать лишь об отсутствии чувства формы у ценителя. Если он слишком вял или напряжен, если он привык воспринимать все только рассудком или только чувством, то он даже в самом цельном произведении обратит внимание только на части, и даже при самой прекрасной форме – только на содержание. Будучи восприимчивым только по отношению к грубой стихии, он должен, чтобы найти наслаждение в эстетической организации какого-либо произведения, раздробить ее, а потом уже бережно собрать то расчлененное, что художник с бесконечным искусством старался спрятать в гармонии целого. Интерес ценителя будет или моральным, или физическим, но только не эстетическим, каким ему бы следовало быть. Такие читатели наслаждаются серьезным, патетическим стихотворением, точно проповедью, а наивным и шутливым – точно опьяняющим напитком; и если они достаточно безвкусны, чтобы ждать назидания от трагедии или эпопеи – будь то хотя бы «Мессиада», – то они, несомненно, будут оскорблены песней в анакреонтическом или катулловском роде.
Письмо 23
Я вновь берусь за нить моего исследования, которую оборвал только для того, чтобы из выставленных мною положений сделать применение к искусствам и к оценке их созданий.
Итак, переход от страдательного состояния ощущения к деятельному состоянию мышления и воли совершается не иначе, как при посредстве среднего состояния эстетической свободы, и, хотя это состояние само по себе нисколько не влияет ни на наше разумение, ни на наши убеждения и, следовательно, оставляет вполне незатронутым наше интеллектуальное и моральное достоинство, все ж это состояние есть необходимое условие, без коего мы никак не можем достичь разумения и убеждений. Одним словом, нет иного пути сделать чувственного человека разумным, как только сделав его сначала эстетическим.
Но разве – быть может, возразите вы – так безусловно необходимо такое посредничество? Неужели истина и долг сами по себе не могут найти доступа к чувственному человеку? На это я должен ответить: не только могут, но они безусловно должны найти свою определяющую силу только в самих себе, и ничто не противоречило бы ранее мною изложенному более, чем если б меня приняли за защитника противоположного мнения. Я с очевидностью доказал, что красота ничего не дает ни рассудку, ни воле, что красота не вмешивается в дело мышления и решения, что красота лишь делает человека способным к должному пользованию тем и другим, но нисколько не предрешает этого пользования. При этом нет нужды в какой-либо посторонней помощи, и чистая логическая форма – понятие – должна непосредственно обращаться к рассудку, подобно тому как чистая моральная форма, закон – к воле.
Однако я утверждаю, что возможность этого, то есть того, чтобы для чувственного человека существовала только чистая форма, дается лишь эстетическим расположением духа. Истина не есть нечто, что могло бы быть воспринятым извне, подобно действительности или чувственному бытию предметов, она есть нечто самодеятельное и свободно создаваемое мышлением; именно этой самодеятельности, этой свободы и недостает чувственному человеку. Чувственный человек определен уже (физически) и, следовательно, не имеет свободной определимости; эту потерянную определимость он необходимо должен сперва приобрести, прежде чем будет в состоянии заменить страдательную определенность действенной. Однако он не может приобрести ее иным путем, как только потерею пассивной определенности, которою он владел, или же через обладание активною, к которой ему следует еще перейти. Если бы он только лишился пассивной определенности, то он вместе с нею потерял бы и возможность активной, ибо мысль нуждается в теле и форма может получить реальность только в материале. Итак, он должен уже обладать формою, он должен быть определен одновременно и пассивно и активно, то есть он должен стать эстетичным.
Итак, благодаря эстетическому расположению духа открывается самодеятельность разума уже в сфере чувственности, и сила ощущения является сломленной уже в своих собственных пределах, физический же человек является настолько облагороженным, что духовному остается только развиться по законам свободы из первого. Поэтому-то шаг от эстетического состояния к логическому и моральному (от красоты к истине и долгу) бесконечно легче, чем шаг от физического состояния к эстетическому (то есть от простой слепой жизни к форме). Первый шаг может быть сделан человеком уже благодаря его свободе, так как при этом он должен лишь войти в себя, а не выходить из своих пределов, лишь ограничить, а не распространить свою природу; эстетически настроенный человек будет произносить общепригодные суждения, будет действовать общепригодно, лишь только он захочет того. Природа должна ему облегчить шаг от грубой материи к красоте, где должна ему открыться совершенно новая внутренняя деятельность, и воля бессильна по отношению к настроению, которое ведь создает самое волю. Чтобы эстетического человека привести к разумению и к высоким помышлениям, достаточно представить ему важные побудительные причины, в то время как нужно вполне пересоздать природу чувственного человека, чтобы добиться от него чего-либо подобного. В первом случае часто достаточно лишь повода к какой-либо возвышенной ситуации (которая действует самым непосредственным образом на волю), чтобы сделать из человека героя или мудреца; во втором случае человека нужно перенести под совершенно иное небо.
Итак, одна из важнейших задач культуры состоит в том, чтобы подчинить человека форме уже в чисто физической его жизни и сделать его, насколько это зависит от царства красоты, эстетическим, ибо только из эстетического, а не из физического, может развиться моральное состояние. Для того чтобы человек в каждом отдельном случае обладал способностью делать свое суждение и свою волю суждением всего рода, чтобы он находил выход из ограниченного бытия к бесконечному и поднимался из зависимого состояния к самостоятельности и свободе, необходимо позаботиться о том, чтобы он ни на миг не оставался только индивидом и не служил только закону природы. Для того чтобы стать способным и готовым к переходу от узкого круга природных целей к целям разумным, он должен подготовиться к последним, будучи еще во власти первых, и должен выполнить с некоторою свободою духа, то есть по закону красоты, уже свое физическое назначение.
И сделать это он может, нисколько притом не впадая в противоречие со своей физической целью. Требования, предъявляемые к нему природой, касаются лишь того, что он выполняет, то есть лишь содержания его деятельности; но целями природы вовсе не предопределен способ, каким он действует, не предопределена форма. Напротив, требования разума строго ограничены формою его деятельности. Насколько необходимо ради его морального назначения, чтобы он был чисто моральным, чтобы он обнаружил абсолютную самостоятельность, настолько безразлично для его физического назначения, будет ли он чисто физическим, будет ли он сохранять безусловную пассивность. Итак, по отношению к последнему вполне зависит от его произвола, выполнит ли он свое природное назначение лишь как чувственное существо, как сила природы (то есть как сила, которая действует лишь постольку, поскольку испытывает воздействие), или в то же время и как безусловная сила, как разумное существо, причем не может быть, конечно, вопроса о том, что более соответствует его достоинству. Выполнение по чувственному побуждению того, на что он должен был решиться по мотивам чистого долга, настолько же унижает и позорит его, насколько облагораживает и возвышает стремление к законности, гармонии, к неограниченности в тех случаях, когда простой смертный удовлетворяет лишь дозволенное желание{11}11
Это умное и эстетически свободное обращение с повседневной действительностью, где бы оно ни встречалось, всюду представляет собой признак благородной души. Благородной называется вообще та душа, которая обладает даром превращать в бесконечное даже самое пустячное дело и самый незначительный предмет благодаря способу обращения с ним. Благородной называется всякая форма, которая придает печать самостоятельности тому, что по своей природе имеет лишь служебное значение (есть только средство). Благородный дух не довольствуется тем, что сам свободен; он стремится к тому, чтобы сделать свободным и все окружающее, даже безжизненное. Красота же есть единственно возможное выражение свободы в явлении. Поэтому-то преобладающее выражение рассудка в лице, в каком-либо произведении искусства и т. д. никогда не может стать благородным; оно же может быть и красивым, ибо оно выдвигает зависимость (которую нельзя отделить от целесообразности), вместо того чтобы скрыть ее.
Моральный философ учит нас, правда, что никогда нельзя сделать больше того, что требует долг; и он совершенно прав, если имеет в виду лишь отношение действий к нравственному закону. Однако в действиях, имеющих лишь отношение к определенной цели, перейти за пределы этой цели в область сверхчувственного (что в данном случае может лишь означать переход физического в эстетическое) – это значит перейти и за пределы долга, ибо долг может лишь предписать святость воли, но не святость самой природы. Итак, хотя с точки зрения моральной нельзя превзойти долг, но это возможно с точки зрения эстетической, и такое поведение называется благородным. Многие смешивали эстетический излишек с моральным и, будучи соблазнены видом благородства, вносили произвол и случайность в самую мораль, чем уничтожали ее самое, именно потому, что в благородстве всегда заметен излишек, ибо то, что могло бы иметь одну лишь материальную ценность, получает свободную и формальную ценность и соединяет с внутренней ценностью, которую ему необходимо иметь, еще и внешнюю, без которой оно могло бы обойтись.
От благородного поведения следует отличать возвышенное. Первое переступает пределы нравственной обязанности; второе этого не делает, хотя мы и ценим его гораздо выше первого. Ценим же мы его не потому, что оно превосходит разумное понятие своего объекта (нравственного закона), а потому, что оно превосходит опытное понятие своего субъекта (то есть наше знание доброты и силы человеческой воли). Наоборот, благородное поведение мы ценим не потому, что оно превосходит природу субъекта, из которой, напротив, оно должно истекать вполне свободно, а потому, что оно от природы своего объекта (физической цели) распространяется в царство духа. В первом случае мы, можно сказать, удивляемся победе, которую предмет, дело одерживают над человеком; во втором случае мы удивляемся тому подъему, который человек сумел сообщить предмету.
[Закрыть]. Одним словом, в области истины и нравственности ощущение не имеет права распоряжаться, однако в сфере блаженства может властвовать форма и побуждение к игре.
Итак, уже здесь, на безразличном поле физической жизни, человек должен начать моральную жизнь; он должен обнаружить самодеятельность уже в сфере страдательного, свободу разума уже в сфере чувственных границ. Уже на свои склонности он должен наложить закон своей воли, он должен, если мне будет дозволено это выражение, перенести борьбу против материи в ее собственные границы для того, чтобы ему не было надобности сражаться против этого страшного врага на священной почве свободы. Он должен научиться благороднее желать, для того чтобы у него не было необходимости возвышенно добиваться. Этого можно достигнуть путем эстетической культуры, которая подчиняет законам красоты то, в чем человеческий произвол не связан ни законами природы, ни законами разума, и которая обнаруживает внутреннюю жизнь уже в форме, даваемой ею жизни внешней.









































