Текст книги "Письма об эстетическом воспитании человека"
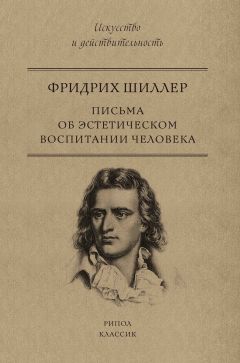
Автор книги: Фридрих Шиллер
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 9 страниц)
Письмо 24
Итак, можно различать три момента или три ступени развития, которые неизбежно и в определенном порядке должны пройти как единичный человек, так и весь род, есл и они хотят выполнить весь круг своего назначения. Отдельные периоды, правда, могут быть сокращены или удлинены в силу случайных причин, находящихся в зависимости от внешних предметов или свободного произвола человека; однако ни одна ступень не может быть опущена вовсе, а также не может быть изменен порядок их следования ни природою, ни волею. Человек в его физическом состоянии подчиняется лишь своей природе, в эстетическом состоянии он освобождается от этой силы и овладевает ею в нравственном состоянии.
Что представляет собою человек, прежде чем красота вызовет в нем свободное наслаждение и спокойная форма умиротворит дикарскую жизнь? Он вечно однообразен в своих целях, постоянно изменчив в своих суждениях, себялюбив, не будучи самим собою, необуздан, не будучи свободным, раб, не подчиненный определенному распорядку. В этот период времени мир для него представляется роком, а не предметом; все имеет для него бытие, поскольку служит его бытию; что ему не приносит чего-либо или не отнимает у него чего-либо, то не существует для него. Каждое отдельное явление представляется ему единичным или отделенным, подобно тому, каким он сам является в ряду существ. Все существующее существует для него лишь благодаря велению минуты; всякое изменение для него есть совершенно свежее творение, ибо необходимость в нем самом уничтожает необходимость вне его, которая соединяет изменчивые образы в цельном мироздании и удерживает на сцене закон в то время, когда индивид спасается бегством. Напрасно природа чередует перед его чувствами свое богатое многообразие, он видит в ее пышном изобилии лишь свою добычу, в ее силе и величии лишь своего врага. Он или бросается на предметы и страстно стремится обладать ими, или же вещи действуют разрушительно на него, и он их с отвращением отталкивает от себя. В обоих случаях его отношение к чувственному миру выражается непосредственным соприкосновением, и он, постоянно мучимый напором этого мира, вечно угнетенный властною потребностью, ни в чем ином не находит успокоения, как только в изнеможении, и видит пределы лишь в истощении желаний.
Грудь крепкая, титанов мощь и сила
Наследьем сыновей его и внуков
Отчасти были; но вокруг чела им
Бог выковал железный словно обруч.
Совет, воздержность, мудрость и терпенье
Он скрыл от диких, тусклых взоров их,
В неистовство их прихоть превращалась,
Неистово бушуя без границ.
(Гёте, «Ифигения в Тавриде»)
Незнакомый со своим человеческим достоинством, он далек от того, чтобы уважать его в других, и, сознавая свою дикую алчность, он боится ее в каждом существе ему подобном. Никогда не узнает он в себе других, а лишь в других себя, и общество все уже и уже замыкает его в его личности, вместо того чтобы возвести его до понимания рода. В этой сумрачной ограниченности протекает его темная жизнь до тех пор, пока благодетельная природа не сбросит с его омраченных чувств бремени материи, пока рефлексия не отделит его самого от предметов и пока предметы не появятся наконец отраженными в сознании.
Само собою разумеется, этого грубого природного состояния – в том виде, в каком оно здесь изображено, – нельзя указать ни у какого определенного народа, ни в какую определенную эпоху; это только идея, но идея, с которой в частностях самым точным образом совпадает опыт. Человек, можно сказать, никогда не находился в этом животном состоянии, но он никогда вполне и не освобождался от него. Даже в самых грубых субъектах можно найти несомненные следы свободы разума, точно так же как у самых образованных людей бывают моменты, напоминающие это мрачное естественное состояние. Человеку свойственно соединять в своей природе самое высокое и самое низкое, и если достоинство его покоится на строгом различении первого от второго, то счастье основано на умелом уничтожении этого различия. Культуре, долженствующей привести в согласие его достоинство с его счастьем, надлежит, стало быть, позаботиться о наивысшей чистоте этих двух начал при теснейшем их союзе.
Первое проявление разума в человеке не представляет собою еще начала его человечности. Эта последняя зависит от его свободы, и разум начинает с того, что делает безграничною свою чувственную зависимость, – явление в важности и всеобщности своей, как мне кажется, недостаточно разъясненное. Мы знаем, что разум проявляется в человеке тем, что требует безусловного (то есть обоснованного самим собою и необходимого), и это требование, не могущее найти удовлетворения ни в каком отдельном состоянии его физической жизни, заставляет его совершенно покинуть физическое и подняться от ограниченной действительности к идеям. Но хотя истинный смысл этого требования заключается в том, чтобы вырвать человека из оков времени и возвести его от мира чувственного к идеальному, однако это требование, будучи неверно понято – что почти неизбежно в эту эпоху господства чувственности, – может быть направлено на физическую жизнь и может, вместо того чтобы сделать человека независимым, повергнуть его в самое ужасное рабство.
И это действительно так. На крыльях фантазии покидает человек узкие пределы настоящего времени, в которое он поставлен исключительной животностью, дабы стремиться вперед к неограниченной будущности, однако сердце его еще не перестало жить единичным и служить минуте, в то время как пред его головокружительным воображением встает бесконечное. Это тяготение к безусловному захватывает его врасплох во всей его животности, и так как в этом смутном состоянии все его стремления направлены лишь на материальное и временное и ограничены лишь его индивидуальностью, то указанное требование побудит его только к тому, чтобы распространить в беспредельное свою индивидуальность, вместо того чтобы отвлечься от нее; вместо того чтобы стремиться к форме, он будет искать неиссякаемой материи; вместо неизменного он будет стремиться к вечному изменению и безусловному ограждению своего временного бытия. То же самое побуждение, которое, будучи применено к его мышлению и деятельности, повело бы его к истине и нравственности, теперь, отнесенное к его пассивности и чувствованию, создает лишь беспредельное желание, безусловную потребность. Итак, первые плоды, которые достанутся человеку в царстве духа, – это забота и страх: и та и другой – следствия разума, не чувственности, но разума, который по ошибке схватился не за тот предмет и относит свой императив непосредственно к материи. Все безусловные системы эвдемонизма суть плоды этого древа, независимо от того, касаются ли они лишь сегодняшнего дня, или целой жизни, или – от чего эти системы вовсе не становятся более достойными уважения – целой вечности. Безграничная продолжительность бытия и благоденствия только ради самого бытия и благоденствия представляют лишь идеал вожделения, то есть требование, которое могло бы быть поставлено лишь животностью, стремящейся в безусловное. Человек благодаря подобному проявлению разума теряет лишь счастливую ограниченность животного, не выигрывая ничего по отношению к своей человечности; он теперь получает перед животным лишь то незавидное преимущество, что благодаря стремлению вдаль теряет господство над настоящим моментом, но во всей этой беспредельной дали он не ищет ничего иного, кроме настоящего момента.
Однако чувственность еще долгое время будет подтасовывать ответ, хотя бы разум и не ошибался ни относительно своего объекта, ни в постановке вопроса. Разум стремится согласно своему понятию к безусловному соединению и безотносительному основанию тотчас, как только человек начал пользоваться рассудком и стал связывать окружающие явления по причинам и целям. Для того чтобы только быть в состоянии поставить себе подобное требование, человек должен переступить за пределы чувственности, но чувственность пользуется именно этим требованием, для того чтобы вернуть себе беглеца. Именно здесь находится та точка, в которой он мог бы, окончательно покинув чувственный мир, взлететь от него к чистому царству идей, ибо рассудок вечно остается в пределах условного и вечно предлагает вопросы, не будучи в состоянии дойти до предела. Но так как человек, о котором здесь идет речь, еще не способен к подобному отвлечению, то он будет искать в сфере своего чувства то, чего он не может найти в сфере своего чувственного познания и чего он еще не ищет за пределами этого познания, в чистом разуме, и, по-видимому, он это найдет. Правда, чувственность не доставляет ему ничего такого, что имело бы основание в нем самом и являлось бы законом для себя, но она показывает ему нечто, что не знает никакого основания и не уважает никакого закона. Та к как человек не может успокоить вопрошающего рассудка каким-либо последним и внутренним основанием, то он заставляет его по крайней мере смолкнуть благодаря понятию безосновательного и останавливается в пределах слепой зависимости от материи, так как он еще не может постичь высокой необходимости разума. Человек делает выгоду определителем всех своих действий, а слепой случай – властителем мира, ибо чувственность не знает другой цели, кроме выгоды, и другой причины, кроме слепого случая.
Даже самое святое в человеке, моральный закон, не может избежать этой подделки при первом своем появлении в чувственности. Та к как моральный закон лишь запрещает и говорит против интересов чувственного себялюбия, то он должен казаться человеку до тех пор чем-то внешним, пока он не научится смотреть на это себялюбие как на нечто внешнее, а на голос разума как на свое истинное «я». Человек чувствует таким образом только оковы, которые налагаются на него разумом, но не чувствует бесконечного освобождения, им даруемого. Не подозревая в себе достоинства законодателя, он испытывает лишь гнет и бессильное противодействие подданного. Та к как чувственное побуждение предшествует в опыте нравственному, то первое и дает закону необходимости начало во времени, положительное происхождение, и путем несчастнейшего из заблуждений человек делает незыблемое и вечное в себе признаком изменяющегося. Человек старается убедить себя в том, что понятия справедливого и несправедливого суть лишь законоположения, установленные волей и не имеющие значения сами по себе во все времена. Подобно тому как он в объяснении отдельных явлений природы переступает за пределы природы и ищет вне ее того, что может быть найдено только в ее внутренней закономерности, точно так же он переступает границы разума в объяснении нравственности и теряет свою человеческую сущность, ища божество на этом пути. Неудивительно, что религия, купленная ценой отказа от его человеческой сущности, является достойной такого происхождения, что человек не считает безусловно и вечно обязательными законы, которые и не проистекают от вечности. Человек имеет дело не со святым существом, а лишь с могучим. Поэтому дух его богопочитания – это страх, который его унижает, а не благоговение, которое подымает его в собственных глазах.
Хотя эти многоразличные отклонения человека от идеала его назначения и не все могли иметь место в одну и ту же эпоху – так как человек на пути от бессмыслия к ошибке, от безволия к порче воли должен пройти много ступеней, – все ж все эти ступени суть следствия природного состояния, ибо во всех жизненное побуждение господствует над побуждением к форме. Единственно властный в нем принцип – это материя, независимо от того, сказал ли разум свое слово и господствует ли над ним физическое начало с слепой необходимостью или же разум еще недостаточно очистился от чувственности и моральное еще служит физическому, – во всяком случае человек, по своей тенденции еще существо чувственное, с тою только разницей, что в первом случае оно неразумное, а во втором – разумное животное. Но он не должен быть ни тем, ни другим, он должен быть человеком. Природа не должна властвовать над ним исключительно, а разум не должен господствовать условно над ним. Оба законодательства должны сосуществовать совершенно независимо друг от друга и все ж быть вполне согласными.
Письмо 25
Пока человек в своем первом, физическом, состоянии лишь пассивно воспринимает чувственный мир, лишь ощущает, до тех пор он еще в полном с ним единении, и именно потому, что он сам еще только мир, для него еще не существует мира. Только когда он в эстетическом состоянии выходит из своих пределов или созерцает, тогда его личность выделяется из мира, и тогда для него возникает мир, ибо он перестал составлять с ним единое целое{12}12
Я еще раз напоминаю, что, хотя эти два периода необходимо должны быть разделяемы в идее, в опыте они более или менее смешиваются. Не следует также думать, что было время, когда человек пребывал исключительно в этом физическом состоянии, и время, когда он вполне от него отделился. Как только человек видит предмет, он перестает пребывать исключительно в физическом состоянии, и в то же время ему не избежать этого природного состояния, пока он будет видеть предметы, ибо он может видеть, только поскольку он ощущает. Те три момента, которые я указал в начале 24-го письма, правда, определяют рассматриваемые в целом три различных эпохи в развитии всего человечества и в полном развитии отдельного индивида, но они могут быть указаны и в каждом отдельном восприятии объекта и представляют собою, одним словом, необходимые условия всякого чувственного познания.
[Закрыть].
Размышление (рефлексия) представляет собою первое свободное отношение человека к мирозданию, его окружающему. Если вожделение непосредственно схватывает предмет, то размышление отдаляет свой предмет и делает его настоящей и неотъемлемой своей собственностью именно тем, что ограждает его от страсти. Необходимость природы, нераздельно господствовавшая над человеком в состоянии простого ощущения, в рефлексии отпускает его, в чувствах наступает тотчас примирение, и само вечно изменчивое время прекращает свой бег, разбросанные лучи сознания соединяются воедино, и облик бесконечного, форма, отражается на преходящем фоне. Как только свет засветил в человеке, так нет более ночи и вне его; как только мир наступает внутри его, тотчас прекращается и буря в мироздании и борющиеся силы природы находят покой в твердых пределах. Неудивительно поэтому, что древние эпопеи говорят об этом великом событии внутри человека как о революции, происшедшей во внешнем мире, и мысль, одерживающую победу над временем, символизируют в образе Зевса, прекращающего царство Сатурна.
Раб природы, человек, только ощущающий, становится ее законодателем, раз он ее мыслит; природа, которая ранее господствовала над ним как сила, теперь стоит перед его оком как объект. То, что является для него объектом, не имеет над ним силы, ибо, чтобы стать объектом, оно должно испытать его силу. Поскольку он придает материи форму и пока он придает ее, до тех пор он неуязвим для ее воздействия, ибо уязвить дух может только то, что отнимает у него свободу, а он именно доказывает свою свободу тем, что оформляет бесформенное. Только там место страху, где масса, грубая и бесформенная, господствует и где в неясных границах колеблются мутные очертания; человек выше всякой природной угрозы, как только он сумеет придать ей форму и превратить ее в свой объект. Подобно тому как человек начинает выказывать свою самостоятельность по отношению к природе как явлению, так он выказывает и свое достоинство по отношению к природе как силе, и с благородной свободою он восстает против своих богов. Они сбрасывают личину привидений, которыми они пугали в его детстве, и, становясь его представлением, поражают его собственным обликом. Божественное чудовище жителя Востока, слепою мощью хищного зверя управлявшее миром, принимает в греческой фантазии приветливый облик человечества, царство титанов гибнет, и бесконечная мощь укрощена бесконечною формою.
Но пока я искал лишь выхода из материального мира и перехода к миру духовному, вольный поток моего воображения привел меня к самому центру духовного мира. Красота, которую мы ищем, лежит за нами; мы перескочили через нее, разом перейдя от непосредственной жизни к чистому образу и к чистому объекту. Такой скачок несвойствен человеческой природе, и, чтобы идти в шаг с нею, мы должны будем вновь вернуться к чувственному миру.
Красота, конечно, есть создание свободного созерцания, и с нею мы вступаем в мир идей, но – это следует отметить – не покидая по этой причине чувственного мира, как это происходит при познании истины. Истина – чистый продукт отвлечения от всего материального и случайного; она – чистый объект, в котором не должно оставаться ограниченности субъекта, чистая самодеятельность, без примеси пассивности. Правда, и от высочайшего отвлечения можно найти обратный путь к чувственности, ибо мысль соприкасается с внутренним чувством, и представление логического и морального единства переходит в чувство ощущаемого согласия. Но когда мы наслаждаемся познаниями, мы в то же время очень отчетливо отличаем наше представление от нашего ощущения; последнее мы рассматриваем как нечто случайное, чего бы могло и не быть, отчего познание не прекратилось бы и истина не перестала бы быть истиною. Но совершенно тщетною была бы попытка отделить представление красоты от этого отношения к способности ощущать, поэтому-то нам мало рассматривать первую как следствие второй, но мы должны и ту и другую рассматривать как находящиеся во взаимодействии, то есть одновременно представляющие собой и следствие и причину. В нашем наслаждении познанием мы без труда различаем переход от деятельности к пассивности и совершенно отчетливо замечаем, что первая прекратилась, когда наступает вторая. В нашем наслаждении красотою, напротив того, нельзя заметить подобной смены деятельности и пассивности, и рефлексия здесь настолько сливается с чувством, что нам кажется, будто мы непосредственно ощущаем форму. Итак, хотя красота действительно есть предмет для нас, ибо рефлексия есть условие, благодаря которому мы можем иметь ощущение красоты, однако в то же время красота есть состояние нашего субъекта, ибо чувство является условием, благодаря коему мы можем иметь представление красоты. Она есть форма, ибо мы ее созерцаем, но в то же время она есть жизнь, ибо мы ее чувствуем. Одним словом, красота одновременно и наше состояние и наше действие.
И именно потому, что она одновременно и то и другое, красота и является победоносным доказательством того, что пассивность нисколько не исключает деятельности, материя – формы и ограничение – бесконечности, что таким образом моральная свобода человека нисколько не уничтожается необходимою физической зависимостью. Она это доказывает, и я должен прибавить, что доказать нам это может только она. Ибо, так как в наслаждении истиною или логическим единством ощущение не необходимо соединено с мыслью, последует за нею случайно, то истина может нам лишь доказать, что чувственная природа может следовать за разумною и наоборот, но не может доказать того, что они сосуществуют, что они находятся во взаимодействии, что они должны быть безусловно и необходимо соединены. Напротив, из устранения чувства во время мышления и мысли во время чувствования нужно заключить о несоединимости их природы, и действительно, аналитики не умеют представить лучшего доказательства существования чистого разума в человеческом существе, как то, что он необходим. Но так как при наслаждении красотою или эстетическим единством происходит действительное соединение и превращение материи в форму, пассивности – в деятельность, то соединимость этих двух природ, проявление бесконечного в конечном, а следовательно, и возможность самой возвышенной человеческой природы доказывается именно этим.
Итак, нас не должен более смущать переход от чувственной зависимости к моральной свободе, ибо красота представляет как доказательство совершенного сосуществования первой со второю, так и доказательство того, что человеку незачем отбрасывать материю для того, чтобы проявить себя в качестве духа. Но если человек свободен уже в сообществе с чувственностью, как это показывает факт красоты, и если свобода есть нечто безусловное и сверхчувственное, как это необходимо вытекает из ее понятия, то не может быть больше вопроса о том, как человек, исходя из ограничения, достигает безусловного, как он противодействует чувственности своим мышлением и волею, ибо все это имеется уже в красоте. Одним словом, не может быть вопроса о том, как он переходит от красоты к истине, которая в возможности уже заключена в красоте, а только лишь о том, как он пролагает себе путь от повседневной действительности к эстетической или от голого жизненного чувства к чувству красоты.
Письмо 26
Та к как лишь эстетическое расположение духа, как я показал в предшествующих письмах, порождает свободу, легко понять, что оно не может возникнуть из свободы и, стало быть, не может иметь своего источника в нравственности. Оно должно быть даром природы; только счастливый случай может разорвать оковы физического состояния и привести дикаря к красоте.
Зародыш ее одинаково не разовьется там, где скудная природа лишила человека всякой услады, равно и там, где расточительная – избавила его от необходимости всякого усилия, где тупая чувственность не имеет потребностей и жгучая страсть не находит насыщения. Не там распускается ее прелестная почка, где человек-троглодит скрывается в пещерах, будучи вечно одиноким и не находя вне себя человечности, и не там, где он, как номад, кочует в больших воинских скопищах, будучи вечно лишь числом и никогда не находя в себе человечности, но лишь там, где он мирно живет в собственной хижине сам с собою и где он, переступив порог, тотчас говорит со всем родом. Только там чувства и ум, воспринимающая и творческая сила разовьются в счастливом равновесии, которое есть душа красоты и условие человечности, где легкий эфир делает чувства восприимчивыми к всякому легчайшему прикосновению и энергичная теплота оживляет богатую материю, где царство слепой массы уже побеждено в мертвом создании и победоносная форма облагородила даже самые ничтожные творения; где в радостных условиях и под благословенным небом только деятельность ведет к наслаждению и только наслаждение к деятельности; где из самой жизни проистекает священный порядок и из закона порядка возникает только жизнь; где воображение вечно бежит от действительности и все же никогда не покидает природной простоты.
Каким же явлением обнаруживается в дикаре вступление его в царство человечности? Как бы далеко ни шли мы в глубь веков, оно одно и то же у всех племен, вышедших из рабства животного состояния: наслаждение видимостью, склонность к украшениям и играм.
Величайшая тупость и величайший ум проявляют некоторое сродство в том, что оба ищут лишь реального и совершенно невосприимчивы к простой видимости. Покой первой может быть нарушен лишь непосредственным присутствием предмета в восприятии, точно так же как второго может успокоить лишь применение его понятий к фактам опыта; одним словом, глупость не может подняться над действительностью и рассудок не может остановиться ниже истины. Таким образом, поскольку потребность реальности и привязанность к действительности являются лишь следствием недостатка, постольку равнодушие к реальности и внимание к видимости являются истинным расширением человеческой природы и решительным шагом к культуре. Во-первых, это есть доказательство внешней свободы, ибо воображение приковано крепкими узами к действительности, пока нужда повелевает и потребность понуждает; только когда потребность удовлетворена, может развиться свободная сила воображения. Во-вторых, однако, это доказывает и внутреннюю свободу, ибо обнаруживает в нас силу, которая приводится в движение сама собою, независимо от внешней причины, обладает достаточной энергией, чтобы отразить натиск материи. Реальность вещей – это их дело; видимость вещей – это дело человека, и дух, наслаждающийся видимостью, радуется уже не тому, что он воспринимает, а тому, что он производит.
Само собою разумеется, что здесь речь идет лишь об эстетической видимости, отличной от действительности и истины, не о логической, которую часто смешивают с эстетической, которую, следовательно, любят потому, что она есть именно видимость, а не за то, что она представляется чем-то лучшим. Только первая видимость есть игра, тогда как вторая есть обман. Почитать за нечто видимость первого рода – не может служить во вред истине, ибо нет опасности подмены, которая единственно и может вредить истине; презирать ее – значит вообще презирать всякое искусство, сущность которого состоит в видимости. Однако рассудку иногда случается быть в своем стремлении к реальности настолько нетерпимым, что он презрительно судит о всяком искусстве прекрасной видимости, потому что оно есть только видимость, но это может случиться с рассудком лишь в том случае, когда он вспомнит о вышеупомянутом сродстве. Я буду еще иметь повод поговорить особо о необходимых границах прекрасной видимости.
Сама природа поднимает человека от реальности к видимости, снабдив его двумя чувствами, которые ведут к познанию действительности лишь путем видимости. В зрении и слухе производящая впечатление материя уже отстранена от чувства, и предмет, который мы непосредственно осязаем низшими животными чувствами, отдален от нас. То, что мы видим глазом, отлично от того, что мы ощущаем, ибо рассудок перескакивает через свет к самим предметам. Предмет осязания – это насилие, которое мы испытываем; предмет зрения и слуха – это форма, которую мы создаем. Пока человек пребывает в дикости, он наслаждается только при посредстве низших чувств, которым в этом периоде чувства видимости лишь служат. Он или вовсе не возвышается до зрения, или же оно его не удовлетворяет. Как только глаз начинает доставлять ему наслаждение и зрение для него получает самостоятельную ценность, он тотчас становится эстетически свободным и в нем развивается побуждение к игре.
Тотчас по проявлении побуждения к игре, находящего наслаждение в видимости, разовьется и побуждение к воспроизведению, которое рассматривает видимость как нечто самостоятельное. Дойдя до способности различить видимость от действительности, форму от тела, человек в состоянии и отделить их друг от друга; он уже сделал это, различив их. Итак, способность к воспроизводящему искусству уже вообще дана вместе с формальной способностью. Стремление же к ней покоится на ином предрасположении, о котором мне здесь незачем говорить. Более позднее или раннее развитие эстетического побуждения к искусству в человеке зависит только от степени любви, с которой он способен сосредоточиваться на одной видимости.
Так как всякое бытие происходит от природы, как чуждой силы, всякая же видимость первоначально от человека, как представляющего субъекта, то человек лишь пользуется своим безусловным правом собственности, когда он отнимает от сущего видимость и распоряжается ею по собственным законам. С ничем не обузданною свободой он может соединять то, что природа разъединила, если только это соединимо в мысли, и разделять соединенное природою, если только его рассудок допускает подобное разъединение. Для человека в этом случае нет ничего святого, кроме собственного закона, лишь бы только он соблюдал границу, отделяющую его область от бытия предметов или области природы.
Этим человеческим правом господства он пользуется в искусстве видимости, и чем строже он здесь разграничит «мое» и «твое», чем осторожнее он отделит форму от сущности, тем большую самостоятельность он придаст первой, тем более расширит он не только царство красоты, но охранит также и границы истины, ибо он не может очистить видимость от действительности, не освободив в то же время и действительность от видимости.
Однако это самодержавное право принадлежит ему исключительно в мире видимости, только в бесплотном царстве воображения и только до тех пор, пока он в области теории добросовестно отказывается утверждать его бытие, и до тех пор, пока в области практики он отказывается творить бытие при посредстве этой видимости. Вы видите таким образом, что поэт в одинаковой мере переступает за свои пределы как в том случае, когда он приписывает своему идеалу бытие, так и в том, когда он при его помощи стремится к осуществлению определенного бытия. Ибо и то и другое он может осуществить не иначе, как или злоупотребляя своим правом поэта, вторгшись в область опыта своим идеалом и присвоив себе право определять простою возможностью действительное бытие, или же тем, что он отказывается от прав поэта, дозволяет опыту вторгнуться в область идеала и тем ограничивает возможность условиями действительности.
Видимость эстетична только поскольку она откровенна (то есть открыто отказывается от всяких притязаний на реальность) и поскольку она самостоятельна, то есть отрешается от всякой помощи реальности. Когда видимость лжива и подделывает реальность, когда она нечиста и нуждается для своего действия в реальности, тогда она есть не что иное, как низкое орудие для материальных целей, и отнюдь не служит доказательством свободы духа. Впрочем, вовсе не необходимо, чтобы предмет, в котором мы находим прекрасную видимость, был лишен реальности, лишь бы только наше суждение о нем не обращало внимания на эту реальность, ибо, поскольку оно обращает на реальность внимание, постольку суждение не эстетично. Живая женская красота нравится нам, конечно, столько же и даже немного более, чем нарисованная, но поскольку первая нравится нам более, чем последняя, постольку она нравится не только как самостоятельная видимость и не только чистому эстетическому чувству; последнему и живое должно нравиться лишь как явление и действительное только как идея; правда, чтобы наслаждаться в живом предмете одною лишь чистою видимостью, требуется гораздо более высокая степень эстетической культуры, чем для того, чтобы обходиться без жизни при созерцании видимости.
Там, где мы у единичного человека или целого народа встречаемся с откровенною и самостоятельною видимостью, там мы вправе предположить и ум, и вкус, и всякие связанные с ними навыки, там идеал управляет действительной жизнью, честь торжествует над собственностью, мысль – над наслаждением и мечта бессмертия – над бытием. Там единственно страшным является общественное мнение, и оливковый венок там будет в большем почете, чем пурпуровое платье. К ложной и хилой видимости прибегают лишь бессилие и извращенность, и отдельные люди и целые народы доказывают свое моральное ничтожество и эстетическое бессилие, когда они «подделывают действительность видимостью и (эстетическую) видимость действительностью» – то и другое часто сочетается в одно.
Итак, краткий и ясный ответ на вопрос: «В какой мере допустима видимость в моральном мире?» – таков: в той мере, в какой эта видимость эстетична, то есть такая видимость, которая не стремится ни замещать реальности, ни быть замещаемой реальностью. Эстетическая видимость отнюдь не может быть опасною чистоте нравов, и где дело обстоит иначе, там с легкостью можно показать, что видимость не была эстетическою. Только человек, незнакомый, например, с формами обращения, примет уверения вежливости, представляющие общую форму, за признак личного расположения и, разочаровавшись, будет жаловаться на притворство. Но только человек, ничего не понимающий в формах обращения, призовет фальшь на помощь, чтобы быть вежливым, и станет льстить, чтобы понравиться. Первому еще недостает понимания самостоятельной видимости, поэтому он может ей придать значение лишь путем истины; второму недостает реальности, и он хотел бы заменить ее видимостью.









































