Текст книги "Тургенев в русской культуре"
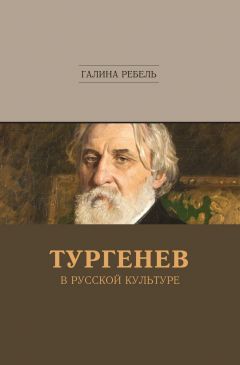
Автор книги: Галина Ребель
Жанр: Прочая образовательная литература, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Глава четвертая
Роман: становление жанровой формы
В предисловии уже цитировались слова Генри Джеймса, который писал Тургеневу: «…большой круг ваших поклонников в этих краях считает, что в ваших руках роман приобрел новую силу и обладает теперь бо́льшим очарованием, чем когда-либо…» [см.: ТП, 10, с. 628].
Однако существует мнение, что Тургенев вообще не писал романов, а то, что в его творчестве квалифицируется таким образом, на самом деле – повести (Б. Эйхенбаум) или жанровый гибрид повесть– роман (А. Г. Цейтлин). «Неразбериха» в какой-то мере была задана самим писателем, так как он называл свои крупные произведения то повестями, то романами, когда же занимался осознанным жанроопределением, то нередко использовал «снижающие», промежуточные формулы – как, например, в письме к Паулю Гейзе от 2 апреля 1874 года: «…с Вами происходит то же, что и со мной: мы оба пишем не романы, а только удлиненные повести» [там же, с. 429].
Показателен в этом плане его ответ И. А. Гончарову, который, ссылаясь на «мнение одного господина», указывал автору «Дворянского гнезда» на то, что он создает «картинки, силуэты, мелькающие очерки», то есть интересуется частностями, а «не сущностью, не связью и не целостью взятого круга жизни» [см.: ТП, 3, с. 602]. Тургенев на эти упреки отвечал, как всегда, самокритично: «Скажу без ложного смирения, что я совершенно согласен с тем, что говорил “учитель” о моем “Д<ворянском> г<незде>”. Но что же прикажете мне делать? Не могу же я повторять “Записки охотника” ad infinitum! А бросить писать тоже не хочется. Остается сочинять такие повести, в которых, не претендуя ни на целость и крепость характеров, ни на глубокое и всестороннее проникновение в жизнь, я бы мог высказать, что мне приходит в голову. Будут прорехи, сшитые белыми нитками, и т. д. Как этому горю помочь? Кому нужен роман в эпическом значении этого слова, тому я не нужен; но я столько же думаю о создании романа, как о хождении на голове: что бы я ни писал, у меня выйдет ряд эскизов» [ТП, 3, с. 290].
Не исключено, что тургеневская готовность признать «неполноценность», эскизность собственных романов в немалой степени повлияла на некоторые литературно-критические оценки его творчества. Например, В. Г. Одиноков пишет о «жанровой форме романа-эскиза» у Тургенева и с одобрением отмечает наметившуюся, с его точки зрения, в позднем творчестве тенденцию: «…эпичность тургеневской концепции жизни в “Нови” была одним из важнейших завоеваний писателя, опровергавшим его пресловутый европеизм в области художественной формы романа»5151
Одиноков В. Г. Художественная системность русского классического романа. Проблемы и суждения. М.: Наука, 1976. С. 44, 31.
[Закрыть]. Между тем «пресловутый европеизм» способствовал созданию таких шедевров, как «Дворянское гнездо», «Накануне», «Отцы и дети», а якобы ставшая важнейшим завоеванием писателя эпичность дала добротный, конечно, но отнюдь не самый совершенный и впечатляющий художественный результат, однако это обстоятельство исследователем игнорируется, а к роману Тургенева прилагаются внешние, «чужие» (заимствованные из творчества Л. Толстого), но воспринятые как общеобязательные, непреложные романные критерии. Л. Пумпянский, с которым, по-видимому, Одиноков и полемизирует, не называя его, напротив, видел достоинство Тургенева именно в том, за что Одиноков его порицает: «Роман не есть вид эпоса <…>. В романе нет <…> автономных единиц, не организованных притяжением одной общей цели; эта цель подчиняет себе роман от первой до последней страницы. Величайшим мастером такого романа в русской литературе (а вместе с Флобером и в европейской литературе) XIX века является И. С. Тургенев»5252
Пумпянский Л. В. Классическая традиция. Собрание трудов по истории русской литературы. М.: Языки русской культуры, 2000. С. 426.
[Закрыть]. Однако цельность, о которой говорит Л. Пумпянский, в еще большей степени, чем роману, присуща повести, рассказу и не может быть единственным критерием для определения романа. А. Батюто, сопоставляя романическое творчество Тургенева и Гончарова, цитирует воспоминания К. Леонтьева, в которых приводится высказывание Тургенева, относящееся к началу 50-х годов (приведем его без сделанных Батюто купюр): «О других того времени русских писателях Тургенев говорил мне, что из них только один Гончаров обладает даром “архитектурной постройки”, что он обнаружил этот дар в “Обыкновенной истории” (Из “Обломова” в то время был напечатан только один прекрасный отрывок “Сон Обломова”). Ни у себя самого, ни у Григоровича, ни у Дружинина этой “архитектурной” способности Тургенев не находил»5353
Леонтьев К. Воспоминания (1831–1868). СПб., 1914. С. 112.
[Закрыть]. Примечательно, что именно Леонтьев впоследствии, по выходе романа «Накануне», упрекнет автора в чрезмерной выстроенности повествования – буквально: в «математической точности плана»5454
Леонтьев К. Письмо провинциала к г. Тургеневу // Отечественные записки. 1860. № 5. С. 20.
[Закрыть]. Приведенные же выше суждения Тургенева начала 50-х годов явно не могут привлекаться в качестве основы для сравнения его художественной манеры с романной стратегией Гончарова, так как Тургенев в это время еще не написал ни одного романа. Очень продуктивное, на наш взгляд, сопоставление романных форм Тургенева и Достоевского, тем не менее, тоже нередко оборачивалось понижением статуса тургеневских созданий: так, с точки зрения В. Г. Щукина, в творчестве Тургенева и Достоевского явлены «два антагонистических жанра – психологическая повесть, поэтика которой определялась хронотопом усадьбы, и роман, поэтическая организация которого была преломлением хронотопа трущобы»5555
Щукин В. Г. Поэзия усадьбы и проза трущобы // Из истории русской культуры. Т. 5. (XIX век). М.: Языки русской культуры, 1996. С. 574.
[Закрыть].
Между тем жанровую идентификацию романов Тургенева существенно облегчает то, что, как справедливо отметил А. В. Чичерин, в самом творчестве писателя «очень отчетливы противопоставления очерка, рассказа, повести и романа»5656
Чичерин А. В. Ритм образа: Стилистические проблемы. М.: СП, 1980. С. 49.
[Закрыть]. На «весьма принципиальные жанровые различия между тургеневским романом и его повестью»5757
Батюто А. И. Тургенев-романист. Л.: Наука, 1972. С. 242.
[Закрыть] указывал и Батюто. То есть внутри единой художественной системы явственно обозначены границы, осуществлена жанровая дифференциация, более того – содержится художественный материал, на котором можно проследить, как из одной жанровой формы прорастает другая. В «Рудине» буквально на глазах у читателя происходит «строение» (Чичерин) романа, строение как процесс, разворачивающийся по ходу повествования. И дело тут, конечно, не в наращивании физического объема текста, и не только в характере предмета изображения – Батюто полагает, что «ни в одной повести Тургенева нет таких ярких и крупных типов – выразителей общественного самосознания, – какими являются центральные герои его романов»5858
Там же. С. 251.
[Закрыть], однако для подтверждения этого тезиса ему приходится в двух последних случаях («Дым» и «Новь») выдвинуть на первый план героев второго и третьего ряда – Потугина и Соломина. Дело и в предмете изображения, и в изменении способа изображения, и в характере проблематики.
Для повести характерно единство точки зрения – как правило, субъективно окрашенной (большинство повестей Тургенева написано от первого лица), в романе же мы видим мир не только сквозь объективную авторскую призму, но и глазами разных героев, в разных ракурсах, что и создает дополнительный объем, полноту и достоверность образа. Наглядно, даже нарочито это сделано в «Рудине», где слову заглавного героя противостоит едва ли не более весомое слово о нем его оппонента (Лежнева), между ними активно посредничает – до поры до времени в пользу последнего – повествователь, а к этому трио активно подключаются другие разнонаправленные оценки-голоса, так что субъектная структура «Рудина» являет собой наглядную иллюстрацию к идеям М. Бахтина о разноречивости, многоголосости как жанрообразующем принципе романа5959
См.: Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики: Исследования разных лет. М.: ИХЛ, 1975. С. 76.
[Закрыть].
Рудин предстает на пересечении устремленных на него взглядов, в отражении множества «зеркал», и с самого начала, с момента появления, фиксируется неоднозначность его личности и характера. Появляется он вместо другого, в облике его сочетаются зрелость и подростковость, речи его блещут красноречием, и в то же время им недостает живых красок и юмора. В доме Ласунской он занимает двусмысленное положение советчика, советам которого не следуют. Двоится и отношение к нему новых знакомых: полному приятию, восхищению и даже поклонению одних противостоит категорическая неприязнь тех, кого он успел задеть и раздражить своим присутствием.
На протяжении условной первой части (главы I–XI) Рудин выступает своеобразным «наглядным пособием» к разоблачительным характеристикам, которые ему дает Лежнев, и к дискредитирующим замечаниям повествователя, рассыпанным по всему тексту. Правда, первую порцию лежневских разоблачений (в частности, рассказ о забытой Рудиным и умершей в бедности и одиночестве матери) справедливо и тонко подвергает сомнению простодушная, но очень неглупая Александра Павловна Липина: «Знаете ли, что можно жизнь самого лучшего человека изобразить в таких красках – и ничего не прибавляя, заметьте, – что всякий ужаснется! Ведь это тоже своего рода клевета!». Но, на мгновение усомнившийся в справедливости своих обвинений («кто знает! – может быть, он с тех пор успел измениться – может быть, я несправедлив к нему»), Лежнев, после дополнительного пристального вглядывания в старого приятеля, не только более пространно изображает его «политической натурой», холодным позером, любителем и мастером «каждое движение жизни, и своей и чужой, пришпиливать словом, как бабочку булавкой», но и очень точно предсказывает дальнейшее развитие событий: «Дело в том, что слова Рудина так и остаются словами и никогда не станут поступками – а между тем эти самые слова могут смутить, погубить молодое сердце». Именно так все и произойдет в отношениях Рудина с Натальей Ласунской.
В. Маркович пишет о том, что комментарии Лежнева «диалогичны не только по форме <…>, но и по существу», ибо «предполагают возможность иной оценки, предвосхищают ее и напряженно ей противостоят»6060
Маркович В. М. И. С. Тургенев и русский реалистический роман XIX века (3050-е годы). Л.: Изд-во ЛГУ, 1982. С. 114.
[Закрыть], однако в рамках первой части точка зрения Лежнева доминирует, не получая никакого отпора, кроме абстрактно-гуманных предположений Александры Михайловны, более того, она подтверждается и повествователем, и поведением самого главного героя, и той «проповедью», которую он выслушивает при расставании от юной Натальи. Рудин действует точно по заданной схеме и полностью выполняет «обязательную программу»: доведя ситуацию до полной ясности – добившись от девушки признания в любви и выражения готовности следовать за ним (пришпилив словом молодое чувство), он отступает, отступается и не только предлагает Наталье покориться воле матери, но и самому себе не может сказать определенно, хотел ли он другой развязки, любил ли он Наталью всерьез или, как безнадежный и сугубый теоретик-рефлектер, всего лишь с ее помощью «уяснял самому себе трагическое значение любви». Он даже в самый час свидания не знает, чего хочет, чем оно должно закончиться, – так же как не знает этого изумленный решительностью Аси, сбежавшей с забуксовавшего на его нелепых отговорках свидания господин Н. Н. И дело тут не в том, что «психологический комментарий автора почти всегда оказывается неполным <…>, так что неповторимая истина конкретного переживания остается за рамками объяснения»6161
Маркович В. М. И. С. Тургенев и русский реалистический роман XIX века (3050-е годы). С. 116.
[Закрыть], – дело в том, что это тот случай, когда единственная неповторимая истина просто не существует.
На сей раз поведение героя комментируется достаточно подробно. Повествователь уличает Рудина в неспособности дать самому себе отчет в происходящем: «Рудин, умный, проницательный Рудин, не в состоянии был сказать наверное, любит ли он Наталью, страдает ли он, будет ли страдать, расставшись с нею»; задается вопросом о причинах столь непоследовательного поведения: «Зачем же, не прикидываясь даже Ловласом, – эту справедливость отдать ему следует, – сбил он с толку бедную девушку? Отчего ожидал ее с тайным трепетом?», тут же сам дает объяснение: «На это один ответ: никто так легко не увлекается, как бесстрастные люди». Этот диагноз, в сущности, повторяет приговор, вынесенный Рудину Лежневым: «он холоден, как лед». Однако тут же следуют существенные уточнения. Уличив героя в позерстве (при виде «картинно стоявшего на плотине Рудина» горничная, сопровождающая Наталью, замечает: «только напрасно они этак на юру стоят – сошли бы в лощину»), повествователь отмечает, что внешне эффектный, кажущийся самоуверенным Рудин «втайне смущался духом»; далее фиксируется простодушие реакции героя на категорическое неприятие Ласунской каких бы то ни было отношений между ним и дочерью, растерянность его перед напором предъявляемых Натальей обвинений, огорчение, чувство стыда. Эти переживания свидетельствует не о холодности, а скорее о недостатке горячности, об отсутствии безоглядной любви и – о трезвости самооценки: «Она права; она стóит не такой любви, какую я к ней чувствовал…», – признает он и тут же сам ловит себя на противоречии: «Чувствовал?.. <…> Разве я уже больше не чувствую любви?».
Есть в русской литературе едва ли не буквальное интонационно– психологическое повторение этого рудинского признания – «Диалог Гамлета с совестью» Марины Цветаевой:
– На дне она, где ил
И водоросли… Спать в них
Ушла, – но сна и там нет!
– Но я ее любил,
Как сорок тысяч братьев
Любить не могут!
– Гамлет!
На дне она, где ил:
Ил!.. И последний венчик
Всплыл на приречных бревнах…
– Но я ее любил,
Как сорок тысяч…
– Меньше
Все ж, чем один любовник.
На дне она, где ил.
– Но я ее —
любил??
Перекличка эта (наверняка непроизвольная, обусловленная принадлежностью героя Тургенева и героя Цветаевой к одному типологическому гнезду) очень знаменательна, так как позволяет дополнительно акцентировать гамлетовскую вопрошающую природу героя. Психологический анализ не может здесь «рассеять недоумение читателя» не потому, что «останавливается на пороге главных тайн индивидуальности героя»6262
Маркович В. М. И. С. Тургенев и русский реалистический роман XIX века (3050-е годы). С. 119.
[Закрыть], как это, например, происходит в случае Лизы Калитиной, но потому, что эта индивидуальность не поддается аналитическому пришпиливанию, к которому так любил прибегать сам Рудин. «Неоконченное существо», каким представлен герой тургеневского романа, не измеряется фиксирующими некую одномоментную определенность приемами психологического аналитизма, вернее, самый этот аналитизм здесь возможен только в такой – вопрошающей (изнутри героя к самому себе и извне к нему) – форме.
С точки зрения Л. Гинзбург, герой Тургенева непонятен вне реального исторического контекста, которым порожден, она, вслед за Л. Пумпянским, полагает, что «Тургенев в своих романах действительно хотел создать “беспримесную”, устойчивую модель исторического характера», и рассматривает Рудина исключительно в свете первоначальной лежневской характеристики, с одной стороны, сужая до нее образ, а с другой – настаивая на его неконвенциональности, непрозрачности вне указанных рамок: «Что, например, получится, если из обличающей лежневской характеристики Рудина извлечь набор “общечеловеческих” свойств? <…> Умный, пустой, холодный, деспот, фразер, позер, бесцеремонный в денежных делах и т. д. Но все это не адекватно Рудину. Не похоже. В контексте романа этот подбор свойств не складывается в образ – без ориентации на Бакунина, на кружки и умственную жизнь 30-х годов, на людей 40-х годов. Изображенные Лежневым свойства Рудина – это особые свойства, по самой своей фактуре исторические. Его слабохарактерность и нерешительность – это рефлексия, исследованная Белинским; его фразерство – не вообще фразерство, но те ходули и фраза, с которыми враждовал Станкевич; его деспотизм порожден формами кружкового общения». И далее следует знаменательный вывод: «Свойства Рудина не существуют вне его исторической функции русского кружкового идеолога 30-х годов»6363
Гинзбург Л. О психологической прозе. Л.: СП, 1971. С. 309, 310–311.
[Закрыть].
Но если это так, если свойства Рудина не существуют вне его конкретно-исторической функции и вне реальной жизненной обстановки, его породившей, то роман Тургенева «Рудин» мертв как художественное произведение и ничего не может сказать читателям, пребывающим в неведении относительно соответствующего исторического контекста и его персоналий. Между тем Анненков, одним из первых указавший на то, что в «Рудине» «является <…> почти историческое лицо», формулирует свойства этого лица таким образом, что оно, при всей своей характерности для определенной эпохи, обретает расширительный, общенациональный и вневременной смысл: наделенное «смело-отрицательным, пропагандирующим характером», оно «является как несостоятельная личность в делах общежития, в столкновениях рефлектирующей своей природы с реальным домашним событием»6464
Анненков П. В. Литературные воспоминания. С. 392.
[Закрыть]. В этом описании угадываются и Чацкий, и Бельтов, не говоря уже о собственно тургеневских прототипах образа Рудина, а в общем это типичный русский Гамлет – тургеневский Гамлет: «абстрактная русская натура, устраняющаяся и пассирующая перед явлениями, им же и вызванными на свет»6565
Там же.
[Закрыть].
Абсолютизируя социально-историческую конкретику образа Рудина, Гинзбург игнорирует романический многомерный способ подачи героя, которого мы видим отнюдь не только глазами «кружковца» Лежнева, более того, почему-то сбрасывается со счетов то, о чем тот же Лежнев говорит в двух последних эпизодах романа, когда он, по сути дела, опровергает, вернее, переосмысляет собственные оценки.
Образ Рудина двоится с самого начала, но до определенного момента это преимущественно двоение между внешними (публичными) предъявлениями и не соответствующей им внутренней сущностью. Такая подача героя достигает своей кульминации в развязке любовной истории, в классической ситуации на rendez-vous. Гамлетовский вопрос у Тургенева становится вопросом о состоятельности на любовном свидании, а сам Гамлет-Рудин предстает рефлектером, слова которого «так и остаются словами» – слова, слова, слова… Таков смысловой итог условной первой части (одиннадцати глав) романа, которая, завершись повествование на этом месте, действительно осталась бы повестью с романическим потенциалом, обеспеченным сюжетно нереализованной многомерностью подачи героя, и драматургической интенцией, сказавшейся в диалогической интенсивности и «постановочности» целого ряда эпизодов. В этом смысле прав был В. Баевский, писавший о том, что «“Рудин”, стоящий на рубеже “старой” и “новой” манеры, является своего рода энциклопедией жанров Тургенева»6666
Баевский В. С. «Рудин» И. С. Тургенева: К вопросу о жанре // Вопросы литературы. 1958. № 2. С. 138.
[Закрыть].
Однако далее в романе происходит незаметный внешне, но очень существенный повествовательный сдвиг. Во-первых, герой перехватывает инициативу и на все разоблачения, кульминацией которых становится «проповедь» разочарованной в своем избраннике Натальи Ласунской, отвечает горькими признаниями в прощальном письме к ней. Этим письмом, с одной стороны, подтверждается чужой приговор, с другой – этот приговор существенно корректируется, ибо под очевидным извне несовпадением фразы и сути обнаруживается внутреннее, сущностное, осознанное и тяжело переживаемое самим героем противоречие. Во-вторых, автор словно спохватывается и дает задний ход. В сущности, первоначальная художественная задача выполнена, герой в полной мере оправдал сюжетные ожидания и повесть на этом должна была бы закончиться, как закончилась «поражением» на rendez-vous история господина Н. Н. («Ася»). Но Тургенев на сей раз пишет не повесть, а удлиненную повесть, то есть – роман. И хотя и не очень ловко структурно – швы вывернуты наружу, пропорции не соблюдены, – автор ломает заданную было логику предъявления героя и, прибегнув к помощи безотказного сюжетного двигателя – дискретно данного течения времени (перескочив через два года, а потом, в эпилоге, еще через несколько лет), выбирается из рамок любовной истории, расширяет и углубляет картину, вписывает героя в хронотоп дороги, нескончаемого скитальческого пути, и вновь сводит его с Лежневым, который из главного обвинителя Рудина превращается в его пылкого защитника.
В XII главе Лежнев дезавуирует свои обвинения заочно, ссылаясь на ревность как на их мотив (что ни в коей мере не просматривалось, не подготовлено было в «основном» сюжете) и объясняя слабости Рудина внешними относительно героя, объективными обстоятельствами. А в эпилоге, уже при личной встрече с Рудиным, он смотрит на потускневшего внешне, но не изменившегося по существу приятеля молодых лет совершенно другими, нежели ранее, глазами и дает противоположную первоначальной интерпретацию его личности и судьбы, в которой слабость оборачивается силой «странного человека», жертвовавшего во имя верности идеалу своими личными выгодами и никогда не пускавшего корней «в недобрую почву, как она жирна ни была». При этом кардинально меняется и самый характер повествования: оно обретает сочувственно-симпатизирующую по отношению к герою окраску. «Слова, всё слова! дел не было!» – напоминает сам Рудин свою гамлетовскую тему. «Да; но доброе слово – тоже дело», – понимает и признает теперь Лежнев, и финальный аккорд – гибель Рудина на баррикадах – своеобразная авторская дань герою, оказавшемуся способным подтвердить делом, сдержать собственное слово о себе: «Я кончу тем, что пожертвую собой за какой-нибудь вздор, в который даже верить не буду…»
В итоге возникает принципиально иная, нежели данная изначально, новая двойственность: это уже не расхождение между поведением и внутренней сущностью героя, и не только глубинная его личностная противоречивость, но – несовпадение субъективной устремленности к идеалу и объективной невозможности ее реализовать по причине неготовности почвы, на которую падают семена. Финальный Рудин из Гамлета преображается в Дон Кихота с судьбой Вечного Жида.
Еще раз подчеркнем: сюжетный «довесок» к основному повествованию, состоящий из двух фрагментов (XII глава в которой нет Рудина, но есть разговоры о нем по прошествии двух лет после главных событий, и эпилог, действие которого происходит еще несколько лет спустя с участием Рудина), не закругляет-договаривает заданные темы, а, вопреки традиционной сюжетной логике, выворачивает наизнанку первоначальную трактовку, оспаривает не только частную лежневскую точку зрения, но и ту авторскую концепцию, в свете которой подавался герой в «основном» сюжете.
Убедительно показав эффектно философствующего героя-идеалиста и сюжетно продемонстрировав его жизненное фиаско, автор словно сам спотыкается об эту линейную, однонаправленную доказательность, в которой господствует заданность, тенденция, а значит – полуправда, если не ложь, и, в ущерб художественной стройности, но во имя художественной правды там, где следовало поставить точку, вдруг заводит речь с другого конца. Если первые одиннадцать глав – это аргументы против героя, то двенадцатая глава и эпилог – это аргументы в его пользу, контраргументы, не перекрывающие все обвинения (в частности, печальную историю забвения героем собственной матери), но уничтожающие однозначность и безапелляционность ранее вынесенного приговора.
Несовершенство, недорешенность романной структуры (конструктивная двойственность) оказывается в данном случае своеобразным эстетическим аналогом «неоконченного существа», которому роман посвящен, и с этой точки зрения эстетически оправданна. Именно в «Рудине» впервые была предъявлена собственно тургеневская романная формула, которую Пумпянский определил как «роман лица»6767
Пумпянский Л. В. Классическая традиция. Собрание трудов по истории русской литературы. С. 383.
[Закрыть]. И при всей важности решения вопроса «об историческом значении героя»6868
Бялый Г. А. Русский реализм: От Тургенева к Чехову. Л.: СП, 1990. С. 91. Ранее об этом писали Л. Пумпянский, Л. Гинзбург.
[Закрыть], вопрос о его личностной значимости и ценности в конечном счете гораздо важнее, ибо именно это делает роман бессмертным, именно это выводит его на общечеловеческий простор.
Вряд ли можно согласиться с тем, что «роман и повесть Тургенева являются разными формами осмысления подчас одних и тех же или родственных явлений действительности»6969
Беляева И. А. Система жанров в творчестве И. С. Тургенева. М.: МГПУ, 2005. С. 220.
[Закрыть]. В том-то и дело, что в романе и повести Тургенева осмысляются принципиально разные явления. И разность эта отнюдь не исчерпывается тем, что, в отличие от романа, «событие в повести всегда мыслится в прошлом»7070
Захаров В. Н. Система жанров Достоевского. Л., 1985. С. 65.
[Закрыть], а действие романа разворачивается в настоящем, – тургеневский роман не только на уровне хронотопа, но на всех своих уровнях строится принципиально отличным от повести образом.
Личность героя во всей ее сложности, противоречивости и полноте, в разных ее проявлениях, с разных точек зрения поданная, не только на rendez-vous (это удел повести), но в разных ситуациях и положениях испытанная, – вот что является главным предметом изображения в тургеневском романе. А поскольку эта личность укоренена во времени и в определенном смысле действительно является исторической, то ее драма всегда сопряжена с идеологической проблематикой.
По поводу «Вешних вод» Тургенев писал: «Моя повесть <…> едва ли понравится: это пространно рассказанная история о любви, в которой нет никакого ни социального, ни политического, ни современного намека» [ТП, 9, с. 195]. Однако даже если эти намеки в повести есть, они остаются не более чем намеками. В повести не может быть сюжетно выраженного идеологического напряжения. Идеологическая полемика – жанровый атрибут романа, так как она предполагает развернутый диалог, спроецированный на соответствующий социальный фон, что разрушительно для центростремительной компактности, необходимо присущей повести. «Длить споры» невозможно в рамках малой формы, нужен нерегламентированный сюжетный простор, который предоставляет только роман. В «Рудине» этот простор создается, как уже показано, отчасти за счет художественной цельности, автору приходится к основному сюжету сделать контрастирующие с ним пристройки, чтобы придать полемический объем заданной теме, полнокровность образу главного героя и архитектурную устойчивость (при всем ее несовершенстве в данном случае) романной конструкции.
Еще несколько важных отличительных романических черт.
В повести в центре внимания эпизод из жизни героя – например, «история о любви». В центре тургеневского романа – сам герой. Батюто пишет, что «внешне схема любовной коллизии в романе Тургенева (Наталья – Рудин – Волынцев) выглядит как сжатое во времени и пространстве повторение “избитых” сюжетно-композиционных положений женского романа, высмеянных самим же писателем в статье о “Племяннице”»7171
Батюто А. И. Тургенев-романист. С. 303.
[Закрыть]. Однако в том-то и дело, что эта архетипическая схема в романе «Рудин» разбита, принципиально трансформирована: вовсе не любовный треугольник здесь движет сюжетом, основа сюжета – личность и судьба Рудина, сюжетное действо строится как испытание героя, и ситуации на rendez-vous оказывается для этого недостаточно, не говоря уже о том, что Волынцев в качестве соперника не играет существенной сюжетной роли, логика событий предопределена исключительно характером и личностью Рудина.
В повести все центрировано вокруг главного эпизода, главного сюжетного задания: Гагин интересует рассказчика, а вместе с ним и автора исключительно постольку, поскольку он участвует в отношениях Аси и господина Н. Н. и выступает своеобразным двойником Н. Н.; у Гагина нет собственного художественного пространства, собственной сюжетной линии. Роману свойственна «композиционная разветвленность»7272
Чичерин А. В. Ритм образа: Стилистические проблемы. М.: СП, 1980. С. 50.
[Закрыть]. Уже в «Рудине», кроме заглавного героя, свое сюжетное пространство имеет Наталья, по ходу повествования свою собственную линию «отвоевывает» выполнявший поначалу исключительно резонерские функции Лежнев. В последующих тургеневских романах сюжетное разветвление станет явственнее и число персонажей, существующих не только для главного героя, но и для самих себя, существенно возрастет.
Романическое мастерство Тургенева в полном его блеске будет предъявлено уже в романе «Дворянское гнездо».
Если сюжетное движение «Рудина» можно сравнить с течением канала, нарочито изогнутого в конце пути, то сюжет «Дворянского гнезда» течет вольно и прихотливо, как река, которая сама по себе, без стороннего усилия и воздействия движется меж естественных берегов. Разумеется, это тоже движение по плану, оно тщательно продумано и выверено в каждом своем повороте-изгибе, но при этом так организовано и воссоздано, что читатель не чувствует направляющей авторской воли – показалось же Гончарову, что организующего начала здесь нет вообще. Не менее интересен с этой точки зрения и отзыв Салтыкова-Щедрина: «Я давно не был так потрясен, но чем именно – не могу дать себе отчета»7373
Щедрин Н. (М. Е. Салтыков). ПСС. Т. 18. М.: Гослитиздат, 1937. С. 144.
[Закрыть].
Даже «реальный критик» Добролюбов, целенаправленно использовавший литературное произведение для извлечения из него социально полезных выводов, по поводу «Дворянского гнезда», по собственному признанию, не смог дать отчета, вернее, решил этого не делать. Заметив, что «Лаврецкий принадлежит к тому роду типов, на которые мы смотрим с усмешкой», усмехнуться в данном случае не смог, а признался, что «над таким положением поневоле задумаешься горько и тяжело», и не стал ввязываться в полемику по поводу отразившегося в романе «огромного отдела понятий, заправляющих нашей жизнью», а просто разделил «единодушное, восторженное участие всей читающей русской публики»7474
Добролюбов Н. А. Избранные статьи. М., 1978. С. 179–180.
[Закрыть]. Это очень показательная с точки зрения силы эстетического воздействия реакция, так как по своему общественно-политическому наполнению «Дворянское гнездо» едва ли не более острая вещь, чем «Рудин». В то время как «люди рудинского закала», по мнению Добролюбова, к моменту написания «Дворянского гнезда» потеряли «значительную долю своего прежнего кредита» – в новой ситуации «Рудиным просто делать нечего»7575
Там же. С. 177.
[Закрыть], – Лаврецкий, принадлежа уходящему в прошлое социально-эстетическому миру дворянских гнезд, в то же время олицетворяет стоящую перед выбором Россию. В нем и его судьбе сошлись по крайней мере три основные социально-исторические тенденции: с одной стороны, приверженность инерции (традиции), тяготение к стабильности, тишине, «сну» – «байбачеству»; с другой – неизбежная вовлеченность в текущие сложные и болезненные процессы социальных преобразований; с третьей – необходимость идеологического самоопределения, выбора между умеренным славянофильством, в пику негативному личному опыту пребывания за границей, идеализмом рудинского типа, представленным Михалевичем, и либерально-западнической позицией, декларируемой «государственником» Паншиным.
Автор очевидно симпатизирует герою, предпочитающему народную правду и готовому к «смирению перед нею», жаждущему «пахать землю <…> и стараться как можно лучше ее пахать», ибо его выбор не умозрителен, а оплачен личным опытом страданий и скитаний. По наблюдению Б. Ф. Егорова, именно в тургеневском цикле статей Аполлона Григорьева, в его размышлениях о Лаврецком, «появляется зародыш будущего “почвенничества”, идеологии, которую Григорьев станет подробно развивать вместе с Достоевским два года спустя»7676
Егоров Б. Ф. Аполлон Григорьев. М.: Молодая гвардия, 2000. С. 169.
[Закрыть].
Спор о путях развития России между представителями разных идеологических течений не разрешен в романе, ибо в самой жизни он, в сущности, еще только набирал остроту, и Тургенев вновь и вновь будет возвращаться к нему в «Накануне», «Отцах и детях», «Дыме», «Нови». В «Дворянском гнезде» взыскующее о завтрашних путях развития настоящее через пространную, разноликую историю рода Лаврецких тесно сопряжено с прошлым, которое отнюдь не кануло в лету. Герой не только подпитывается и укрепляется воспоминаниями – отнюдь не идиллическими, между прочим, картинами жизни дворянского гнезда – но и незаметно для самого себя поддерживает старый уклад: в то время как он сидит с трубкой табаку и чашкой холодного чаю у окна, белоголовый старик Антон, «которому уже стукнуло лет за восемьдесят», стоит у двери и, «заложив назад руки», ведет «свои неторопливые рассказы о стародавних временах».
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































