Текст книги "Тургенев в русской культуре"
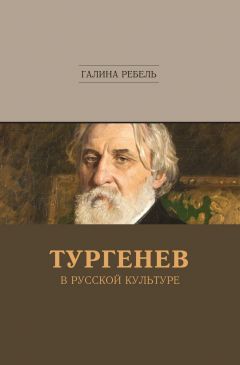
Автор книги: Галина Ребель
Жанр: Прочая образовательная литература, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
В ответ на исходящий от Аси призыв героем овладевает неведомая ему дотоле «жажда счастия» – не того пассивного, самодостаточного, счастья, счастья «беспредметного восторга», которое он испытал уже в первый вечер знакомства с Гагиными, а иного, томительного, тревожного – «счастья до пресыщения», жажду которого зажгла в нем Ася и утоление которого сулила она же.
Но – даже мысленно Н. Н. не персонифицирует свое ожидание: «Я еще не смел назвать его по имени». Даже задаваясь риторическим вопросом «Неужели она меня любит?» и тем самым, по существу, обнаруживая, обнажая (пусть всего лишь мысленно) чужое переживание, сам он по-прежнему уклоняется не только от ответа, но даже и от вопроса о собственных чувствах: «…Я не спрашивал себя, влюблен ли я в Асю»; «Я не хотел заглядывать в самого себя».
У этой безотчетности, бессознательности переживаний двоякая, вернее, двуединая природа.
С одной стороны, здесь проявляется молодая беспечность («Я жил без оглядки»), чреватая эгоизмом: печаль, которую Н. Н. читает в облике Аси, вызывает в нем не столько сочувствие к ней, сколько сокрушение на свой собственный счет: «А я пришел таким веселым!».
С другой стороны – и это возможное следствие или, напротив, предпосылка первой причины, – сказывается уже не раз отмеченная нами созерцательность, пассивность характера, предрасположенность героя к тому, чтобы вольготно предаваться «тихой игре случайности», отдаваться на волю волн, двигаться по течению. Красноречивое признание на сей счет прозвучало уже в самом начале повести: «В толпе мне было всегда особенно легко и отрадно; мне весело было идти, куда шли другие, кричать, когда другие кричали, и в то же время я любил смотреть, как эти другие кричат». А в середине повести, в тот самый момент, когда герой томится жаждой «предметного», сопряженного с жизнью другого человека, волнующего, а не баюкающего счастья, в повествовании возникает образ-символ – воплощение характера и судьбы «нашего Ромео».
Возвращаясь от Гагиных после безмятежно проведенного с ними дня, Н. Н., как обычно, спускается к переправе, но, на сей раз, вопреки обыкновению, «въехавши на середину Рейна», просит перевозчика «пустить лодку вниз по течению». Не случайный, символический характер этой просьбы подтверждается и закрепляется следующей фразой: «Старик поднял весла – и река понесла нас». На душе у героя неспокойно, как неспокойно в небе («испещренное звездами, оно все шевелилось, двигалось, содрогалось»), как неспокойно в водах Рейна: «и там, в этой темной, холодной глубине, тоже колыхались, дрожали звезды».
Трепет и томление окружающего мира – словно отражение его собственного душевного смятения и, вместе с тем, катализатор, стимулятор этого состояния: «тревожное ожидание мне чудилось повсюду – и тревога росла во мне самом». Вот тут-то и возникает неудержимая жажда счастья и, казалось бы, необходимость и возможность немедленного ее утоления, но эпизод завершается столь же знаменательно, как начинался и разворачивался: «лодка все неслась, и старик перевозчик сидел и дремал, наклонясь над веслами»…
Между тургеневскими героями, в отличие от героев пушкинских, нет никаких объективных препятствий: ни окровавленной тени убитого на дуэли друга, ни обязательств по отношению к какому-либо третьему лицу («Я другому отдана…»).
Асино происхождение, которое держит ее в состоянии психологического дискомфорта и кажется неблагоприятным обстоятельством ее брату, для просвещенного, интеллигентного молодого человека, разумеется, никакого значения не имеет.
Н. Н. и Ася молоды, красивы, свободны, влюблены, достойны друг друга. Это настолько очевидно, что Гагин даже решается на весьма неловкое объяснение с приятелем о его намерениях относительно сестры. Счастье, о котором уже так много сказано, в данном случае не просто возможно, но едва ли не обязательно, оно само идет в руки. Но наши герои движутся к нему по-разному, разными темпами, разными путями. Он – по плавной, уходящей в невидимую даль горизонтали, отдавшись стихийному течению, наслаждаясь самим этим движением, не ставя себе цели и даже не думая о ней; она – по сокрушительной вертикали, как в пропасть с обрыва, чтобы или накрыть вожделенную цель, или разбиться вдребезги.
Если символом характера и судьбы героя выступает движение с поднятыми веслами по течению реки – то есть слиянность с общим потоком, доверительное полагание на волю случая, на объективное течение самой жизни, то символический для понимания Асиного характера эпизод – это момент, когда она сидит «на уступе стены, прямо над пропастью», то есть момент противоречия, противоборства, романтического вызова судьбе; развитие и углубление этот символ получит в разговоре Аси с Н. Н. о скале Лорелеи.
Хорошо понимающий свою сестру Гагин в трудном для него разговоре с Н. Н., затеянном в надежде на возможность счастливого разрешения Асиных душевных терзаний, в то же время невольно, но очень точно и необратимо противопоставляет Асю ее избраннику, да и самому себе:
«…Мы с вами, благоразумные люди, и представить себе не можем, как она глубоко чувствует и с какой невероятной силой высказываются в ней эти чувства; это находит на нее так же неожиданно и так же неотразимо, как гроза».
Категорическая неспособность «подойти под общий уровень»; страстность натуры («у ней ни одно чувство не бывает вполовину»); тяготение к противоположным, предельным воплощениям женского начала (с одной стороны, ее влечет к себе гетевская «домовитая и степенная» Доротея, с другой – таинственная погубительница и жертва Лорелея); совмещение серьезности, даже трагедийности мироощущения с детскостью и простодушием (между рассуждениями о сказочной Лорелее и выражением готовности «пойти куда-нибудь далеко, на молитву, на трудный подвиг» вдруг возникает воспоминание о том, что «у фрау Луизе есть черный кот с желтыми глазами»); наконец, живость нрава, подвижность, изменчивость – все это составляет очевидный контраст тому, что свойственно Н. Н., что характерно для ее брата. Отсюда и страх Гагина: «Порох она настоящий. <…> беда, если она кого полюбит!», и его растерянное недоумение: «Я иногда не знаю, как с ней быть»; и его предостережение самому себе и Н. Н.: «С огнем шутить нельзя…»
И наш герой, безотчетно любящий Асю, томящийся жаждой счастья, но не готовый, не спешащий эту любовную жажду утолить, вполне осознанно, очень трезво и даже по-деловому приобщается к хладнокровному благоразумию Асиного брата: «Мы с вами, благоразумные люди…» – так начинался этот разговор; «…Мы принялись толковать хладнокровно по мере возможности о том, что нам следовало предпринять», – так безнадежно для Аси он заканчивается. Это объединение (мы, нам) благоразумных, хладнокровных, рассудительных и положительных мужчин против девушки, которая – порох, огонь, пожар; это союз благонравных филистеров против неуправляемой и непредсказуемой стихии любви.
Тема филистерства (обывательской эгоистичной ограниченности) не лежит на поверхности рассказа и, на первый взгляд, акцентирование ее может показаться надуманным. Само слово «филистеры» звучит лишь однажды, в рассказе о студенческом празднике, на котором пирующие студенты ритуально бранят этих самых филистеров – трусливых блюстителей неизменного порядка, и больше оно ни разу в тексте повести не встречается, а по отношению к ее героям кажется вообще неприменимым.
Тонко чувствующий, чуткий, гуманный и благородный Н. Н. вроде бы никак не подходит под это определение. Чрезвычайно привлекательным и абсолютно не похожим на заскорузлого обывателя предстает перед читателем и Гагин. Его внешнее обаяние («Есть на свете такие счастливые лица: глядеть на них всякому любо, точно они греют вас или гладят. У Гагина было именно такое лицо…») является отражением душевной грации, которая так располагает к нему Н. Н.: «Это была прямо русская душа, правдивая, честная, простая…»; «…Не полюбить его не было возможности: сердце так и влеклось к нему». Объясняется это расположение не только объективными достоинствами Гагина, но и несомненной душевной и личностной близостью его Н. Н., очевидным сходством между молодыми людьми.
Мы не видим главного героя повести со стороны, все, что мы знаем о нем, рассказывает и комментирует он сам, но, по совокупности всей информации, мы понимаем, что его, как и Гагина, тоже невозможно было не полюбить, что к нему тоже влеклись сердца, что он вполне заслужил высокую аттестацию своего самого беспощадного критика – Чернышевского: «Вот человек, сердце которого открыто всем высоким чувствам, честность которого непоколебима, мысль которого приняла в себя все, за что наш век называется веком благородных стремлений»4646
Чернышевский Н. Г. Русский человек на rendez-vous. С. 58.
[Закрыть].
Однако сходство Н. Н. с Гагиным является не только добрым знаком, но и тревожным сигналом. В «пожароопасной» ситуации влюбленный Н. Н. ведет себя так же, как влекущийся к творческим свершениям Гагин: «Пока мечтаешь о работе, так и паришь орлом: землю, кажется, сдвинул бы с места – а в исполнении тотчас ослабеешь и устаешь». Выслушавший это признание Н. Н. старается ободрить товарища, но мысленно ставит безоговорочный и безнадежный диагноз: «…Нет! трудиться ты не будешь, сжаться ты не сумеешь». Он уверен в этом потому, что знает это изнутри, из себя, так же как его двойник Гагин знает про него: «…вы не женитесь».
«Жениться на семнадцатилетней девочке, с ее нравом, как это можно!» – вот он, классический образчик филистерской логики, которая вытесняет и поэтический настрой, и жажду счастья, и душевное благородство. Эта та самая логика, которая в другом знаменитом произведении русской литературы будет ужата до классической формулы «футлярного» существования: «Как бы чего не вышло…».
Настрой, с которым герой идет на свидание, вновь актуализирует, выводит на поверхность повествования пушкинскую формулу счастья, но делает это парадоксальным, «наоборотным» образом.
Герой помнит о своем порыве, но словно дистанцируется от него вопросом-воспоминанием: «А еще четвертого дня в этой лодке, уносимой волнами, не томился ли я жаждой счастья?» Н. Н. не может не понимать: «Оно стало возможным…»; он честно признается себе в том, что только в нем теперь дело, только за ним остановка: «…и я колебался, я отталкивал», но, словно уходя от последней ответственности, прячется за какой-то мифический, надуманный, несуществующий императив: «…я должен был оттолкнуть его прочь…».
Выделенные нами слова, составляющие смысловой каркас размышлений героя перед решающим объяснением, с одной стороны, отсылают к Пушкину, а с другой – опровергают пушкинскую логику.
Возможность соединения, которая в момент последнего свидания героями «Евгения Онегина» безвозвратно утеряна, у героев «Аси» есть. Долженствование, которое там не подлежало сомнению, ибо речь шла о долге супружеской верности, в данном случае просто отсутствует: ни Н. Н., ни Ася никому ничего не должны, кроме как самим себе быть счастливыми. Многократно апеллирующий к некоему долгу перед Гагиным уже во время свидания, герой откровенно лукавит: Гагин приходил к нему накануне не для того, чтобы воспрепятствовать, а для того, чтобы содействовать счастью сестры и горячечным, по ее просьбе, отъездом не разлучить ее с тем, кто может составить ее счастье.
Нет, Гагин никак не годится на роль неумолимого Тибальта. Как не справился с ролью Ромео и господин Н. Н. И даже волнующая и беззащитная близость Аси во время свидания – ее неотразимый взгляд, трепет ее тела, ее покорность, доверительное и решительное «Ваша…», и даже ответный огонь в собственной крови и минутный самозабвенный порыв навстречу Асиной любви – ничто не перевешивает таящегося в глубине души Н. Н. страха («Что мы делаем?») и неготовности взять ответственность на себя, а не перелагать ее на другого: «Ваш брат… ведь он все знает… <…> Я должен был ему все сказать».
Асино ответное недоумение «Должны?» абсолютно совпадает с читательской реакцией на происходящее во время свидания. Да и сам герой чувствует нелепость своего поведения: «Что я говорю?» – думает он, но продолжает говорить то, что ничего, кроме чувства неловкости и разочарования, вызвать не может. Он обвиняет Асю в том, что она не сумела скрыть от брата своих чувств (?!), заявляет, что теперь «все пропало» (?!), «все кончено» (?!) и при этом «украдкой» наблюдает за тем, как краснеет ее лицо, как ей «стыдно становилось и страшно». «Бедное, честное, искреннее дитя» – сокрушается рассказчик по прошествии двадцати лет, но во время свидания она не услышит даже онегинского холодного, но уважительного признания: «Мне ваша искренность мила»; тургеневский герой по достоинству оценит эту искренность лишь с безнадежного и непреодолимого расстояния.
Бесхитростной, простодушной, страстно влюбленной Асе и в голову не могло прийти, что сокрушительные формулы «все пропало», «все кончено» – это всего лишь защитные фразы потерявшегося молодого человека, что, придя на свидание, герой «еще не знал, чем оно могло разрешиться», что слова, которые он произносил и которые звучали так безнадежно категорично, скрывали внутреннее смятение и беспомощность. Бог знает, сколько бы это длилось и чем кончилось – плыть по течению ведь можно бесконечно. Но падать с обрыва бесконечно нельзя: Асе достало решимости назначить свидание, достало ее и на то, чтобы прервать его, когда продолжение объяснений показалось бессмысленным.
Плачевный итог этой сцены – грустная пародия на финал «Евгения Онегина». Когда Ася «с быстротою молнии бросилась к двери и исчезла», – герой остался стоять посреди комнаты, «уж точно, как громом пораженный». Использованные здесь метафора и сравнение акцентируют мотив грозы, огня, который на протяжении всей повести служит воплощением Асиного характера и Асиной любви; в рамках эпизода эти приемы задают динамику развития образа: она исчезла «с быстро– тою молнии» – он остался стоять, «как громом пораженный».
Но кроме того, и это едва ли не главное, фраза «уж точно, как громом пораженный» отсылает читателя к пратексту:
Она ушла. Стоит Евгений,
Как будто громом поражен.
И эта отсылка многократно усиливает, усугубляет трагическую нелепость случившегося.
Там – «буря ощущений», порожденных таким желанным Татьяниным признанием в любви и таким правомерно безоговорочным ее отказом этой любви отдаться. Здесь – полное душевное смятение и неразбериха при абсолютном отсутствии объективных проблем: «Я не понимал, как могло это свидание так быстро, так глупо кончиться – кончиться, когда я и сотой доли не сказал того, что хотел, что должен был сказать, когда я еще сам не знал, чем оно могло разрешиться…»
Там – «шпор незапный звон раздался» и показался муж как олицетворение законного и непреодолимого препятствия счастью. Здесь появляется фрау Луизе, содействовавшая любовному свиданию и всем своим изумленным видом – «приподняв свои желтые брови до самой накладки» – подчеркивающая грустный комизм ситуации.
С Онегиным мы расстаемся «в минуту, злую для него», Н. Н. выходит из комнаты, где происходило свидание, и из соответствующего эпизода повести, по его же собственному определению, «как дурак».
Но, в отличие от романа Пушкина, повесть Тургенева неудачным объяснением героев не заканчивается. Н. Н. дается – и это редчайший, уникальный, случай, «контрольное» испытание и вместе с тем демонстрация закономерности, неизбежности происходящего – еще один шанс, возможность все исправить, объясниться если не с Асей, то с ее братом, попросить у него ее руки.
То, что герой переживает после так глупо кончившегося свидания, вновь и вновь отсылает нас к пушкинскому тексту.
Сравним:

Пушкинская триада – досада, безумство, любовь – у Тургенева усилена и подчеркнута повторением. Чужой опыт подключается к опыту просвещенного, чуткого и восприимчивого Н. Н. – не для того ли, чтобы он мог избежать чужих и не наделать своих ошибок?
Приходит, наконец, и решимость, вырастают крылья, возникает уверенность в обратимости, исправимости случившегося, в возможности, близости, уловимости счастья. Не как обещание, а как торжество обретения звучит для героя ритуальная песнь соловья: «…мне казалось, он пел мою любовь и мое счастье». Но так только казалось…
А читателю, в свою очередь, может показаться, что и этот второй, так щедро подаренный герою судьбой (и авторской волей) шанс Н. Н. упускает исключительно по причине собственного безволия и нерешительности: он «чуть было» не выказал своей созревшей решимости просить Асиной руки, «но такое сватанье в такую пору…». И вновь беспечное полагание на естественное течение событий: «завтра все будет решено», «завтра я буду счастлив»…
И эта же беспечность – в том, что хотя поначалу «не хотел смириться» с случившимся, «долго упорствовал» в надежде настигнуть Гагиных, однако в конце концов «не слишком долго грустил» и «даже нашел, что судьба хорошо распорядилась», не соединив его с Асей.
«Компрометирующий» отсвет отбрасывает на героя и параллель между ним и хорошенькой служанкой Ганхен, которая искренностью и силой своего горя от потери жениха весьма впечатлила Н. Н. перед предстоявшим свиданием с Асей и направила его мысли в невеселое русло, а в момент отъезда из З. вслед за Гагиными, которых он все-таки надеялся отыскать, он вдруг вновь увидел Ганхен, еще бледную, но уже не грустную, в обществе нового ухажера. И только маленькая статуя мадонны «все так же печально выглядывала из темной зелени старого ясеня», храня верность раз и навсегда приданному ей облику…
И все-таки в поведении героя, которое столь искусительно было бы объяснить его безволием и безответственностью, проявляется какая-то неведомая ему самому, но руководящая им закономерность. Независимо от всех вышеизложенных частных обстоятельств, которые в принципе можно изменить и исправить, неизбежно надвигается трагический финал.
«Завтра я буду счастлив!» – убежден Н. Н. Но завтра ничего не будет, потому что, по Тургеневу, «у счастья нет завтрашнего дня; у него нет и вчерашнего; оно не помнит прошедшего, не думает о будущем; у него есть настоящее – и то не день, а мгновенье». Этого не знает, не может и не должен знать герой – но знает и понимает всем опытом своей жизни рассказчик, который в данном случае несомненно формулирует авторское мироотношение.
Здесь-то и обнаруживается кардинальное, принципиальное, необратимое расхождение с Пушкиным.
В. Узин и в отрадных, обнадеживающих «Повестях Белкина» усмотрел свидетельства «немощности и слепоты человека», лишь волею прихотливого случая не ввергнутого «в бездну мрака и ужаса»4747
Узин В. С. О повестях Белкина. Из комментариев читателя. Петербург: Аквилон, 1924. С. 51, 68.
[Закрыть], но у Пушкина эта трагическая перспектива присутствует как преодолеваемая усилием его авторской «героической воли» (Мережковский), что и дает основание М. Гершензону из тех же обстоятельств сделать обнадеживающий вывод: «…Пушкин изобразил жизнь-метель не только как властную над человеком стихию, но как стихию умную, мудрейшую самого человека. Люди, как дети, заблуждаются в своих замыслах и хотениях, – метель подхватит, закружит, оглушит их, и в мутной мгле твёрдой рукой выведет на правильный путь, куда им, помимо их ведома, и надо было попасть»4848
Гершензон М. О. Мудрость Пушкина. С. 134.
[Закрыть].
Тургенев художественно реализует скрытый трагический потенциал пушкинского дискурса.
«Счастье было так возможно, так близко…» – говорит Пушкин, относя трагическое «но» на волю частного случая и предъявляя доказательства принципиальной возможности счастья в «Повестях Белкина» и «Капитанской дочке».
По Тургеневу же, счастье – полновесное, долговременное, прочное счастье – не существует вообще, разве только как ожидание, предчувствие, канун, самое большее – мгновение. «…Жизнь не шутка и не забава, жизнь даже не наслаждение… жизнь – тяжелый труд. Отречение, отречение постоянное – вот ее тайный смысл, ее разгадка», – эти финальные строки «Фауста» выражают и сокровенную идею «Аси», и всего творчества Тургенева в целом.
Тургенев замечательно тонко и убедительно разрабатывает психологическую мотивировку неизбежности драматического финала – эмоционально-психологическое несовпадение героев. К сказанному на этот счет ранее добавим еще несколько слов.
Во время решительного объяснения с Асей герой среди множества нелепых, неловких, беспомощных фраз роняет одну весьма точную и даже справедливую, хотя все равно неуместную в тот момент: «Вы не дали развиться чувству, которое начинало созревать…»
И хотя, как справедливо пишет Недзвецкий, в своем «жертвенно– трагическом уделе вполне равны и одинаково “виновны”, по Тургеневу, как женщины, так и мужчины» и все сводить к «цельности первых и “дряблости” вторых» действительно «неверно по существу»4949
Недзвецкий В. Н. Русский социально-универсальный роман: Становление и жанровая эволюция. М.: Диалог-МГУ, 1997. С. 164, 166.
[Закрыть], но и игнорировать принципиальное различие между поведенческими стратегиями тургеневских женщин и мужчин вряд ли целесообразно, тем более что именно это различие во многом и обусловливает сюжетное движение, лирический накал и итоговый смысл тургеневских произведений.
Максималистке Асе нужно все и немедленно, сейчас. Ее нетерпение можно было бы списать на социально-психологическую ущемленность, которую она пытается таким образом компенсировать, но так же нетерпеливы и категоричны и другие, изначально абсолютно благополучные «тургеневские девушки», включая самую счастливую из них – Елену Стахову.
А Н. Н. – человек прямо противоположной психической организации: «постепеновец», созерцатель, выжидатель. Значит ли это, что он, по определению Чернышевского, «дряннее отъявленного негодяя»5050
Чернышевский Н. Г. Русский человек на rendez-vous. С. 95.
[Закрыть]? Конечно, нет. Дает ли его поведение на rendez-vous основание судить о его общественно-исторической несостоятельности? Для радикальных действий он на самом деле непригоден, но кто сказал, что радикализм есть единственно приемлемый способ решения общественно-исторических задач? Чернышевский нарочито сужает смысл тургеневской повести, он не столько углубляется в ее анализ, сколько делится с читателем своими размышлениями по прочтении на социально-политические темы.
В самой же повести есть история субъективной вины не сумевшего удержать плывущее в руки счастье героя, так что в принципе можно усмотреть в ней и скрытый намек на социальную несостоятельность людей такого типа, как Н. Н.
Еще более явственно прочитывается здесь драма эмоционально-психологического несовпадения любящих друг друга мужчины и женщины.
Но в конечном итоге это повесть о невозможности, миражности счастья как такового, о неизбежности и непоправимости утрат, о непреодолимом противоречии между субъективными человеческими устремлениями и объективным течением жизни.
Трагический смысловой остаток «Аси», как и творчества Тургенева в целом, выступает безусловным отрицанием того жизнеутверждающего пафоса, которым исполнено творчество Пушкина. Но, расходясь с Пушкиным в осмыслении экзистенциальных вопросов человеческого бытия, Тургенев был несомненно верен Пушкину в благоговении перед «святыней красоты» и способности созидать эту красоту в своем творчестве.
Даже трагические итоги своих произведений он умел насыщать такой возвышенной поэзией, что звучащие в них боль и грусть даруют читателю утоление и отраду. Именно так – безнадежно грустно и в то же время возвышенно поэтично, светло – завершается «Ася»: «Осужденный на одиночество бессемейного бобыля, доживаю я скучные годы, но я храню, как святыню, ее записочки и высохший цветок гераниума, тот самый цветок, который она некогда бросила мне из окна. Он до сих пор издает слабый запах, а рука, мне давшая его, та рука, которую мне только раз пришлось прижать к губам моим, быть может, давно уже тлеет в могиле… И я сам – что сталось со мною? Что осталось от меня, от тех блаженных и тревожных дней, от тех крылатых надежд и стремлений? Так легкое испарение ничтожной травки переживает все радости и все горести человека – переживает самого человека»…
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































