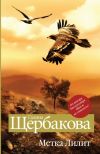Текст книги "...По имени Анна"

Автор книги: Галина Щербакова
Жанр: Современные любовные романы, Любовные романы
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 5 страниц)
Благая весть от Груши
– Ты – женщина, и тебе положено рожать. Значит, родишь. Насчет евреев. Ты что, думаешь, русский не мог сделать ноги или там татарин? Сама же легла на спинку. Не силком валили. Он тебя замуж звал? Нет. У вас у обоих загорелась плоть. Еврей не еврей – тут без разницы, когда горит. Только у Фимки твоего был шанс спрыгнуть с тебя, а баба всегда остается на спине. Ну, а возьми русского Ивана. Рванул бы он на Колыму, а это подалее Израиля будет, что бы изменилось? Какие слова кричала бы? Ты бы его всю жизнь искала с алиментами, а он бы от тебя давал стрекача. Изошла бы злобой и ненавистью, что дело предпоследнее перед убийством души.
Поэтому пусть твой жид по веревочке бежит, в каждом народе есть свои говнюки. Среди наших больше. Я старая, я считала. Ей богу, считала. Найду тебе листочек, покажу. Ты не знаешь, но я ведь и в тюрьме сидела, и в лагере ишачила. Там были все народы. Даже один негр. Золотой мужик, я от него сама алюминиевой ложкой делала аборт. Перепихнулись на слове «отбой», как две собаки. Я аж вверх вытянулась от счастья. Стала в строй, где обычно, а макушка торчит. Тут же переставили меня, сволочи! То ли светилась моя макушка, то ли в морде моей что-то не то образовалось, но меня уравняли. Убили его охранники вскоре, просто так, равнодушно, без причины. Чужой! Черный! С этим в России строго. Нахватали земель без разума с разнообразным людом и всех стали ненавидеть. Мы, мол, народ великий, а вы все – обсоски, падаль. Вот от «величия нашего российского» маятня у нас и идет всю жизнь. То один чужак лицом не выйдет, то другой. А лицо чужака определяет русская пропитая морда. Ты не думай, что я чохом поливаю русских. Поливаю, да не чохом. Зла от нас и дури больше, чем от негров или, к примеру, от твоих евреев. Поэтому твой Ефим дерьмо по своей личной природе, а не потому что он другой национальности. Я к тому, что в твоем животе сидит половинка Ефима, и тебе ее любить, а будешь вести себя, как погромщик, тогда не рожай сразу, иди на искусственные. Только как потом будешь жить, если у дитенка уже и сердечко есть. И пальчики, и глазками он уже лупает.
Я понимаю, ты такого допустить не можешь. Ну, и слава Богу, что такая. Теперь как быть, чтоб все как у людей? Тут я тебе так скажу. У людей – по-всякому. На людей равняться нельзя. Ты равняйся на совесть и на то, чтоб ненароком зла не сделать. Зачем тебе первый попавшийся мужик? Ты что, уродина? Ты что, без мозгов? На первое время у тебя есть я. Я ничья бабушка. А старухе быть бабушкой положено по порядку жизни. И мать ты не имеешь права лишать этого. Нельзя стыдиться дитя, которое ни в чем ни перед кем не виновато. Ему в тебе хорошо, потом будет трудно, и нужна ему будет любовь, чтоб выжить в мире грязи, шума и стянутых ручек и ножек. Тебе не мужик нужен, а муж и отец ребенку. Кто его знает, может, такой где-то и живет. Просто ты не громыхай сильно, живи тихо, добро только на тишину прийти может. Жить-то страшно, а будет еще хуже. Не может не быть хуже, если страной столько лет правили мертвяки. А что ждет дальше – Бог весть. В лучшее я не верю.
Любовь
Я работала как лошадь. Висела на всех досках почета. Мужики меня уважали. Уже трудно было скрывать живот, спасали балахонистые плащи и безразмерные вязаные кофты. К маме не ездила, все-таки боялась. А она возьми и приедь сама. Хорошо, что предупредила. В состоянии полураспада я зачем-то села на электричку и поехала в Мытищи, туда, где все начиналось. Подошла к домику, где так и остались ватные одеяла, которыми я обивала стену. Тогда был холоднющий февраль, не зря его на Украине называют лютым. Сейчас кончалось лето, все еще пахло горящими торфяниками и электричками. Хозяйка меня узнала сразу, подозрительно посмотрела на мой объемный наряд, но не сказала ничего. Пригласила в дом. Дверь в «мою» комнату была закрыта.
– Сдаю одному… До него после тебя еще был. Хозяйственный такой. Заделал щели. Обои поклеил. Тоже инженер, как и ты. Писем не получал. Все покупал книжки. Я ему отдала две полки, они все равно стояли в сарае, после сына остались. Но он жил недолго, переехал в большой дом, книги взял, а полками погребовал. Я и так и сяк прилаживала их к делу, но они в моем хозяйстве оказались лишними. Теперь въехал красивый такой, молодой, первым делом врезал замок. Чисто формально, потому что такие замки открываются и ножом, и вилкой, и простым гвоздем.
Но раз человек оберегает пространство своей жизни, – говорила хозяйка, – туда ни ногой. Я удивилась этим словам – «пространство жизни», они явно от постояльца. Я ведь хорошо помнила, как она без стука сразу двумя ногами входила, когда был Фимка, и пялилась на сдвинутые подушки и обвисшие одеяла. И делала странное движение головой, будто той неловко было сидеть на шее. Фимка ее передразнивал, и мы ржали, как молодые кони на выпасе. Те тоже вытягивают вверх шею, надувая жилы.
– Постояльцы мои баб не водили, – глухая издевка, все помнит, – хотя для мужчины это было бы нормально, и я, если это не часто и без пьянства, не возражала бы. Я, конечно, не намекаю: мол, согласна. Еще чего? Так-то лучше, спокойней…
Я поняла: жилец занимал женщину затворенностью своей жизни. И я подумала, что она ведь совсем не старая, хозяюшка, пятидесяти еще нет, и с виду сохранна, бюст там и остальные формы. Мама моя чуть постарше, но печать законченности жизни уже лет десять на ее лице. На мыслях о маме я засобиралась уходить. На лице хозяйки возникло удивление. Чего приходила, действительно? «Да дело было в городе». На самом деле меня гнал страх приезда мамы. Никому такого не скажешь. К станции я шла медленно, меня тяжелили грядущие мамины мысли и чувства, когда она увидит меня. Она не Груша, у нее не найдется для меня благой вести. Она будет переполнена гневом и неприятием меня такой… способной испортить ей жизнь (это в первую очередь) и испохабить собственное будущее. Другого просто не может быть, потому что не может быть никогда. От груза маминой беспощадности мне захотелось пить, а так как женщины тогда еще не пили «из горла» хоть пиво, хоть воду, то пришлось зайти в вокзальную кафешку.
* * *
Что движет нашими поступками? Разум? Обстоятельства? Тогда бы не было дури, а ее полным полно. Что заставляет встать и выйти из комнаты за миг до того, как в ней обрушится потолок? Почему – это почти правило – при авиакатастрофах один человек обязательно опаздывает на рейс или сдает билет? Что нас спасает? Прошлое, которое несет опыт, или будущее, которое знает, чем все может кончиться? И почему выбран ты? Что привело меня именно в это кафе? Именно в это время?
Я взяла стакан яблочного сока и тяжело оперлась на высокий стояк. Столешница слегка сдвинулась под моими локтями, и стакан тихо пополз вниз. Я тупо следила за его движением и за тем, как он разбивался у моих ног. Тут же заорала уборщица, ну, это наше родное – «ходют тут всякие, а ей подбирай и подбирай». Пришлось взять еще один стакан, заплатить за разбитый, и я встала уже к краешку другой стойки. Руки почему-то держала по швам, стояла, не зная, как мне подступиться к чертовому соку, как донести его до рта. Мысль, что эти элементарные вещи обрушат меня и я тихо начну оседать на пол, конечно, не приходила в голову. Я сильная, просто не люблю, когда на меня орут, тем более стакан оплачен. Просто я устала. Но я сейчас выпью сок и поеду домой, вот только я забыла, как берут стакан в руки. Вернее, я-то знаю, руки забыли. Они висят плетьми, бесконечно длинные и бесполезные руки.
На мысли, что они у меня отнялись, я и стала оплывать вниз. Кто-то взял меня подмышки и усадил на лавку у окна, поднес стакан прямо ко рту, и я стала пить жадно, глотать громко, проливая сок на подбородок. Кто-то мягко, но тщательно его вытер, даже зацепил капли, что сползали по шее.
В глазах и мозгу этот кто-то не отпечатывался. Он был безлик. Потом до меня дошло, что я сижу с зажмуренными глазами, но не уверена, смогу ли их разлепить.
Это мог быть только Бог. Он пришел за мной, зачем-то напоил соком, но я уже никогда не смогу встать с этой лавки, пойти своими ногами. Я уже не здесь. И тем не менее слышу: «Скорую» зовите! Тут то ли пьяная, то ли больная».
– Не надо скорую, – услышала я другой голос. И те же руки, что вытирали мне лицо, поставили меня и тихо повели, и уже на улице, вдохнув свежего воздуха, я поняла, что живая и хочу посмотреть на Бога.
Меня держал высокий немолодой мужчина в шинели без погон, у
него были серые-серые густые волосы. Я даже подумала красиво: какая мощь седины. Сама я выдергиваю по волоску время от времени знаки старения, расстраиваюсь, но потом думаю: столько придумано красок – морочить людям голову цветом волос можно бесконечно. Я посмотрела на часы: электричка в Москву должна быть через десять минут и, на мое счастье, на первой платформе. Перехода мне не одолеть.
– Спасибо, – сказала я мужчине. – Не ожидала от себя такого.
– В вашем положении это бывает. Вы или долго шли пешком или перенервничали. Вам в Москву?
– Да, – ответила я.
– Вот и замечательно. Мне тоже. Я постерегу вас в дороге.
Вагон был пустой. Мы сели близко к выходу, на первой же лавке.
– Вас встретит муж или кто? – спросил сосед. Оказывается, случаются и телесные землетрясения. Меня тряхнуло так, как бывает, когда прыгаешь с подножки едущей машины. Я знаю, как тело отстает от ног, голова от тела и кровь замирает, потому что сердце забыло, зачем оно, и куда-то сбежало с места. Но не в пятки – точно. Пятки как раз молодцы, они-то концентрируются и принимают удар на себя. Но сейчас я сижу, пяткам делать нечего, и все равно все во мне потеряло свое место. Я держу голову на коленях и смотрю в собственные глаза, из которых потоком бегут слезы. В общем, это секундное потрясение привело меня окончательно в чувство.
– Я тут прячусь от мамы, которая уже, наверное, приехала, – говорю вполне своим голосом. – Я боюсь ей показаться на глаза. Я приехала в Мытищи, потому что год тому назад я здесь жила. Здесь и согрешила. Он исчез, растворился в пространстве, а мне что-то там такое казалось… Я вполне самостоятельна, у меня хорошая работа, комната, я хочу ребенка и сумею – надеюсь во всяком случае – вырастить его сама. Но для мамы это шок. Нравственные понятия у нее доведены до абсурда. Хотя я не знаю, не была бы я такой же, случись подобное с моей дочерью. Вот потому, что я так хорошо понимаю маму, я боюсь, боюсь, боюсь… Будто я девчонка-соплячка, а не взрослая женщина с высшим образованием. Ну, ничего с собой не могу поделать, ни-че-го.
Я еще долго рассказываю ему про нашу семью, из которой по закону подлости всегда бежали мужчины, что это досталось и мне, но в самом что ни на есть пошлом варианте. Там, в кафе, говорила я, было счастливое ощущение смерти. Будто пришел Бог. Извините, это я про вас. Вы не оскорбляйтесь, если вы атеист. К каждому человеку хоть раз в жизни приходит Бог, ну, может, не он сам, а его посланник, и возникает счастье защищенности. У меня это было, когда вы мне вытирали лицо.
Я говорила, говорила, и у меня – так я устроена: умею найти при желании плохое во всем – вдруг родилась простая мысль: он меня принимает за сумасшедшую. Ну, а за кого же еще?
– Я не сумасшедшая, – говорю я ему. – Это есть такой закон – разбалтываться перед чужими. Почему-то своим, близким, мы доверяем меньше. Это же идиотия – бояться собственной матери?
– Просто вам кажется, что у вас нет выхода. Отчаяние тупика. А это неверно, что у вас его нет!
– А он у меня есть? – удивленно спрашиваю я.
– Есть хороший выход, – сказал мужчина. – Выходите за меня замуж. Я не пьяница, не авантюрист, я демобилизованный афганский майор. Сейчас вольный казак, служу в охране, хотя у меня тоже высшее образование. По профессии я ветеринар, но за время войны все забыл. А начать сначала – не знаю как. Лечу собачек охранников и кошек в столовой. Живу, где работаю. Жена вышла замуж, пока я числился в «без вести пропавших». Не сужу. Когда меня отправили в Афган, как-то сразу стало ясно, что я уезжаю из дома навсегда. Она накануне мне сказала: я буду делать ремонт. Все сделаю иначе. Я понял: иначе – значит, без меня. На том и расстались. У меня нет детей. И боюсь, что не будет. Я хорошо внутри порезан.
Оказывается, я слушаю все это с восторгом. Прийти и сказать маме: «Знакомься, мой муж». Груша поперхнется, но криком не вскрикнет. Потом я с ней разберусь, главное – мама.
И еще его руки. Которые вытирали мне сок с подбородка и слегка коснулись шеи. Это было так нежно, что я, оглупевшая и отупевшая, подумала: Бог. Невозможно, чтобы врали так пальцы, не может врать и эта мощная седина. Да и зачем? Из-за того, что у меня комната? Такого мужика возьмут в большой дом, просто чтобы выходил и стоял на крыльце, а ветер играл его гривой.
– Меня зовут Николай Петров. Мне сорок. Хотя выгляжу на все полсотни. Старики мои живут в Ивангороде. Мама портниха, отец столяр-краснодеревщик. У вас нет возражений против католиков? Так вот, они – католики и есть. Как же все-таки зовут вас, если все, что я вам сказал, не оттолкнуло вас от меня и, не дай Бог, не оскорбило?
– Боже мой! Что вы такого наговорили? Ну, разве так можно – встретить беременную женщину и делать ей предложение? Если это, конечно, не солдатская хохма в быстро бегущей электричке. Смотрите, уже Северянин. Через десять минут будет Москва, вы спрыгнете с подножки вагона, Николай Петров, оставив заторможенную дуру с католиками в голове и с женой вашей, уже сделавшей ремонт. Простите меня, Бога ради! Я не знаю, что думать. Но я знаю одно: разве у нас с вами любовь? Разве можно так с разбегу совершать поступки на всю жизнь? Уже Москва-третья. Я хочу посмотреть, как вы будете прыгать. Я сделаю из этого потом, через много лет, веселый застольный рассказ, как я чуть не вышла замуж в поезде, но он вовремя слинял. Испарился.
– Все-таки как вас зовут?
– В этом тоже очарование: вы делаете предложение, даже не зная моего имени.
Электричка встала. Мы продолжали сидеть.
– Я не спрыгну, – сказал он тихо. – Вы пронзили мне сердце стаканом, который сползал с вашей стойки, а вы смотрели на него, как ребенок на заводную игрушку. Вы даже рот открыли. А второго стакана вы испугались – вдруг он тоже поползет, и вам было так страшно, что мне захотелось обнять вас и защитить от всех движущихся и стоящих предметов, от орущих уборщиц, от всего этого страшного мира, где вы были одна-одинешенька с маленьким ребеночком внутри вас. Разве это не больше любви?
Я заревела как дура и уткнулась ему в плечо.
– Мы поедем вместе ко мне, – сказала я. – Я представлю вас как мужа, а дальше… Дальше я не знаю. Может, я отправлю вас на фронт? И вас убьют?.. Господи, что я такое молочу.
– Нет, – сказал он, – я не согласен, я не могу жениться неизвестно на ком. У вас что, неприличное имя? Даздраперма? Сталена?
Нас попросили оставить вагон.
На платформе, высморкавшись от набухших в носу слез, я сказала:
– Бог миловал. Меня зовут проще некуда. Анна. В одну сторону Анна, в другую тоже она. Принимаются варианты Нюра, Нюся, Анюта, даже Нява, так меня звал соседский ребенок, но он так звал всех малознакомых людей и животных. Так как я вполне подхожу к этому разряду, зовите меня Нявой. Но, боюсь, мама заподозрит что-то нечистое.
Одним словом, мы поехали на мою родную Красносельскую, серый дом слева от метро, второй этаж.
* * *
По лицу мамы я поняла, что она в полной панике. Груше, уходя на вокзал, я сказала, что у меня неотложное дело, а мама пусть отдохнет, меня ожидая. «Не надо ею заниматься, я приду, и будем все пить чай», – дала я указания.
Я обняла маму, сказала, что я свинья, но мне хотелось прийти с Николаем, чтоб сразу их познакомить.
– А он тебе кто? – строго спросила мама.
– Мама! Он мой муж. – По-моему, Груша беззвучно взвизгнула. – Мы еще не зарегистрировались, потому что Коля ездил к родителям в Ивангород. – Боже, как вралось ради мамы. – Видишь ли, они католики, а мы-то православные. Конечно, кто с этим теперь считается, но Коля решил посчитаться.
– Это было правильно, – сказал Николай. – Им было приятно наше с Аней уважение к правилам. Конечно, никаких возражений не было.
При большой лжи людей, как правило, убеждают живые мелкие подробности. Они и успокоили маму. А может, сбили с толку? Груша пошла ставить чайник. Николай, раздеваясь, тихо сказал, что на нем латаный свитер, надо как-то это объяснить. «Но ты же с поезда. В дорожном», – сказала я. «Но разве ты не сказала, что мне сегодня встречать тещу?»
Мы захихикали. Я оглядела его свитер. Никудышный. Подвернула рукава до локтя, обнажив кривые рубцы войны. На плечи положила легкое кашне, даже ничего получилось. Коля был с мамой вежлив и терпелив и отвечал на все ее вопросы. Был ли женат? Были ли дети? Где проживает сейчас? Кого хотел бы – мальчика или девочку? На вопрос, не лучше ли было рожать мне в Калязине, сказал: «Нет! Я хочу быть рядом». Они с мамой уже планировали, где будет стоять детская кроватка, а я пошла к Груше.
– И сколько тебе это стоило? – спросила она. – Из какого театра такой ободранный?
Мне расхотелось рассказывать правду, а то, что Груша видела рваные рукава, но не увидела ничего другого, меня даже обидело.
– Груша! Я с ним работаю. – Оказывается, я классная врунья. – Он давно мне предлагал идти за него, но вначале была надежда на Фимку, а потом брюхо, а он такой славный, что садиться ему на шею было стыдно. Но тут он опять завел разговор, я ему: мама едет, отстань, не до тебя. И он снова предложил идти за него. Я в ту минуту больше про маму думала, ну и решила: была не была. Груша, я его не покупала, что ж ты так обо мне?
– Да ладно, – ответила Груша. – Я тебе и верю, и не верю. Ладно. Мать успокоилась. Уже в голове коляску покупает. Он к тебе переедет?
– Ну, а как еще?
– Да никак, – заворчала Груша. – Оформляйтесь. Родители правда католики?
– Ну, я их, честно говоря, не видела. Но в Ивангород он ездил точно. Я подписывала командировку. А зачем ему придумывать католиков? Ну, подумайте сами.
– С тобой согрешишь, – засмеялась Груша. – То у тебя иудей, то католик. Имей в виду, бусурмана не пущу. Так и знай. Держись уж за этого оборванца.
* * *
У счастья быстрые ноги. Я не заметила, как прошло семнадцать лет. Я любила мужа почти безумно, какой там Фимка? Безумно любила очень уравновешенная женщина. Николай был нежен, заботлив, сына любил как своего.
Мама умерла, так и не увидев внука. Нам надо было забирать бабушку, но та уперлась. Попросила отвезти ее на родину, в деревню, к младшей сестре. «Сестра одна, дети разъехались, живут своей жизнью, так что я ей не помеха, а утеха. Будет бормотать свои старческие глупости». Младшенькая была женщиной серьезной. «Я смехи не люблю. Смехи, они от пустой головы. А я строгая, мне всегда есть, о чем подумать, а не хихикать». Я боялась за бабушку, но старушки спелись. Младшая учила старшую жить, а та, сделав серьезный вид, отвечала: «Старость нам подарена, чтоб отдохнуть от всего, чего нахлебались. Все прошло, не вернется, в окошко не влезет, можно и посмеяться. Времени-то чуть. Так порадуйся остатку лет». Николай починил у старух все, что можно, уж они квохтали, как курицы, какой у меня случился муж. Не было в их роду такого мужчины. Никому из баб не выпало такое счастье. Я и сама иногда думала: может, глупо настаивать на правилах жизни, придуманных человеком? Может, жизнь сама знает, где пролить сок и разбить стакан? Через пять лет после моего замужества умерла Груша. Нам досталась вся квартира. Мне казалось, что лучше дома, чем мой, просто не бывает.
И хоть это неприлично говорить матери, но красивее моего сына Мишки я ни малышей, ни парней не видала. Я так боялась, что он будет в отца – маленький и плюгавенький. Но он случился в меня – богатырь. А волосы густые, кудрявые, как у Коли.
* * *
Муж в подробностях знал историю семьи Домбровских, коснувшуюся странным образом моей жизни. Мы ходили в тот дом. Бывшей дворницкой не было и в помине. Весь подвал занимал магазин «Заходи – не пожалеешь». Мы поднялись в квартиру на третьем этаже. Нас встретила Валюшка. Ей было уже далеко за тридцать, но она оставалась по-детски хорошенькая, и как-то сразу заметно, что глупенькая. Странно, в молодости я этого не замечала. Последний раз я ее видела после второго выкидыша. У меня уже был сын, и я испытывала какую-то неловкость из-за своего счастья. Хотя, если совсем честно, Валюшка убитой горем не казалась. Бледная до ощущения прозрачности, она сказала, что, по большому счету, еще и не готова к материнству. «Только-только наступила свобода от родителей, от обязанностей, учебы! Конечно, родись дети – я была бы счастлива. Но я сейчас не несчастна».
Уже теперь я думаю: опять эти тонкие нити неведомого завтра. Может, им уже было известно, что ее брак рухнет, что будет новый. А потом и третий. А случись дети – может, держалась бы за Толяшу как за последнюю надежду?
…Она впустила нас гостеприимно, под мой рассказ, как мы с ней играли в бадминтон, а я снимала угол у дворничихи, теперь этого угла и не найдешь. Я первый раз увидела, что такое евроремонт, слово это только-только возникло, поохала, поахала. Колю заинтересовал супертелевизор из Японии, а мы присели на изящные банкетки, сделанные под царей.
– Квартира пережила все эпохи кошмаров и ужасов этой страны, – сказала Валюшка.
Я спросила о родителях, Валюшка сказала, что все у них хорошо, ходят гулять в Останкинский парк. И тут же, без перехода, выпалила, что новый муж ее будет баллотироваться в госдуму. Почему-то мы тут же засобирались домой. Не специально, но так получилось. Я еще раз посмотрела на стенку, за которой когда-то шли ступеньки в дворницкую. Боже, подумала я, как же безжалостно время стирает прошлое. Хотя о чем это я? Не о ступеньках же? На доме не было мемориальной доски великого ботаника Домбровского, а его квартиру переделали в картинку из модного журнала. Конечно, прогресс после коммуналки, что там говорить, но почему в душе щиплет, щиплет?.. И коммуналка кажется лучше царских хором. Но это глупость, я так не думаю. Просто случился провал. Время перепрыгнуло в России через какой-то важный этап. Мы пропустили спираль ли, круг, или просто сделали все по-быстрому, прыгнули, да не туда, и плюх в лужу. Но кто теперь будет искать ту пропущенную правильную дорогу, если уже посидели задницами на банкетках и покатались на мерседесах? И где она теперь, Эмилия Домбровская, с тремя классами образования? Она тоже хотела куда-то прыгнуть. Мы ничему не научившийся народ, а необучаемость – форма душевного спида.
– Чего ты так кричишь? – спрашивает меня Николай, хотя я тихо иду рядом. Вот это тоже – он улавливает напряжение моих глупых мыслей и тут же приходит на помощь, чинильщик моего душевного электричества.
– А когда у нас выборы в думу? – спрашиваю я. – Мы так сразу слиняли, а можем поиметь своего человека наверху.
– Еще через месяц, – ответил Николай. – Представляешь, какая там выстроилась очередь на «попасть»? Какую самую длинную очередь ты можешь вспомнить?
– Самую-самую? Две. За сапогами на проспекте Мира. Очередь шла почти от Щербаковского метро. И еще за туалетной бумагой во дворе дома на Масловке. Там было так тесно, что даже случилась потасовка. Я эти две запомнила не потому что в них стояла, а потому что не нашла конец хвоста. Плюнула и ушла. А ты?
– Будешь смеяться. Сдача анализа мочи, когда меня забирали в Афганистан. Туда нужно было очень много людей сразу и с мочой высшего качества. У меня оказалась именно такая. Впрочем, кажется, такая была у всех. Я подозреваю, что ее не глядя сливали сразу в отхожее место. А потом слили и кровь.
– Я как раз шла и думала: что пропустила Россия в своем развитии, какой виток? Почему восторжествовали глупость, пошлость и жестокость, куда делись те, кто спасал детей в войну, кто делился последним куском, кто ночами стоял в очереди, чтобы купить Булгакова? Куда, наконец, делись люди девяносто первого года?
Николай меня обнял, и мы так и шли в обнимку, уже не молодежь, но еще и не в маразме, бывшие совки, лишние люди своего времени.
Дома нас ждал сын, возбужденный и обиженный. Его не взяли на городскую шахматную олимпиаду.
– Да ты играешь всего ничего, полгода, – сказал отец. – Нагленький мальчик!
Слова отца на него действуют каким-то причудливым образом. Иногда мне кажется, что он даже не вслушивается в смысл, ему хватает его голоса. У них не кровная связь, а какая-то другая, та, что выше. Сын уже не обижен и спокоен.
– Да я понимаю, – бормочет он. – Просто хотелось попробовать.
Я могла бы долго и неотрывно рассказывать о их взаимоотношениях, моля Бога, чтобы так было всегда, и биясь над тайной тонких нитей родства. Я ведь ни во сне, ни просто в размышлениях никогда не представляла с Мишкой его настоящего отца. Чур меня, чур! Я благодарила судьбу, что тот далеко, тот не узнает.
Я забыла на минутку, что живу в стране, делающей жизнь непредсказуемой не на века – на полгода. Именно через столько позвонила Елена Васильевна и сообщила про «такой удачный замуж». С этого звонка я и начала рассказывать всю эту историю. Дальше события зашевелились, как вспугнутые на собаке блохи.
* * *
Стою как-то у книжного лотка, где продаются книги задешево. Почти за так. Маленькая книжонка в мягком переплете. Задержалась на названии – «Россия по имени Анна». Только взяв книгу в руки, я увидела фамилию автора. Она шла не поперек, а вдоль обложки. Снизу вверх было написано: «Ефим Штеккер». Нет, мне не стало плохо. Просто все поменялось местами. Метро, которому полагалось быть справа, оказалось слева, а послеполуденное солнце плавно держало свой путь не на запад – на восток. Это вам не стакан с соком, который сползает со стола, не нарушая законов мироздания, в полном согласии с законами физики.
На задней обложке – портрет моего бывшего возлюбленного. Волосатый, как человек Евтихеев, которого я видела в каком-то старом учебнике анатомии. Кривым зубом (помню) зажата в волосатой гуще усов и бороды сигара (не курил – точно). Из аннотации узнаю: русскоязычный писатель, живет в Германии, но детство и юность провел в России. Мать – еврейка, погибла в концлагере (брехня, она всегда жила в Олонце, во время войны – на Урале, куда немец не доходил). Отец – немец-антифашист (еще бы! Русский горький пьяница, бросил сожительницу, как только родился Фимка. Сказал – как врезал: «Еще чего! Кормить жиденка». И смылся. А мать устроилась калькулятором в столовую и славно выкормила неправославное чадо). Уехал из России в Израиль еще до начала перемен, в 82-м году (еще одна брехня: уехал в 86-м, уже пришел Горбачев и объявил перестройку и ускорение). С 91 года живет в Германии. Занимается проблемами России. Пишет публицистические книги. «Россия по имени Анна» – первая попытка в романном жанре, представляет интерес раскованностью мыслей и чувств свободного европейского человека.
Я сразу наткнулась на фразу: «Последняя женщина Анна, с которой я жил накануне отъезда, была горяча и необъятна, как сама Россия». И дальше: «Погружаясь в нее, как в пучину вод, я забывал ее серость и недалекость, ее примитивный язык. Для меня Россия – это Анна. В них хочется нырнуть навеки. Из них хочется бежать и не возвращаться. Ибо здесь всегда рядом с жизнью стоит смерть. В России она сторож и грабитель одновременно. Я обязательно вернусь и найду Анну. Какова ее власть надо мной? Ведь столько лет прошло! Могла и увять ненасытница. Ну, что ж, будет другая. Интересно, какое имя на этот раз будет носить Россия?»
Мне хотелось скупить все книги и сжечь. Но я купила одну. Должна ли я дать ее Николаю? Я еще не знала. Я от него ничего не скрыла. Ни болезни в стенах из ватных одеял. Ни температурного секса, из которого получился наш с Николаем сын.
Но все пошло по тем законам, которые нам неведомы. Ни с того ни с сего в газетах одна за другой появлялись статьи о Домбровском. Нашлись какие-то его бумаги, он исследовал русскую степь. Оказывается, ничего мы про нее не знаем, кроме того что «степь да степь кругом». А молодой Домбровский искал связь характера человека с той травой, по которой он ступал. Домбровский называл это взаимно проникающей зависимостью.
Статьи о Домбровском запоем читал сын. Зная историю с половицей, из-под которой выпрыгнула фотография девочки Эмилии, он знал от нас и о евроремонте в квартире Валюшки, злился, представляя, что из дома могли выкинуть что-то ценное. Он слышал, как один ученый тех лет, ожидая ареста, свое открытие просто наклеил на стену под обои. Он еще не понимал: нынешние русские с мясом сдирают прошлое, потому что оно для них не существует, оно им неинтересно. Боясь упустить завтрашний день, они даже не до корней – глубже – вытаптывают сегодняшний.
Одновременно… Борьба за думу, как говорил Николай, превратилась в кровавую сечу. И второй муж Валюшки, как мы потом узнали, пролетел, как фанера над Парижем, на первом же этапе.
…Николай прочитал книжку, я и не заметила когда. Ночью он обнял меня и сказал: «От Мишки книжку спрячь. В ней много яда, и не скажу, что неталантливого. Зоркий мужичок».
Я не могла этого вынести. Я кричала и кидалась подушками. Я говорила, что прохиндей и лжец не может использовать дар иначе, как во зло. Конечно, мы выбросим книгу. А если сын сам на нее набредет, то все равно ничего не поймет – не поймет связи со мной. Он не знает этого человека, он не слышал о нем. Тем более что Домбровский все больше и больше занимал мальчика.
– Понимаешь, мам, – говорил он, – это лучше фэнтези. Он так пишет о говорящей траве, что у меня замирает сердце. И я чувствую, как в меня входит ощущение, что я тоже часть травы, часть земли. Что я не просто так, а зачем-то, я есть не только для вас с папой, а для чего-то еще. Ничего среди живого нет просто так. А Земля живее всех, она знает больше всех. И знаешь, мам, она страдает… Сейчас это как бы уже известно и не ново, но он писал это, когда ему было чуть больше, чем мне. И он просто ходил босыми ногами по степи и слушал, и слышал боль земли.
Как-то само собой стало ясно, что он пойдет на биологический, и тут же добрые люди донесли: взятка на биофаке – 30 тысяч долларов. У меня первый раз за всю мою жизнь было предынфарктное состояние. Миша учился хорошо, но неровно, и вполне мог не добрать баллов. Мы уже собирались взять репетиторов, но нас подняли на смех, опять же назвав сумму.
– Будет учиться на платном, – сказал Николай. – Продадим дачу.
Господи! Дача!.. Собачья будка с двумя окошками и грядками редиски и укропа. Но летом там было хорошо, недалеко речушка, лес, тишина, мы как-то стояли в стороне от других. На наш участок наступала мощная техника новостроек другого времени. Приходили гонцы, интересовались количеством соток. Откровенно торили дорогу. Умные люди говорили, что спалить нас – раз плюнуть, но землю просто так не схватишь.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.