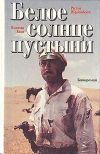Текст книги "Белое братство"

Автор книги: Геннадий Бурлаков
Жанр: Книги о Путешествиях, Приключения
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
– А по поводу Сирии вы что же, полагаете, что Россия и США всерьез озадачены поисками там Шамбалы?
– Или в Крыму! – профессор рассмеялся сухим, скрежещущим, словно утиное карканье, смехом, и Мирослав предположил, что он, вероятно, шутит. – За много веков легенда о Шамбале обросла таким количеством версий, что ее местоположение предполагают в совершенно разных уголках земли. Не только в любой из азиатских стран, но даже в США. Есть также весьма любопытная версия, что Шамбала находится в окрестностях Москвы. Возникла она после того, как Экаи Кавагути, японский священник и тайный агент, в начале XX века побывал в Лхасе и после визита туда сообщил, что слышал о тексте, который располагает Шамбалу на 3000 миль к северо‑западу от Бодхгая. Если измерить это расстояние по карте, то мы окажемся в окрестностях российской столицы. Но если говорить обо мне, то я ничего уже не полагаю всерьез. В моем возрасте люди, наделенные интеллектом, неизбежно приходят к пониманию «я знаю, что ничего не знаю». Я только наблюдаю… Кстати, кем приходитесь Владимиру Сергеевичу? – вдруг спросил Мирослава Роднянский после небольшой паузы.
– Кем‑то вроде племянника, – подумав, ответил он. – Я с раннего детства его знаю, в молодости он и мой отец были очень дружны.
Мирославу показалось, что Роднянский несколько насторожился от такого ответа. Или ему лишь почудилось? По крайней мере, после этого профессор отвернулся к окну, немного сдвинув седые брови, задумчиво пожевывая старческими губами, и примолк.
Глава 8
– Вадик, миленький, вот объясни мне, как можно было такое сморозить? Серая птица, самолет, авиакатасрофа – это все, признаю, неплохая находка. Но зачем же ты про точную дату ляпнул? Ну и как я тебе теперь разбившийся самолет организую? Как? Что за инфантилизм? Привык, что Света все решает, Свете море по колено, и расслабился в конец. Надо же хоть иногда думать. Такое начинание похерил, блин.
Успенский и Света сидели за кухонным столом, завтракали. Света отчитывала его по новой, размахивая надкусанным тостом с клубничным джемом. Успенскому же, что называется, кусок в горло не лез. Он весь скукожился под напором ее негодования, сгруппировался, как при обстреле, глядя в свою чашку, на дне которой неаккуратно растекся кофейный жмых. «Вот ведь завелась», – думал он, мучительно жаждя конца экзекуции и уже не веря, что Светино сверло когда‑нибудь затихнет.
Мало ей было вчера весь вечер да полночи сверлить провинившегося Успенского, пока тот не свернулся калачиком в кровати и не отполз от нее на безопасное расстояние, натянув до ушей одеяло, так она решила еще и утром закрепить пройденный материал. Бедный Вадим Сигизмундович познал уже все стадии раскаяния и, кажется, морально был готов к безвременной кончине. Но после очередной тирады Света вспомнила про тост и хрустнула им, откусив кусочек, потом еще, зажевала, слизывая с пальцев ускользающий джем. Эти краткие минуты чавкающей тишины показались Успенскому райской музыкой, он наслаждался ими в молчании. Но тут Света покончила с тостом и посмотрела на Вадима Сигизмундовича так, будто теперь намеревалась покончить с ним.
– Пожалуйста, Света, я все осознал, – попытался предупредить Успенский начало нового монолога.
– Эх, Вадик, Вадик… – вздохнула она. – Если бы ты знал, сколько сил, сколько профессионализма, какой полет мысли я вложила в эту авантюру… А теперь все поймут, что пророчествам твоим грош цена, история не получит продолжения. Зарубил все на корню.
– Ну хватит, Света, прошу тебя… – Успенский приложил подушечки тонких кривых пальцев к виску и болезненно сморщился.
– Ладно, ладно. – поспешно отозвалась Света. – Сейчас только не начинай свою лебединую песню «ах, я так разбит», «ах, у меня мигрень». Сегодня съемка на ТленТВ, ничего не хочу знать о твоем ущербном здоровье в ближайшие часы.
С этим словами она порывисто встала из‑за стола, с видом обиженным и оскорбленным направилась в комнату. Успенский понуро поплелся за ней, бросив прощальный взгляд на свой завтрак, которой едва попробовал. Первым делом Света распахнула платяной шкаф и замерла перед его темным чревом.
– Так, – снова громом небесным прозвучал в тишине ее голос. – Наденешь на съемку это и это. – На кровать полетел сначала темно‑коричневый костюм, затем насыщенно‑сиреневая рубашка. – И, пожалуй, вот это. – Сверху на небрежную композицию изящно опустился шелковый шейный платок.
Успенский следил за происходящим, прислонившись плечом к дверному косяку, спрятав свои длиннопалые вечно мерзнущие ладони в уютные карманы мягких домашних штанов. Света отвернулась от шкафа, чтобы убедиться, все ли он понял, и Успенский поспешно закивал, поймав ее взгляд.
После этого она двинулась к зеркальному трюмо у окна, села на стул и наконец отвлеклась от Успенского на свои баночки и тюбики. Вадим Сигизмундович тем временем тихой сапой переместился к кровати, осторожно присел на край. Рука его машинально потянулась к манжету костюмного пиджака, он положил его на ладонь и стал гладить добротную ткань, словно котенка, глядя при этом на профиль сожительницы. Ткань была шелковистой, дорогой, приятной на ощупь. По настоянию Светы он купил костюм за баснословную по его меркам сумму и до сих пор не вполне осознавал, как можно использовать в повседневной жизни столь дорогую вещь, место которой разве что за выставочной витриной. Поэтому, надевая ее, Успенский всякий раз вел себя скованно – двигался как Буратино, боясь лишний раз согнуть локти или запустить руку в карман. А когда садился – неоднократно тревожно оборачивался на сиденье, чтобы убедиться в его чистоте.
Вадим Сигизмундович за свою пятидесятишестилетнюю жизнь настолько привык к безденежью, что совсем разучился обращаться с финансами легко. Выбирать то, что подешевле и попрактичней стало его закостенелой привычкой. Поэтому, внезапно обогатившись, он растерялся совершенно, не понимая, куда тратить такие деньжищи, и в тоже время продолжая жалеть каждый рубль. Чувство было противоречивым и неудобным. В этом смысле нечаянное финансовое благополучие, вопреки логике, не облегчало Успенскому жизнь, а наоборот, осложняло ее. Он долго и мучительно разбирался в особенностях банковской системы, прежде чем открыть несколько накопительных счетов, и скрупулезно перечислял на них доходы, оставляя в своем распоряжении суммы весьма скромные. Первое время его терзала, изматывала паранойя, что банки могут разориться или перечисленные средства вдруг не отразятся на его счету по какой‑нибудь внутренней ошибке. А как он докажет, что вносил их? Кроме сомнительных распечаток с неразборчивой закорючкой кассира, никаких других доказательств у него не было.
Паранойя будила Успенского ночами, настойчиво продираясь сквозь мутный калейдоскоп обрывочных тревожных сновидений и, проступив на передний план, заставляла распахивать глаза в кромешной темноте, по новой мысленно сводить дебет и кредит. Паранойя подкрадывалась к нему со спины, когда краем уха он слышал обрывки теле‑ или радионовостей; чужих разговоров за соседним столиком в кафе; случайных пересудов о том, что у очередного банка отозвали лицензию / доллар ведет себя нагло и, возможно, вырастет до ста рублей / экономический кризис может привести к непредсказуемым последствиям. Паранойя будто играла с ним. Стоило Успенскому подумать, что он исхитрился оторваться от ее преследования, обзвонив своих менеджеров в банках, проконсультировавшись с экономистами, как – оп! – она являлась ему снова в самый неожиданный момент. Этот постоянный эффект неожиданности сильно изматывал его. В конце концов он убедил себя в том, что сбережения лучше не трогать, пусть копятся на счетах и, на всякий случай, в нескольких тайных заначках, которые он устроил в квартире. Поэтому вопрос лишних трат вставал перед ним болезненно и остро, рушил выверенную калькуляцию, создавал подходящий антураж для нового выхода паранойи.
Мукой для Успенского были постоянные попытки Светы затащить его в неприлично дорогой ресторан, выцыганить денег на личные расходы, требования оплаты рабочих счетов (как в случае с перформансом на соборе), ее навязчивое стремление обновлять его гардероб запредельно дорогими вещами. Глядя в меню пафосных московских заведений, куда Светлана стремилась неудержимо, Успенский был не в состоянии подружить ту реальность, в которой он жил до сир пор, с новой, сытой.
– Светочка, так ведь здесь первое блюдо от тысячи рублей, а второе от полутора. И вино только по бутылкам от пяти тысяч… – растерянно говорил он, отрывая взгляд от меню и устремляя его на Светлану с немой мольбой.
Света на такие его стоны реагировала гримасой, в которой читалось некоторое презрение и желание нанести ему физическое увечье. Но в словах ее эмоции проявлялись куда сдержаннее.
– Вадим, ты чего? Ты только за прошлую неделю около миллиона рублей заработал. Мы что, поесть не можем в нормальном заведении? Кстати, по московским меркам довольно средненьком.
В ее ответах Успенский слышал скрытую угрозу того, что при попытке саботировать посиделки в заведении «средненьком» она не приминет затащить его в заведение «роскошное», чтобы он почувствовал разницу.
– Я ведь пятьдесят процентов суммы по контракту отдаю в магический салон… – аккуратно напоминал он, а сам думал: «Счет тысяч на десять выйдет. Это же треть моей зарплаты на бывшей работе».
Обострять отношения с сожительницей он боялся, знал по опыту – дороже выйдет. Засверлит его Света потом до крайней степени, и он испытает страшное чувство, что готов отдать все, лишь бы она умолкла. Отдать – не отдаст, но в тот момент десять тысяч рублей наверняка покажутся ему мизерной платой за покой. Поэтому в ресторанах Света победоносно разделывала какую‑нибудь дораду, довольно поглядывая по сторонам, старалась держать спину ровно, а голову высоко, объяснялась с официантами вальяжно и слегка надменно. Успенский же жевал свою порцию непонятно чего (красивую на вид, но маленькую и несытную), не чувствуя вкуса, и калькулировал в уме: «Вот если взять три крупных картофелины, стоимостью примерно 10 – 15 рублей, да пожарить их с одной репчатой луковицей (2 – 3 рубля), да еще разносолов на тарелку и черного хлеба (рублей 20 – 25), ну, сосиску еще (15 – 20 рублей) – вот это еда! Себестоимость меньше ста рублей, а как сытно и вкусно… А тут за тысячу какие‑то зеленые… не за столом будет сказано что», – думал он молча. «Вадик, ну как тебе суп‑пюре из брокколи?» – спрашивала Света с таким самодовольным видом, что Успенскому становилось ясно: из всех возможных вариантов ответа ему предоставляется один‑единственный, не дай Бог ошибиться. «Волшебно», – сдержанно отзывался он. «Вот, видишь! А ты кочевряжился. В который раз уже подтверждается истина, что к моим рекомендациям стоит прислушиваться», – доносилось в ответ назидательное резюме.
Света, жаждущая красивой жизни, конечно, злилась на скаредность своего немолодого избранника. Злилась так, что Успенский не мог этого не чувствовать. Даже когда она складывала пухлые губы в подобие улыбки, в глазах ее все равно читалось «старый козел». Но Успенский не умел цепляться за взгляды и ужимки. Попытался было пару раз подловить ее на неласковом выражении лица, доказать, что она не питает к нему никаких светлых чувств, и тут же был повержен за недостаточной весомостью аргументов. «Вадик, как ты можешь такое говорить? – возмущалась Света. – Разве то, что я для тебя делаю, ничего не значит? Во взгляде он что‑то увидел, с ума сойти! Да ты просто параноик. А то, что я ночей не сплю да по встречам с журналистами бегаю, сбивая ноги до кровавых мозолей, ради тебя, разве не говорит о моем к тебе отношении? Придираешься, чтобы испортить мне настроение, эгоист». И Вадим Сигизмундович из обвинительной позиции незаметно для самого себя сразу же мигрировал в позицию оборонительную – утешал Свету, успокаивал, даже извинялся, переживая, что она заведется и вынесет ему мозг.
С покупкой костюма, ткань которого Вадим Сигизмундович сейчас любовно гладил, вышла такая же история. При взгляде на ценник у Успенского перехватило дыхание. «Может, не надо, Света? Есть ведь магазины подешевле. На эти деньги машину можно купить…» Света только фыркнула в ответ. Она была сосредоточена на том, как сидит вещь, толкая Успенского то в одно плечо, то в другое, заставляя вертеться перед зеркалом в примерочной. Ее взгляд придирчиво изучал каждый сантиметр элитного сукна, каждую складку, каждый шов. Жалобное лицо Успенского не попадало в поле ее зрения – не до него ей было. «Что значит подешевле, Вадик? – отвечала она, продолжая рассматривать костюм. – Ты думаешь, ты один такой умный, а все кругом дураки? Думаешь, придешь на интервью в тряпке с барахолки и никто этого, типа, не заметит? Да любой успешный человек хороший костюм от плохого за сто метров отличает. Или ты планируешь и дальше производить впечатление только на одиноких престарелых теток и пудрить им мозги за жалкие двадцать пять тысяч рублей? Нет, любимый, у меня на тебя другие планы. Будем постепенно позиционировать тебя как бизнес‑консультанта, привлекать клиентуру богатую и влиятельную. Бизнесмены, звезды, а там, может, и олигархи с чиновниками подтянутся. В том, что ты носишь, к тебе никто из этой элиты и на пушечный выстрел не подойдет… Девушка, оформляйте костюм, мы берем» (это уже не Успенскому). В таких ситуациях Света всегда цепко хваталась за краешек его банковской карты и ловким, отработанным движением умудрялась выудить ее из крепко стиснутых, будто скованных судорогой, пальцев Вадима Сигизмундовича. А тот лишь удивлялся, как это он умудрился выпустить карту из рук.
Теперь в обнимку с костюмом Вадим Сигизмундович сидел на кровати, смотрел, как Света красит тушью правый глаз, и думал: «Зачем, интересно, она рот открыла?» Все в любовнице с недавних пор стало казаться ему хищным: и ее молодая, жаждущая удовольствий и роскоши плоть; и ее моментами жесткий, колющий взгляд; и пышная грудь, как опара вздымающаяся над каймой тугого лифа, которая сейчас виделась ему самочьей; и рот, который она вот уже пару минут держала открытым, словно рыба, намеревающаяся заглотить малька.
Вадим Сигизмундович неожиданно понял, что излучаемая Светой хищность держит его в постоянном напряжении, не слишком явном, но все же изнуряющем, подсасывающим жизненный сок. Незаметно для самого себя он устает от инертной работы, а потому становиться даже более вялым, чем раньше, раздражительным. «И как я в это ввязался?» – туго соображал он, пытаясь проанализировать последовательность событий, в результате которых Света капитально, прочно обосновалась в его жизни. Он доставал из потасканной временем памяти относительно свежие воспоминания, связанные с ней, и удивлялся тому, как плавно, но радикально менялся ее образ. В процессе он даже не замечал перемен, зато теперь, оглядываясь из дня нынешнего на дни минувшие, видел разницу отчетливо: поначалу Света смотрит на него как на героя, небожителя, ластится, поддакивает каждому слову, и в Успенском начинает шевелиться почти отжившее мужское нутро; потом Света аккуратно направляет его мысль в нужное ей русло, но все еще ластится и смотрит; потом Света мягко, но уже с властным посылом руководит им «для его же блага»; теперь Света сидит у него на шее и погоняет хворостиной, как паршивого ишака, – уже и не смотрит, ибо как заглянуть в глаза тому, на чьей хребтине сидишь?
Света отстранилась от зеркала и повернула к нему накрашенное лицо. Макияж, казалось, смягчал ее черты, делая кожу матовой, сияющей, плавно сглаживая рельеф лица, подчеркивая форму и сочность губ. Пышная грудь в глубоком декольте атласного халата теперь навевала ассоциации с кормящей матерью. «Мадонна, – нечаянно подумал Успенский, залюбовавшись. – Может я, действительно, параноик. и ничего того, что мне в ней чудилось, на самом деле нет?» Он уже готов был поверить внезапной мысли, всматриваясь в ее глаза. Оттененные теплыми охристо‑золотистыми красками они теперь казались медовыми, наполненными мягким рассеянным светом, способным согреть, обласкать. Но тут Света открыла рот:
– Ну, и чего ты замер, как писающий мальчик в фонтане? Одевайся давай, на интервью опаздываем!
Съемочный павильон поначалу показался пустым – большое пространство, высокий, метров в десять, потолок, сгустившаяся по углам темнота, а в центре кресло и столик на белом квадрате пола, с нацеленным на композицию софитом. «Вадим Успенский прибыл», – сообщила Света в пустоту, и она откликнулась разночастотной акустикой. Потом из темноты вышли люди, чтобы вовлечь Успенского в процесс. Света же устроилась в стороне наблюдать за происходящим. Она включила нетбук и первым делом набрала в поисковике запрос: «Вадим Успенский», затем кликнула иконку «Новости».
Ссылок на заметки о вчерашнем пророчестве выпало много. Впервые за годы работы в профессии пиарщика Света не обрадовалась резонансу, наоборот, испытала чувство печальное, даже горестное. Завтра все поймут, что ее подопечный никакой не провидец, и ее замечательная задумка прикажет долго жить. Чтобы не терзать себе душу, она закрыла страницу поисковика и открыла страницы Успенского в соцсетях. Ей надо отвлечься, пока Успенский излагает телевизионщикам теорию про Атлантиду и всемирный потоп, кстати, весьма удачно почерпнутую из книги, которую она ему подсунула. Но теперь уже какая разница, что он там пророчит?
Поразмыслив, Света полезла в папку «спам». «Вот чего мне сейчас не хватает для успокоения – излияний человека, который находится в более глубокой жопе, чем я», – здраво рассудила она. Света пролистала сообщения «Блаженной» (так про себя она прозвала безумную обожательницу Успенского) до нужного письма, следующего за прочитанным ранее, и открыла его.
«10 апреля 20… 23:10
это спам
Иногда мне кажется, что безысходность – как кефирный гриб, который добавляют в молоко. Дают постоять в тепле – и молоко превращается в рыхлый и кислый кефир. С безысходностью так же, если добавить ее в человека, то со временем он тоже становится рыхлым и кислым. Маленький город – своеобразная среда. Здесь почти все такие, заквашенные на прививке безысходности.
Когда я была юной – видела мир иначе. Это потом мир реальный стал проступать через мой собственный унылой серостью. Очень незаметно, очень медленно. Я и не поняла, когда именно он так четко вышел на передний план, что серым стало абсолютно всё вокруг, а мой перестал проглядываться вовсе. Теперь только ты радужный. А всё остальное серое.
В юности мне казалось, что реальны лишь прошлое и будущее, а настоящего нет. Мне казалось, что жизнь начнется с определенной точки, в которой сойдутся воедино красивый весенний парк с лавочкой, ощущение легкой летящей одежды, ласкающей кожу, мое смеющееся лицо, блестящие от солнца, развеваемые ветром волосы и крепкая ласковая рука на моем затылке, настойчиво и нежно приближающая мою голову к другим губам. И мне казалось, так долго казалось, что пока эта точка не случилась, то и жизнь еще не началась. А потом, спустя десятки затуманенных лет, я снова представила себе ощущение этой воображаемой одежды на своем теле, свое смеющееся лицо и поняла… Поняла, что эта точка, с которой должна была начаться моя жизнь не наступит никогда… НЕ НАСТУПИТ НИКОГДА… И жизнь моя не начнется. Потому что та одежда, которую я представляла, никогда уже не будет ощущаться на моем нынешнем теле так, как должна. И мое смеющееся лицо будет сильно отличаться от того, молодого, свежего…
В общем, жизнь моя так и не начиналась. И начнется ли когда‑нибудь – неизвестно. Я теперь не вижу той точки, с которой должен начаться отсчет. Я и не жду больше никаких точек. Теперь я просто люблю. Люблю тебя без себя. Без одежд, улыбок и весенних лавочек. Я просто люблю здесь и сейчас, всем своим существом, и что‑то внутри меня подсказывает, что любовь и есть моя жизнь… Но я боюсь верить в это. Наверное, потому, что теперь я просто боюсь жить. А может, потому, что боюсь оглядеться вокруг и признать – это и есть моя жизнь и я в ней сейчас живу! Думать, что все, что происходит сейчас, происходит вроде как не со мной, – куда проще, куда легче. В общем, теперь я раздвоилась: чувствую наяву, а живу во сне. Возможно, это удачный компромисс.
Но иногда я все же позволяю себе мечтать. Грезить о том, будто бы ты целуешь то лицо, которое есть у меня сейчас, и ласкаешь мое нынешнее тело. Даже в мечтах я немного недоумеваю: возможно ли это? И тогда я все больше думаю о природе любви. Я думаю, что настоящая любовь – это когда любят вопреки. Вопреки всему. Просто любят. Ведь и Бога не всегда есть за что любить, правда? А человек все равно тянется к нему, несмотря ни на что. И тянется тем сильнее, чем более неказиста и обделена его жизнь.
Тебе, наверное, странно, что я говорю о любви. Тебе, наверное, вообще странно, откуда может взяться любовь внутри одинокой, диковатой и будто бы полой на вид тетки?)) Наверное, глядя на таких, как я, люди на улицах думают, что мы (ну такие, как я) присутствуем на свете только в виде физической оболочки, а внутри у нас вроде как пусто. Потому как что может быть внутри таких неказистых существ? Разве может человек яркий, думающий, чувствующий, представлять собой такую безликую тень, ковыляющую по улицам с авоськой?)) А в особенности если эта тень еще и женского пола))). Я думаю, что таких, как я, вряд ли четко идентифицируют по полу и возрасту. Скорей всего, я воспринимаюсь лишь как часть бесформенной массы, нужной для контраста с другими, ярким, успешными, бодрыми. Они, наверное, так и думают, что в этом и есть моя, наша, земная миссия – оттенять своей серость их яркость, – и ничего, кроме этой программы, в нас больше не заложено. Вряд ли кто‑то подозревает, что я женщина не только по физиологическим признакам, но и просто женщина.
Вчера на работу приходила девушка, которая продает косметику. Разложила на столе баночки с кремами, разноцветные коробочки, помады, каталоги всякие. Девчонки так и налетели, стали выбирать, рассматривать. И я подошла. «Омолаживающий есть крем?» – спрашиваю. И тут Маринка так искренне удивленно говорит: «Петровна, а тебе зачем?» В этот момент она не хотела поддеть меня или обидеть. Она удивилась по‑настоящему, по‑детски, потому что – зачем мне крем? Крема – это атрибуты мира других людей, тех, кто не относится к серой безликой массе. Я не стала ей ничего объяснять. Для чего?)) Да и сама я удивилась от ее вопроса не меньше, чем она от моего. Впала в такой же ступор. Это ее искреннее удивление вдруг отразило меня, словно зеркало, в котором я увидела себя глазами других. Я вдруг увидела, что для них меня как бы нет. То есть жизни у меня нет, с эмоциями, мыслями, чувствами. И надежд на будущее, в котором мне бы хотелось быть как можно менее морщинистой, мне вроде как тоже не полагается. Словно бы я – это приведение. А зачем приведению крем, в самом деле?
А ведь я не полая внутри. Там, внутри меня, все то же самое, что у других, просто все это скрыто под многослойным налетом тусклой, безысходной действительности. И желания у меня те же, женские, человеческие, и надежды, и даже мечты (куда же без них?). Я чувствую себя хамелеоном, который маскируется под цвет окружающей его среды.
Яркие краски, эффектные наряды, нарумяненные щеки – разве все это монтируется с той реальностью, которая мне выпала? Разве уместно будет прошуршать цветастым шелком по вонючему темному подъезду и грязному автобусу, набитому усталыми людьми? Разве эта тяжеловесная, подавляющая реальность не превратит аляпистую расцветку в родственное ей тускло‑серое полотно, покрыв его слоем пыли и грязи уже к концу дня? Я и не пытаюсь бросать вызов действительности, противостоять ей явно, открыто. Но я позволяю себе мечтать. Оставаясь одна, я абстрагируюсь от всего, закрываю глаза и становлюсь собой.
А крем я все‑таки купила)). Догнала продавщицу у самого выхода и тихонечко купила этот крем. Перед сном мажусь. Мне нравится засыпать, чувствуя его запах и влажную скользкость щеки)). А еще, запуская пальцы в белую вязкую массу в красивой баночке, я чувствую себя женщиной, самой что ни есть настоящей, вне реальности!))»
«Жесть! Это просто жесть!» – думала Света, читая очередное признание обезумевшей фанатки. Сочувствие как таковое было ей не то чтобы чуждо, но казалось бесполезным и неудобным рудиментом, который непонятно зачем сохранился в ее организме. Света все ждала, когда это вредоносное чувство наконец атрофируется окончательно и перестанет напоминать о себе не к месту появляющейся колкой щекоткой в области сердца. Когда‑то давно (сейчас уже казалось, что в прошлой жизни) сочувствие, острое как нож, то и дело ранило ее почем зря. Но в то время Света была еще мягка и слаба, как желейный пудинг, колыхающийся на тарелке от любого толчка, и нож легко входил в эту податливую субстанцию.
То было время, когда она только приехала в Москву и все никак не могла приноровиться к столичной действительности. Москва оказалась в десятки, а то в сотни раз больше и многолюдней ее неблагоустроенного, но компактного городишки. В том маленьком пространстве было не много счастливцев, украшавших собой реальность, но радость и беда каждого были у всех на виду со всеми причинами и следствиями, а потому воспринимались естественно, как данность. Например, все знали, что у Марьи Семеновны погиб единственный сын и теперь она коротает старость одна. Все знали, сочувствовали, помогали, чем могли, но вид старушки не рвал никому сердце, потому что ее горе являлось частью общего полотна жизни города, должны были быть в нем и такие зарисовки для полноты картины. В Москве же несчастные люди ослепляли Свету своим видом, как яркие внезапные вспышки, вызывая резь в глазах. Она не понимала, откуда они берутся и куда бредут. Взгляд выхватывал их из пространства и скоро отпускал, а воображение дорисовывало детали, зацепившись за отчаянные глаза, сутулую спину, несвежую заношенную одежду, торопливый шаг и нервную дрожь.
А потом Света вдруг поняла, отчего ей так пронзительно жалко всякое неприкаянное в Москве создание, хоть человека, хоть собаку, – потому что сама она является частью этой обездоленной группы, сама жмется к людям, теряясь в огромном пространстве, как в диком лесу, испытывая фантомные боли от пинков и зуботычин. В ней отзывается состраданием не их боль, а ее собственная, уже изведанная.
Чем неистовей Света продиралась в категорию благоустроенных и успешных; чем больше прилагала усилий, перешагивая через себя; романтических иллюзий разменивала, познавая реальность; провинциальной простоты вытравливала – тем шире становилась разделительная полоса между ней и представителями той группы, в которой она когда‑то была. Теперь, наталкиваясь на них и с одного быстрого взгляда угадывая их надежды и чаяния, понимая их неприкаянность и растерянность, она уже никого не жалела. Точней, что‑то внутри нее шевелилось, но это что‑то Света душила в зародыше, впадая в тихий, выжигающий все прочее, гнев: «А какого хрена вы все как сомнамбулы? Претесь в Москву и думаете, что тут вам ни за хрен собачий бешеные тыщи платить будут и на мерседесах катать! А потом ходите, как побитые собаки, на жалость давите. Раз понаехали, то либо шевелитесь, либо проваливайте. Да, да! Шевелитесь, как шевелилась я, и платите так же дорого за то, чтобы сидеть теперь на моем месте».
Былая чувствительность теперь казалась Свете чем‑то постыдным и нелепым, как пережиток прошлого или старые изношенные сапоги, случайно завалявшиеся на антресолях. Наткнешься нечаянно на эти пыльные калоши, повертишь в руках, поражаясь нелепости и простоте фасона, и подумаешь: «Ужас какой! Неужели я когда‑то воспринимала это всерьез? Смех и грех». Так и с сочувствуем.
Читая сообщения Блаженной, Света с каким‑то извращенным удовольствием отмечала, что сочувствие не беспокоит ее, не колется и не щекочет, ну разве что самую малость, почти неощутимо. Наоборот, вместо него она испытывает странное упоение. Возможно, потому, что лет через двадцать на месте Блаженной, могла бы оказаться она сама. «Да, да, – думала Света, – вот так точно оно бы со мной и случилось, если бы я осталась в своей дыре. Совсем раскисла и отупела бы там от скуки, а незадолго до прихода климакса вдруг обнаружила бы себя бесформенной, никому не нужной теткой, которая только готовится жить. Как хорошо, что я нашла в себе силы сбежать, и неважно, чего мне это стоило. Неважно. Важно, что на месте Блаженной я не окажусь уже никогда».
Нет, но это надо же было так втюхаться в Вадика? Смешно, право слово! Хотя, чего удивляться – выверенный ею образ продуман до мелочей. То от его имени она напишет в соцсетях поздравление, к примеру, с Восьмым марта, типа: «Милые женщины, вы наше все! Что мы, мужчины, без вас? Вы наши берегини, хранительницы света и тепла…» – и бала‑бла‑бла на три абзаца; то про необходимость защиты дикой природы; то фото повесит побрутальней. Филигранная работа. Знала бы эта Джульета, что ее дражайший Ромео не только рохля, но еще и импотент. Ну, почти. Может только с «Виагрой», да и то пыхтит и корчится, как будто ему зубы без анестезии лечат. Так что в романтическом смысле толку с него чуть, скорей наоборот, одно расстройство. А вот в качестве проходного билета в лучшую жизнь вполне себе сойдет. А там и поменять можно будет на кого‑то посвежее.
Софит, направленный на Успенского, погас, оператор развернул камеру, и Вадим Сигизмундович медленно, без резких движений поднялся с кресла, ласково провел рукой по брючинам в районе коленей – не смялись ли. «Съемка закончилась», – поняла Света, хлопнула крышкой ноутбука, подхватила сумку и пошла навстречу Успенскому. Приемов у него сегодня не было по случаю воскресного дня, поэтому после съемки Светлана потащила его в кафе, обедать. Он вяло сопротивлялся и мало ел.
Остаток дня Света намеревалась посвятить каким‑то своим делам, а ему было дозволено делать все что заблагорассудится. Впрочем, давая ему, казалось бы, неограниченную свободу, она знала, что желания Успенского бесхитростны и просты, – наверняка он поедет домой, уляжется на диван, включит телевизор, а потом задремлет до ее прихода. Так, собственно, и случилось.
Однако привычный ход вещей все же был нарушен в этот день. Успенский проснулся оттого, что входная дверь в квартиру не просто закрылась за вернувшейся домой Светой, а захлопнулась с невероятным грохотом, от которого, казалось, вздрогнул весь подъезд. Света ворвалась в комнату как смерч, даже не скинув туфель на шпильках, которыми теперь безжалостно истязала дорогой, недавно уложенный ламинит.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?