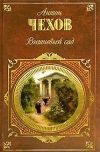Текст книги "Протоколы пернатых. Пессимистическая комедия"
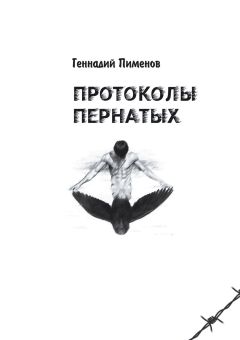
Автор книги: Геннадий Пименов
Жанр: Юмор: прочее, Юмор
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
«…Узнаю тебя жизнь, принимаю и приветствую звоном щита!»… Как говорят первоисточники и свидетели, которых у нас всегда предостаточно, в первоначальной редакции, было „приветствую звоном клинка“… Так разве нет справедливости в том, что теперь наши конвоиры приветствуют этим звоном самого подсудимого Блока?! Символические двенадцать лет (!), как водится, „без права переписки“ требуют дать „славнейшему мастеру-символисту“ погибшие в Питере в октябре. Исполним их последнюю волю»…
Николай Николаевич по прочтении этих строк хотел было замолвить за несчастного поэта перед классом последнее слово, но тут подумал о безвестном авторе текста, который, видимо, только затаился и ждет, чтобы выявить несогласных, и от комментариев устоял. И кто теперь станет упрекать его в малодушии в наши-то сумрачные времена, когда никто ни в чем не уверен, и каждый неглупый и осмотрительный человек подозревает, что в чем-то, быть может, подозревают его…
А что, в самом деле, встревать скромному человеку за исторического персонажа, который оказался чем-то не по душе мятущимся потомкам и их покровителям. Поэту уже ничем не помочь, жизнь идет своим чередом, так чего вставлять ей палки в колеса! Во всяком случае, сам, попавший под надзор стихотворец, шествию новой жизни по русской земле не мешал, помогал…
Однако и дня не прошло, как слухи о предосудительном отношении учащихся к Аверченко, Блоку и Горькому дошли до начальства. И руководство вежливо предупредило: школа, понятно, экспериментальная, но зарываться не стоит, и незаменимых преподавателей нет… Директор вызвал Николая Николаевича в кабинет и они сошлись на том, что диспут следует понемногу свернуть. Но действовать волевым порядком – значит возбудить лишние страсти. И решено было для начала направить энергию в какое-нибудь спокойное русло. Наш Николай Николаевич долго и мучительно выбирал подходящую цель. И наконец остановился на одном всеми забытом прозаике, имя которого было некогда у образованной публики на слуху…
Н. Брешко-Брешковский.
Подкидыш истории…
«Человеческий разум, предоставленный самому себе, не заслуживает доверия»
Бэкон Френсис
Между тем безвестная ныне даже для большинства взрослого люда фигура также вызвала у десятиклассников интерес. И в назначенный срок наш литературный водитель опять получил от воспитанника забористый текст, в котором угадывалась уже знакомая опытная рука. Итак, игра в развенчанье прежних кумиров продолжалась с необычным азартом, причем даже эпиграф у образованного человека вызывал раздраженье. Попади эти строки на глаза каким-нибудь доморощенным борцам за права человека и скандала в школе не миновать.
Примечательно, что в новом сочинении снова использовался прежний издевательский трюк и смертельная дрожь могла пробрать человека, который уже достаточно знал как окончилась жизнь многих видных членов творческих союзов и лауреатов всевозможных наград. В самом деле, это сегодня они еще при должностях, званиях, наградах и даже государственных дачах, это пока эти деятели мелькают на тусовках, форумах, презентациях и на ЦТ – а завтра, может, будут забыты или хуже того – голышом у всех на виду, прикрывая срамное место ладошкой, и только несколько строк петитом в газете: мол, обманул, присвоил, оклеветал…
Вот только днями вовсю трепали в прессе одного видного шелкопера, который из профессуры ВПШ и руководства ИМЛИ в смутное время переметнулся в демократический стан, потом стал либералом, а теперь, почуяв паленое, подвизается у патриотов. Кстати, выставили на божий свет его загранпаспорт – на ксиве нет от печатей свободного места: Вашингтон, Лондон, Париж, Тель-Авив, куда он мыкался за гонорарами и для инструктажа. Завидно плодовитая личность: вхож в любой кабинет, не вылезает от Соловьева, накропал кучу книжек, где в каждой он спаситель Отечества, первый мыслитель и главный герой…
Припомнив все это, Николай Николевич пробежал по первым строкам сочинения и решил не перечить. Странное дело: недели не прошло как узнал он горькую правду о Горьком-Пешкове, а уже обещают показать на Первом канале какую-то скандальную ленту о нем. Неужели, и правда, опять началось? Так чего тогда совать голову в петлю!.. В конце концов, эпиграф об ущербности разума безо всяких ограничений, похоже, правдив…
«Итак, в зал нашего исторического суда приглашается гражданин Николай Брешко-Брешковский – популярнейший литератор начала горемычного двадцатого века. На нем сегодня странный наряд: он в цивильной эмигрантской одежде, но на штиблетах настоящие шпоры. Кого, собственно, он теперь из себя представляет? То ли убежденный монархист, «белый воин», настоящий казак, то ли разочаровавшийся «либерал – губитель России»? Снимем с него камуфляж, откроем обильное Дело, чтобы увидеть его подлинное лицо.
Перед нами человек со странной фамилией Брешко-Брешковский! Вы знаете, отчего просвещенные люди подбирали себе подобные клички? Ведь на славянских наречиях это имя означает только одно: болтун в квадрате или завравшийся враль, как Воровский означает, не что иное, как вор… Но пахан всех советских дипломатов Воровский, в конце концов, нарвался на пулю русского юноши-патриота… А Брешко-Брешковский из России вовремя скрылся, и сам «за бугром» стал косить под патриота. Может, одумался, поумнел, а может, сменил свой окрас, чтобы тоже не подстрелили.
Подсудимый, встаньте и назовите свое настоящее имя! Молчите? Тогда мы назовем его для остальных. Ваш отец нам неизвестен как, возможно, неизвестен и вам, и вашей матери – Екатерине Брешко-Брешковской, которую не без основания величают «бабушкой Первой русской революции». А теперь откроем публике настоящее имя этой девицы – Вериго, уроженки Саратова – волжской провинции, вскормившей на подходе XX века массу примечательных негодяев, дела которых в погроме русской державы еще предстоит изучить…
Вериго в молодости вела слишком бурную жизнь и потому не стала волочить за собою вериги: своего малолетнего сына она оставила на волю родни и случайных людей. Принятый псевдоним и тайное посвящение в орден обязывал ее быть снисходительней к устоявшимся обывательским стереотипам и пережиткам, типа семьи. А сын успешно впитал материнские гены, развил задатки и крепко ухватился за жизнь. Унаследованный от матери псевдоним пришелся ему по душе: в начале века многие безнаказанно прятались за псевдонимы, клички и новые имена. Пример был заразителен: Ленин и Троцкий, Бедный, Черный и Белый, а также советский классик Гайдар, дети которого тоже гордились его псевдонимом, как впрочем, и целый выводок цепких, хитроумных и прожорливых гайдарят…
Вскоре Николай Брешко-Брешковский становится преуспевающим журналистом, популярным публицистом, открывающим ночные столичные тайны, знатоком цирковых и спортивных арен. Романы о людях искусства – «Записки проходимца», «Прекрасный мужчина» и другие – чередуются у него с книгами о спортивной карьере бoрцов – «Чемпион мира», «Гладиаторы наши дней», «Чухонский бог». Кстати, даже взыскательный Блок считал возможным «читать с увлечением… пошлейшие романы Б.-Б.». Правда, не все воспринимают его творчество снисходительно: например, В. Короленко писал, что у персонажей Б.-Б. «нет ни характеров, ни физиономий, а есть только мускулатура, зычный голос и большее или меньшее умение «брать на передний пояс» и «строить мосты».
Новым увлечением плодовитого автора стало создание серии повестей о скандальной изнанке светской жизни: «Записки натурщицы», «В потемках жизни», в которых А. Куприн, в целом ровно принимающий автора, отмечает «холодно риторичную, искусственно взвинченную, вымученную» порнографию. На что Брешковский тогда отвечал: «Я пишу для невзыскательного городского читателя. А он не руководствуется мнениями строгой, серьезной критики». Затем беллетрист начинает разрабатывать богатую жилу «шпионского» жанра: появляются «Шпионы и герои», «Гадины тыла», «В сетях предательства», «Танцовщица Лилиас», «Дочь Иностранного легиона».
Но настоящая слава приходит к нему после издания скандального романа «Позор династии», в котором весь романовский род был выставлен алкоголиками, вырожденцами и педерастами… На унавоженной российскими либералами и демократами почве фигура автора вырастала в размерах: в результате, перед революцией Брешко-Брешковский – самый тиражируемый литератор в стране. И как представляется, даже самой революцией русский народ, помимо матери-«бабушки», во многом обязан ему…
Еще до того как страна поделилась на красных и белых, кадровые офицеры, начитавшись брешко-брешковских, нарушали присягу, оставляли полки, пропивали амуницию и провиант, а интенданты и мародеры подрывали военную силу на фронтах и в тылах. Интеллигенты – врачи, учителя, инженеры, как в прежних революционных (1905—1907) годах, снова отказывались от исполнения прямого служебного долга, ослабляя тем самым государственный организм. Российская молодежь – барышни и юнцы – при поддержке либеральной «гнилой» профессуры выступали против самых разумных государственных действий, важных решений и спасительных мер.
В известной степени книгами Николая Брешко-Брешковского выстлан путь в Россию большевиков из-за бугра. Прозрение литератора наступило с большим опозданием, когда сподвижники Ленина-Троцкого уже набрали огромную силу, способную удушить остальных. Но наш удачливый душевед опять на коне: теперь он пишет о «дикой дивизии», которая бьется с большевиками. И уже в эмиграции писатель выдает «на-гора» новый «белогвардейский» роман «На белом коне», в конце которого, как пророк, патетически восклицает: «Этот русский царь въедет в Москву на белом коне»…
Увы, предсказание его подвело и получается Брешко-Брешковский опять набрехал: в Кремль на белом коне въехали Ленин и Троцкий, прихватив с собой кучу своих соплеменников-большевиков. Но нашему литератору все нипочем и за ним в эмиграции не уследить: жизнь подбрасывает ему кучу сюжетов и он боится их пропустить. Некоторое представление о круге его интересов дают названия книг: «Ночи Варшавы», «Принц и танцовщица», «Ремесло сатаны», «Когда рушатся троны»… Приключенческо-авантюрные романы Н. Н. Брешко-Брешковского в среде русской эмиграции ценятся не меньше, чем раньше в России. Его называют «русским Дюма», сравнивают с Ж. Сименоном. Наш удачливый прозаик принадлежал к категории тех счастливых людей, с которых все как с гуся вода: рухнуло российское государство – значит, быть по сему… Тютчевские слова «Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые…» словно написаны для Брешко-Брешковского, если не слишком вникать в их философский контекст.
Всего в эмиграции он опубликовал свыше тридцати романов. Однако критики по-прежнему отмечают всеядность писателя, стремление потрафить низким вкусам толпы, отсутствие всяческих принципов. Но, в конце концов, что стоили убеждения, принципы и приличия в те роковые для русских годы – разве только подручные средства, чтобы составить новый сюжет!? Наш литературный вития вполне мог поспорить с Плутархом, который как-то, видимо, сдуру сказал: «Ни одно слово не принесло столько пользы, сколько множество несказанных». Не в пример незадачливым софистам из Греции, каждое слово писателя отливалось в ценный металл…
После замысловатых кульбитов Брешко-Брешковского, славно пожившего и, в конце концов, почившего в хорошем возрасте за границей, следует с особым вниманием присмотреться к породе людей, обладающих собачьим чутьем в литературе. Клоны Б. Б. плодятся со страшной силой, они подобно своему прародителю ради красного словца не пощадят ни отечество, ни мать, ни отца… А уж если толком не знают ни того, ни другого, как в случае с Брешко-Брешковским, если родовая память отсутствует напрочь, то они представляют для русского народа большую опасность. То есть, «враги народа» и есть…
Как добровольный прокурор прошу определить подсудимому крайнюю меру – по совокупности всех его общественно-опасных деяний. Как адвокат предлагаю принять в расчет его дурную генетику, тяжелое детство и литературную вахту в «белых рядах», а потому не брать на душу грех: пусть Брешко-Брешковский займет свое место на нарах. Но как судья, сознающий значение профилактики преступлений, выношу приговор: всю брехню Брешко-Брешковского к… матери сжечь!..»
Правдивое слово может не произвести особого впечатления, но может заставить отступиться от неправедных дел или переделывать человека, перелицовывать душу, даже если это тронутое тленом, гнилое нутро: все зависит от того, кто этому слову внимает. Николай Николаевич, как подавляющее большинство, не слишком праведный человек, но, перечитав последний и следом все предыдущие тексты, решил, что сделает доброе дело, если продолжит затянувшийся диспут на свой страх и риск.
Между тем далее по алфавиту было сразу несколько кандидатов. Поскольку Горького-Пешкова уже освободили от белых одежд, а Гоголя уважили и трогать не стали, то остановились на Герцене, которого щадить не хотели как он когда-то тоже никого не щадил… Самое любопытное было в том, что за Герцена ухватилась девица, слывшая в классе самой начитанной. Хотя Николай Николаевич иллюзий никаких не питал: догадывался, что в интернете наверняка ждет заготовка.
А. Герцен. Все делается помимо нас…
«Усилия на ложном пути множат заблуждения»
Френсис Бекон
«Уговоримся, что не будем касаться литературного уровня творчества взятых под нашу стражу людей – нас интересует только конечный его результат. Тем более, что многие современники Александра Герцена не без основания полагали, что, собственно, в художественно-эстетическом смысле, творчества нет. Правда есть критические статьи и даже, так сказать, художественные произведения, которые собраны аж в тридцать томов. Таким образом, произведения есть, а вот художественная ценность их под вопросом, зато есть политика, которая для противников исторической власти всегда была ценнее всего – и отсюда весь интерес к нашему опальному публицисту.
Гражданин Герцен загадочный для простодушной публики персонаж, но мы его раскусили. Еще при жизни хитрому барину (который перед «съездом» не отпустил на волю, а продал всех своих крепостных!) и всем его сочинениям дали созвучную, по заслугам оценку – «хер цена». Мы решились привести в оригинале это суровое резюме не ради скандала, но токмо исторической справедливости ради, чтобы показать накал и сочность былых литературных страстей. Однако считают, что под старость сей сочинитель сотворил доброе дело: надавал по мордам преемнику декабристов Н. Чернышевскому. Признаемся также, что его «Былое и думы», в самом деле, приличная гиря на чаше наших судебных весов. В этом сочинении каждый может увидеть, чего стоили российские интеллигенты, когда скандалили меж собой, но главное – такую «телегу» на наших доморощенных щелкоперов не сможет написать теперь даже самый просвещенный литературный сексот…
И за подобную глубину, искренность чувств и суждений Герцену многое можно простить. Кстати, именно по этой схожей причине мы полностью отпустили грехи неистовому гражданину Белинскому. Нам пришлась по душе его откровенность, смелость и прямота в обращении к писучему братству: «Щас бы в морду сапогом и бить так, чтобы вытекли мозги»… – ну, кто ж такого осудит?! Сразу чувствуется наш русский образованный человек. Вот потому и Герцена мы не станем слишком сурово судить: его сама жизнь осудила, и в морду нещадно била не раз.
Однако справедливости ради отметим, что, видимо, тяга к предательству и интриге у этого приметного исторического персонажа в крови. Еще отец нашего подсудимого был арестован бдительным Аракчеевым за письмо о перемирии, которое старший Герцен привез русскому императору от Наполеона в Москву. Вы скажите, откуда такая странная связь у столичного дворянина? И, может, не случайно с младых ногтей Герцен-сын приобщился к революции и масонству: оказывается, муж его воспитательницы занимал должность в одной из лож и способного подопечного с малых лет, как говорят, просветили. Масонские реквизиты, атмосфера «комнаты обтянутой черным сукном» с кинжалами и мертвой головой на столе, с портретами знатных масонов на стенах – сызмальства занимали воображение Александра. И папа, видимо, всемерно такое образование поощрял…
Второй страстью крохи-Герцена, по его собственному печатному признанию, была революция, и вот на сей счет приметный фрагмент его ранних впечатлений о французской Вандеи: «…все шумели, кричали, кто не шумел и не кричал, тем рубили головы, народ бегал по улицам; все бил и ломал, потом прибежал во дворец и там все перебили, и переломали…
– Вот бы тебе тогда туда, – наставительно добавлял старший брат Герцена – Егор, – то-то бы ты обрадовался, помог бы ломать, швырять, исковеркал бы почище ихнего…».
Таким образом, главное об Александре Герцене было сказано еще два века назад его родным братом. И это свидетельство многого стоит: как подтвердилось впоследствии, Герцен, в самом деле, имел паталогическую страсть к разрушению. Однако Бастилия, коммуна и даже Сенатская площадь остались уже позади, время не может двинуться вспять, а потому Герцен еще мальчиком выбрал более доступную цель: он поклялся отомстить за декабристов. Как он сам потом признавался, отомстить не удалось, но зато всю жизнь простоял под этим выцветшим стягом.
В своем центральном произведении он признается, что еще в отрочестве вместе с Огаревым они «смотрели друг на друга, как на сосуды избранные, предназначенные» и поклялись «пожертвовать нашей жизнью на избранную нами борьбу»… Юный Герцен по недомыслию полагал, что до правды и справедливости можно дойти с кистенем, и не подозревал, что обычно «ищущий истину бродит в потемках»…
Для нашего дела представляется поучительным, что еще в эти ранние годы Герцен и Огарев «употребляли алгебраические буквы и формулы вместо имен, чтобы никто не мог догадаться, о чем шла речь, если бы письма попали в чужие руки». Так вот откуда набирались конспиративной грамоты Ульянов-Ленин-Ильич и его красносотенные сотоварищи! Примечательно также, что в юности Герцен в «Записках одного молодого человека» сравнивает себя с Ахиллесом, следовательно догадывается, что имеет уязвимое место… В самом деле, уже тогда проявляется одна заметная страсть – писать преимущественно о себе. Одна из герценовских повестей так скромно и называется: «О себе»… Мыслитель Герцен не по годам словоохотлив и плодовит.
А в студенческие годы уже ходит «в героях»: вместе с товарищами прогоняет из аудитории реакционно настроенного профессора: «Мы были уверены, что из этой аудитории выйдет та фаланга, которая пойдет за Пестелем и Рылеевым, и что мы будем в ней…». Наш поднадзорный герой стремительно развивается: вскоре он на «ура» принимает «декоративные постановки» революций во Франции, потом, уже при польском восстании, радуется «каждому поражению русских» и даже прибавляет в свой политический иконостас портрет польского русофоба Фаддея Костюшки.
Однако окончание университета было омрачено: Герцен получил вместо ожидаемой золотой – серебряную медаль, за которой, с досады, он не явился. А едва окончив университет, вслед за Огаревым, был арестован – за пирушку, на которой пелись «возмутительные песни»… Но самым возмутительным для юного Герцена было то, что песню «Русский император в вечность отошел…» пели приятели, а его самого «замели» заодно: до него довели по цепочке крамольные письма и ни конспирация, ни алгебраические буквы не помогли…
Заметим, что сам Герцен, в свое время, писал, что «Романтизм есть дух, который струится под всякой застывающей формой и, в конце концов, взрывает ее». А здесь «застывающая форма» превентивно, пока ее не взорвали, заключила под стражу романтичных фрондирующих барчуков. И просчет власти был только в том, что романтиков не отправили за декабристами по этапу пока из них не вылупились матерые сокрушители устоев и террористы-подрывники. Между тем известно, что большая часть декабристов воротилась из Сибири «с убеждениями христианскими до набожности»… Таким образом, налицо проявился замечательный воспитательный результат.
Тем не менее, самому Герцену выпала «ужасная кара»: его отправили на службу в провинцию, простым чиновником в Пермь, и только случайно по дороге туда он увидел толпы закованных арестантов, идущих по этапу в Сибирь. Экая досада и жалость: не позволили царские сатрапы проверить ему самые глубокие и сокровенные мысли! Ну зачем счастье «человеку, одаренному душою высокою, которая внутри себя найдет блаженство?…» – именно в этом ключе мыслил наш герой, продолжая: «Да одна мысль эта достаточна, чтобы вознестись „над толпою“, которая так боится всяких ощущений и лучше соглашается жить жизнью животного, нежели терпеть несчастия, сопряженные с жизнью человека…»
Итак, левитация над «толпою» не совсем удавалась, испытания ждали еще молодого Герцена впереди, зато он успешно прижился в провинции, где был наделен романтическим ореолом среди оппозиционного земского элемента, барышень и т. д. Жизнь проходит в «запоях любви», «разврате, картах, вине», «тысячах страстей», раскаяниях, угрызениях совести и обстоятельных письмах невесте, как в какой-нибудь мелодраме. Потом сближение с опальным архитектором Витбергом снова качнуло Герцена к мистицизму. Впрочем, это был лишь проходной эпизод, зато таинственный архитектор оставил портрет Герцена, который ныне известен. Пермский период примечателен еще псевдонимом – его «Искандер» выплыл на свет в 1836 году.
Тем временем за Герцена хлопочет, пишет письма отец, лестную характеристику дает ему простодушный, доверчивый губернатор, который даже поручает политическому ссыльному (!) сопровождение высоких гостей. И вскоре Герцен знакомится с путешествующим великим князем Александром Николаевичем, будущим императором Александром II и его наставником В. А. Жуковским. В результате двадцатипятилетний Герцен скоро отплатит губернатору за великодушие, доверие, характеристику и заботы: сначала рассорится с ним, а когда дойдет весть об отставке его благодетеля, напишет, что тот мерзавец, злодей…
Впрочем, с новым губернатором Герцен опять «на короткой ноге», тот также принимает и приближает его, закрывая глаза на частые незаконные отлучки поднадзорного к невесте в Москву. Молодой Герцен чем-то ужасно напоминает продвинутых карьеристов своей удивительной гибкостью, живостью и способностью ладить с каждым от кого зависит судьба. Перебравшись вскоре во Владимир, поближе к столице, он снова, с завидной ловкостью, входит в доверие к новому губернатору, да так, что службой его не донимают и даже помогают устраивать личную жизнь.
Мало того, Владимирский губернатор сам хлопочет за ссыльного Герцена и в результате император Николай-I собственной резолюцией разрешает тому переехать в Москву. И здесь Герцен возвращается, наконец, в привычную кружковую атмосферу: Белинский, Боткин, Галахов, потом знаменитый просветитель Грановский. Для нас показательно, что уже в эту пору новых философских и духовных метаний наш подсудимый занимается повестью «Кто виноват?», и между делом костерит славянофилов: «гадкая котегория (так у А. Г! – прим. Г. П.), стоящая за правительством и церковью, и смелая на язык, потому что им громко отвечать нельзя»…
Спешка и невоздержанность мысли часто подводит людей – не «набравши меда с цветов», они не способны самостоятельно построить настоящие соты, а в результате скоро гибнут и губят других. Любопытно, что позже в «Былом и думах» он напишет о «лапотниках-славянофилах» нечто иное: «Важность их воззрения, его истина и существенная часть вовсе не в православии и не в исключительной народности, а в тех стихиях русской жизни, которые они открыли под удобрением искусственной цивилизации»…
Пожалуй, именно в этот период с «Сороки-воровки» начинается литературная жизнь нашего мятущегося персонажа: «западника среди славянофилов» и «славянофила среди западников». Однако, когда произведение напечатали, автор был уже далеко…
Мы погрешим против истины, если представим Герцена этаким пачкуном и неумехой: отнюдь, даже Белинский в письме ему признавался, что «голова трещит иногда и от твоих философских статей». Таким образом, здесь обнажается главное оружие российской образованщины: писать так, чтобы понятно было немногим – это производит даже на просвещенную публику впечатление высокой культуры и глубины. Примечательно, что стиль Герцена также высоко оценил Чернышевский, который, правда, сам был не в ладах с родным языком.
Однако Герцен предусмотрительно отгородился от всех прочих невежд, высказав мысль об объективном характере философского знания, не зависящего от субъективных желаний людей. «Мнение – это то, что принадлежит мне, и оно не обязательно для других. Иное дело – научное познание, имеющее свои закономерности и критерии», – ну как тут поспоришь с такой потрясающей мыслью, просто робость одолевает от таких философских глубин!..
Или вот еще смелый пассаж: «Одно из существеннейших достоинств русского характера – чрезвычайная легкость принимать и усваивать себе плод чужого труда. И не только легко, но и ловко: в этом состоит одна из гуманнейших сторон нашего характера. Но это достоинство вместе с тем и значительный недостаток: мы редко имеем способность выдержанного, глубокого труда. Нам понравилось загребать жар чужими руками: нам показалось, что это в порядке вещей, чтобы Европа кровью и потом вырабатывала каждую истину и открытие: ей все мучения тяжелой беременности, трудных родов, изнурительного кормления грудью – а дитя нам. Мы проглядели, что ребенок будет у нас – приемыш».
Видимо, в этом умонастроении скрыта причина того, что Герцен с товарищами по революционной борьбе решил восстановить справедливость: они долго с завидным упорством лелеяли собственный «плод», когда же Россия чуть не погибла при родах, оказалось, что на свет опять появилось дитя, удивительно похожее на своего старшего французского братика-недоноска… Необычайная легкость принимать и усваивать плоды чужого труда – первое свойство самого барина Герцена, которое тяжело скажется на России, опять вскормившей собственной грудью по настоянию герценов-лениных-троцких чужое дитя.
Синдром «феноменальных открытий» на фоне личных ошибок и заблуждений проявляется в статьях Герцена из цикла «Дилетантизм в науке»: здесь особо примечательны требования от философии трезвой истины, далекой от романтических утешений и несбыточных надежд – при собственной герценовской близорукости и дилетантизме. Сколько блистательных фраз, поэтической позы, литературных глубин в оценке давно минувших времен и при том – беспомощность и наивность в осмыслении происходящего совсем рядом, в России, жизнь которой течет перед глазами и события в которой для русских, и даже для всего мира, как очень скоро окажется, была неизмеримо важней…
Но тем временем Герцен еще спорит с наследием Гегеля, который выступил против прекраснодушия восторженных и «романтичных балбесов», пока еще он убежден в скором прорыве в социализм, который «вырастает из всего хода истории», в светлом будущем, прогрессе всего человечества и т. д. и т. п. А между тем «светлое будущее» уже на пороге: пока Герцен скандалит с Хомяковым, Маркс встретился с Энгельсом, а Бакунин провозгласил курс на борьбу за разрушение существующего строя. Впрочем, самого Герцена все больше тревожит Древняя Греция, которой он, в отличие от России, посвящает много замечательных слов.
Другая волнующая и близкая Герцену тема – «разумный эгоизм», о котором он пишет целый трактат. Вот мнение, благодаря которому многое в Герцене проясняет: «…мы удивляемся великим самопожертвованиям потому, что меряем все на свой аршин. Все дело в том, что чем человек жертвует, то не есть его существенный интерес или наслаждение самопожертвованием превышает его»… Это очень любопытная мысль, отражающая мировоззрение автора: получается, если человек жертвует жизнью, а подобный пример и есть самый «обыденный» случай «великого самопожертвования», то жизнь, собственно, не представляет для него интереса, или наслаждение от самого факта самопожертвования значительно выше?! И выходит, если, к примеру, отец вступился за родное дитя и при том пожертвовал жизнью, то потому что жить не хотел, или смерть представляла для него наслажденье…
А вот еще одна достойная мысль: «Моралистам хочется непременно побуждать человека к добру, заставляя его поступать нравственно, так, как врач заставляет принимать отвратительную горечь; они в том и находят достоинство, чтобы человек нехотя исполнял обязанности; им не приходит в голову, что если эти обязанности истинны и нравственны, то каков же этот человек, которому исполнение их противно?..». Разумеется, эти абстракции только кажутся умозрительными – на деле они основательно замешаны на соображениях личного толка: у нашего философа не ладилась личная жизнь, а отвечать пришлось всему человечеству, на которое был рассчитан научный трактат. Но сам мыслитель определенно не дотягивал до такой планки, по которой мерили человека и жизнь настоящие мудрецы: «Жизнь – трагедия для того, кто чувствует, и комедия для того, кто мыслит»…
Главное устремление Герцена – «страна святых чудес», то есть Европа, куда он стал проситься после возвращения из своей ссылки, больше напоминавшей курорт. «Освободительное движение» – вот великая цель, которая и ранее манила его. И сразу после прекращения полицейского надзора Герцен стал хлопотать о загранпаспорте, который, впрочем как и теперь, не был для состоятельных людей весомой проблемой. И наконец, продав вскоре всех своих крепостных, оставив в России пять могил (отца и детей), после прощаний с друзьями и проводов, Герцен с семьей отбывает в Европу. Нет пророков в своем отечестве, а Герцен в пророки очень спешил.
Много лет спустя он напишет: «Теперь я уже не жду ничего… А ведь я нашел все, чего искал, даже признание со стороны старого, себядовольного мира – да рядом с этим утрату всех верований, всех благ, предательство, коварные удары из-за угла и, вообще, такое нравственное растление, о котором вы не имеете и понятия»… Но пока он свято верил, что едет, наконец, к лучшей жизни. Разочарования не замедлят сказаться, зато чувства питают сюжет: «Кто виноват?» смело можно назвать прологом романа «Что делать?»… Итак, два образованных человека взялись за кирку с намерением раздолбать до основанья фундамент, чтобы обрушить историческое здание родимой, но не слишком любимой, «немытой» страны…
Обращает на себя внимание следующее обстоятельство: все, что писал Герцен в те времена можно с полным правом отнести к нему самому и обратить против него. Вот, к примеру, пассаж: «Ничем люди не оскорбляются так, как неотысканием виновных. Какой бы случай ни представился, люди считают себя обиженными, если некого обвинить, и, следственно, бранить, наказать. Обвинять гораздо легче, чем понять». Но стремился ли сам Герцен понять русскую власть, русский люд и родную страну, ставшую тиглем для десятков народов и сотен племен, – понять больше чем Древнюю Грецию с ее давно истлевшим народом? Увы, произведения автора большей частью не позволяют утвердительно ответить на этот вопрос. Известно, что собаки лают на тех, кого плохо знают или не знают совсем… Наш добровольный изгнанник не походит на неученого дворового пса, но на Отечество лаял охотно, но еще охотнее всех брехливых собак привечал…
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?