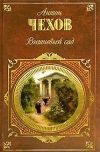Текст книги "Протоколы пернатых. Пессимистическая комедия"
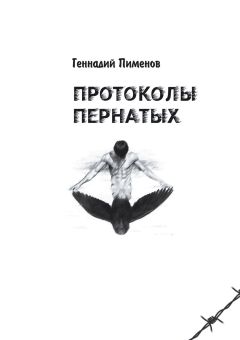
Автор книги: Геннадий Пименов
Жанр: Юмор: прочее, Юмор
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
«Спешка – знак безумия» говаривал древний мудрец, а Герцен подозрительно скоро наметил средство для улучшения нравов и искоренения всех общественных язв: он задумал улучшить среду, причем самым спешным порядком. В общем дело было представлено так: стоит улучшить социальные условия жизни – и сразу изменится к лучшему сам человек… И вот эту великую мысль Герцен всем своим творчеством утверждал. Но изменить человечество к лучшему, проживая в России, было трудней, другое дело в Европе, в Париже – «Мекке» всех революций», куда Герцен спешил, и в самом звуке которого было для него больше, чем русскому в слове «Москва»…
Здесь, в желанном Париже, он сразу бросается на поиски своих друзей и «подельников» – Бакунина, прежде всего. Герцен запомнился им хорошо выбритым господином «с волосами зачесанными на затылок, и в долгополом сюртуке, который страшно мешал его порывистым движениям», который, впрочем, очень скоро преобразился, «благодаря парижским портным и другим артистам, в полного джентльмена западной расы – с подстриженной головой, щегольской бородкой, очень быстро принявшей все необходимые очертания, и пиджаком, ловко и свободно державшимся на плечах».
Герцен спешит освоиться в новом мире: знакомится с поэтом Гервегом, встречает Прудона, говорит с Бакуниным и Сазоновым – при некоторых расхождениях интересов, тем не менее – о России… Он окунается в среду Парижа, допевающего «песни Беранже» и живущего «с лихорадочной надеждой на скорую революцию». Позже, с дистанции в несколько лет Герцен отметит, что русские в этом Париже жили «с вечно присущим чувством сознания и благодарности провидению (и исправному взысканию оброков с русских крестьян (выд. – Г. П.), что они живут в нем»… Наш герой, как мы уже упоминали, не связан с Россией позорным оброком: всех своих «душ» барин перед выездом предусмотрительно распродал…
Но французская столица скоро разочаровывает Герцена своим пошлым мещанством, пронизавшим и разъевшим бульварными романами всю парижскую жизнь. Впечатления Герцена в письмах вызывают досаду его московских друзей, которые ожидали другого. Например, В. Боткин с раздражением отмечает, что «Герцен старается каждый предмет понять навыворот, чтобы потом иметь удовольствие его поставить на прежнее место… Кто же, выехав в первый раз в Европу, не начинал о ней суждения глупостями!..»
Между тем метаморфозы с Герценом продолжаются: жизнь в Европе позволяет совершенно иначе осмыслить российскую жизнь, ее отличный от европейского путь. В нем просыпается «вера в нашу национальность», в то, что «История этого народа в будущем»… Друзей из Москвы его письма шокируют, они паникуют: Герцен, уехавший на чужбину, начинает критиковать там местные нравы и местную жизнь: французскую буржуазию, европейский порядок. Вот типичный фрагмент этих герценовских оценок: «Буржуазия явилась на сцене самым блестящим образом в лице хитрого, увертливого, шипучего, как шампанское, цирюльника и дворецкого, словом – в лице Фигаро; а теперь она на сцене в виде чувствительного фабриканта, покровителя бедных и защитника притесненных…»
Будущим устроителям буржуазной революции не могли понравиться подобные критические эскапады их сотоварища, который выбивался из проторенной колеи. А Герцена уже понесло: он пишет об антипатриотизме буржуазии – о классе людей, «который при общей потере приобретает: дворянство лишается прав – они усугубляют свои; народ умирает с голоду – они сыты; народ вооружается и идет громить врага – они выгодно поставляют сукна, провиант».
Однако при том Герцен упускает из вида двусмысленность собственного положения: сибаритствует в Париже на деньги, вырученные за проданных крепостных, и между делом подумывает, какой бы «фомкой» подломить российскую жизнь…
Впрочем, в Париже, который ему не понравился, Герцен не задержался надолго – вместе с семьей двинулся из разочаровавшей его страны прочь, напоследок составив ей приговор: «Франция ни в какое время не падала так глубоко в нравственном отношении, как теперь. Она больна. Это чувствуют все, Гизо и Прудон, префект полиции и Виктор Консидеран. Ни журнальная, ни парламентская оппозиция не знают ни истинного смысла недуга, ни действительных лекарств»…
Теперь Герцен направился дальше, по пути созерцая Лион – останки революционной святыни. Отсюда морем в Италию, которая на радость ему была охвачена «зарей национального освобождения». Однако Герцен уже сомневается в возможности скорой победы римлян, восставших против австрийцев, хотя в целом разделяет местный восторг.
В это время он пишет свой труд «С того берега», первую главу которой именует «Перед грозой», где высказывает мысль о том, что народы не успевают за своими учителями. «Недостаточно разобрать по камешку Бастилию, чтобы сделать колодников свободными людьми». Однако логичных выводов из этих открытий, как оказалось, сам Герцен сделать не смог. Его охватывает восторг от происходящих событий: неожиданно Франция, словно повинившись перед российским писателем, провозгласила республику, началось восстание рядом, в Милане, запись добровольцев в народное ополчение против австрийцев, причем Герцен даже принимает участие в демонстрации. Потом началась революция в Вене и, наконец, Маркс и Энгельс прибыли в Кельн, где принялись за выпуск «Новой Рейнской газеты». Герцен уже слышит «громовые раскаты», у него «дрожат руки», когда он «принимается за газеты»: место событий значения не имеет – лишь бы тряхнуло всерьез… Он уже томится пребыванием в Италии и жалеет, что так скоро оставил Париж.
Кстати, в эти дни Герцен встречается с художником Ивановым, который занят знаменитой картиной «Явление Христа народу», ставшей для современников идеалом братства и равенства. Но сам Герцен видит другой, не менее мистический идеал: во французских событиях – с баррикадами, разбитыми фонарями, выставленными напоказ телами убитых, занятыми восторженным людом дворцами. Громогласная нелепость Гервега «Мы хотим все уничтожить, чего только нет на земле» очень походит на юношеский порыв Саши Герцена, над которым некогда посмеялся его старший брат…
Наш герой рвется обратно в Париж, но когда прибывает вместе с семьей, революция идет снова на спад. Он вроде несет на своих плечах поражение – революции и республики, а также разгромы рабочих собраний и клубов, расстрелы и бесславный конец. Герцен потрясен и подавлен, он мечтает вернуться в Россию, увидеть родную природу и бедные крестьянские избы, и даже пишет друзьям: «…Мне хочется броситься к вам, как блудный сын, лишившись всего, утративши все упования»… Но в письме проскользнула еще одна фраза: «все защитники буржуазии, как вы, хлопнулись в грязь»… Такого не прощают даже друзья…
Личные разочарования Герцена имели роковые последствия для России, поскольку отныне все надежды на срочное переустройсто жизни на новых социальных началах он связывал только с ней. Но пока многие друзья его не понимают, их круг заметно редеет, причем один из них предрекает, что Герцен будет жалеть, что покинул страну. Между тем теперь все его помыслы обратились к русской общине, а пропаганда к русскому социализму, который деревня поможет зачать… Париж к тому времени окончательно разочаровал, надоел, к тому же там началась холерная эпидемия, и весь город покрылся трупами. В это самое время Бакунин участвует в восстании в Дрездене, пишут, что он проявляет самоотверженность и героизм, пока не оказывается в кандалах, сначала в австрийских, а потом наших, русских. Герцен в восторге от его героизма. Изданную в 1850 году книгу «О развитии революционных идей в России» он посвящает Бакунину.
Кстати, судя по оценкам, полученным от произведений Герцена о Николае I, в руки которого попал злейший враг – царь-«самодур», «прапорщик» и т. д. – должен был Бакунина, проповедавшего «страсть к разрушению», немедленно отправить на эшафот. Но последний, изображая раскаяние, писал заискивающие, подхалимские, покаянные письма, которые даже неудобно было читать и в конце концов восшедший на престол Александр II выпустил его на свободу, взяв с Бакунина честное слово, что он навсегда оставит революционное ремесло. А тот, разумеется, обманул: бежал сначала в Америку, потом вернулся в Европу и снова занялся революционной борьбой.
Будучи в эмиграции Герцен впервые сталкивается с русофобией – презрением к русским и нежеланием считать их достойным народом, что вынуждает его отвечать. Впрочем, еще более охотно он пишет о жандармской роли России, точнее царя Николая-I в Европе. Примечательно, что сам Жуковский пытается обратить на статьи Герцена внимание влиятельного Горчакова. Между тем своей новой книгой добровольный изгнанник привлекает внимание всей Европы к нашей стране, а потому на Россию нацелились как на полигон для претворения революционных идей – Маркс, Энгельс и прочие политические соглядатаи. Однако есть в сочинениях Герцена то, с чем трудно не согласиться: его пассаж о Москве. «Москва спасла Россию, задушив в ней все, что было свободного в русской жизни». Написано на века…
Вместе с тем Герцен по-прежнему недоволен и жизнью Европы: он участвует в знаменитой демонстрации 1849 года в Париже, протестуя против реакционной политики правительства Луи Бонапарта. Демонстрацию разгоняют, зато впечатлений… хоть отбавляй, и Герцен спасается, «перелезая через забор, и отправляется на Елисейские поля к дому». Потом с подложным паспортом, оставив в Париже семью, укрывается в Швейцарии.
Драма поражения Франции располагает его к мысли о том, что подходящее место для революции может быть расчищено только в России. Друзьям он напишет: «Мир оппозиции, мир парламентских драк, либеральных форм – тот же падающий мир… Демократическая сторона… была побеждена, потому что она была недостойна победы, – а недостойна победы потому, что везде делала ошибки, везде боялась быть революционной до конца…» Похоже, Ленин и Троцкий шли за нашим блудным барином по пятам…»
Тут наш педагог обнаружил, что страницы закончились и подумал, что автор поставил логическую точку – параллелью между Герценом и вождями, так сказать, «великого Октября». Он было вздохнул с облегчением, но на следующий день запыхавшаяся десятиклассница притащила ему еще ворох листов. Оказалось, что у женской половины гимназии к писателю был свой, особенный счет…
«Жизнь в эмиграции не позволила уйти Герцену в нишу, в которой можно спрятаться от душевных невзгод. После череды всяких потерь и разочарований его настигает жестокий удар: в Средиземном море в результате кораблекрушения гибнут его мать и сын Николай. Это событие окончательно подорвало хрупкое здоровье жены Герцена, Натальи Александровны, и без того надломленное в результате любовной драмы, не оставшейся тайной для остальных. Не секрет, что самые идеальные браки заключаются между слепой женой и глухим мужем: но в случае с Герценом можно сказать, что он сам словно оглох и ослеп…
В результате за рубежом Герцен пережил еще одну не менее тяжкую семейную драму: развернувшийся на глазах у друзей и случайных людей долгий и позорный адюльтер его экзальтированной супруги с другом семьи, поэтом Гервегом, окончившийся, в конце концов, смертью жены. Ее похороны вылились в «громадное и молчаливое погребальное шествие», настоящую «демонстрацию сочувствия» известному эмигранту сотен людей. Это трагическое событие стало отправной точкой создания Герценом романа-исповеди «Былое и думы», посвященного любимой жене. Произведение, ставшее впоследствии всемирно известным безо всяких натяжек можно назвать эпопеей революционной жизни России и судьбы самого автора.
Известна талантливая насмешка: если вам изменила жена – радуйтесь, что она изменила вам, а не отечеству… Однако к нашему случаю этот рецепт не подходил: супруга изменила с немецким поэтом от отечества вдалеке, когда сама семейная жизнь должна олицетворять собою нечто особенное, родовое, скрепляющее всех членов семьи и когда измена, подрывая душевные силы, доводит близких до самого опасного края. Свидетельством тому, что Герцен находился на этом краю, стали его растиражированные откровения, на которые может решиться лишь потрясенный и окончательно выбитый из жизненной колеи человек. Но в свете поставленной нами главной задачи трибуналу уместно задаться вопросом: может ли народ довериться обманутому ученому, политику и провидцу – без риска быть затем обманутым самому?..»
– Эк куда, однако, заводит, – подумал Николай Николаевич, – да таким образом можно высмеять каждого. Известно, что многие знаменитые личности в семейной жизни чаще всего неудачники и простаки…
«…Герцен ярко описал идолопоклонство «восторженных немок» всяким гениям и великим людям, а за неимением их – музыкантам и живописцам. Между тем сам нелепо, как девица, попался на показной романтизм фрондирующего поэта-революционера Гервега, обратившегося к состоятельному русскому барину за поддержкой, с просьбой быть ему «старшим братом, отцом», но на деле, регулярно наставлявшем «рога» своему благодетелю.
Пережитое Герценом, его откровенность, с которой он обнажает интимные места личной жизни, снова подтверждают мысль о глубокой психической травме, полученной в зарубежье, где он, предполагал, не без помощи дома Ротшильдов (через которых Герцен вел оставшиеся в России дела!), жить счастливей, спокойней, ровней. В самом деле, убитому горем выговориться, что голодному поесть. Но разве нормальный человек в здравом рассудке станет доверять жадной до тайн чужой жизни публике строки переписки – своей, Гервега и даже несчастной, пропащей неверной жены. Все это подтверждает, что Герцен был потрясен и выбит из колеи, когда все окружающее воспринимается неадекватно…
Во всей истории, поведанной самим Герценом и подхваченной сотоварищами, потрясает какое-то простодушное коварство его спутницы жизни, которая даже на смертном одре – за шесть дней до кончины, после всех унижений и потрясений, в которые она ввергла себя, семью, опозоренного и несчастного мужа – умудряется отправить очередное письмо своему «другу» поэту Гервегу, ставшему причиной всех несчастий и бед. Если принять в расчет, что этот адюльтер воспламенился, разгорелся, а потом полыхал и тлел у всех на виду, то возникает естественный вопрос, а куда же смотрел законный супруг? И где были самые необходимые свойства: проницательность, ум, гражданская бдительность этого мыслителя-вольнодумца, которые должны были распространяться, как на «государственную ячейку» – на его семейный очаг?.. Что это? Обостренное до абсурда достоинство, мешающее решительным образом пресечь прорастание на голове рогового покрова или обыкновенная житейская близорукость?.. Понятно, что, как истинный дворянин, Герцен не мог по-мужицки оттянуть заблудшую жену вымоченными в соли вожжами, но его запредельное чистоплюйство довело семейную жизнь до роковой, последней черты.
Казалось, что смерть жены окончательно его подломила. Однако трудно представить, что без тех страшных потерь и потрясений мог написать такие глубокие и проникновенные строки даже талантливый человек:
«…Я лег под старой, тенистой оливой, недалеко от берега, и долго смотрел, как одна волна за другой шла длинной, выгнутой линией, подымалась, хмурилась, начинала закипать и разливалась, чтобы разлиться…
Волна моей жизни, думалось мне, тоже перегнулась и течет вспять, я видел, как она отступает, касается каменьев, дна и берега, как увлекает меня назад, не обращая внимания ни на ушибы, ни на усталь и нашептывая в утешение:
Погоди немного,
Отдохнешь и ты!
…Наша жизнь вовсе не наша, все делается помимо нас».
В этом месте Николай Николаевич задержался: не первый раз читая эти герценовские слова, он снова испытывал трепет от грустного пассажа на берегу. Здесь словно проглядывала тайна – творчества и судьбы каждого человека, пытавшегося взяться за непосильную ношу – пророчества и осмысления жизни, которая, однако, по большому счету не поддавалась до конца в исследовании никому…
«После поражения революций в Европе и семейных трагедий, разочарованный Герцен перебирается в Англию. «Я здесь полезнее, я здесь бесцензурная речь ваша, ваш свободный орган, ваш случайный представитель», – пишет он московским друзьям, объясняя причины своей эмиграции.
Но это, видимо, только внешняя сторона настоящей причины: сейчас в специальной литературе можно встретить строки о том, что «Англия дает приют Герцену и Бакунину, финансирует и поддерживает революционную работу, имеющую целью все то же разрушение России»… И Герцен с Бакуниным надежды англичан – накануне их выступления вместе с Наполеоном III против России и разгрома русского флота (!) – вполне оправдали. Силу своего литературного дара Герцен обратил, прежде всего, против русского самодержавия, утрируя его отрицательные черты и романтизируя образы его злобных врагов. Например, внешность «деспота и тирана» Николая I он описывал таким образом, чтобы «создать впечатление о его дегенеративности и исключительной жестокости». А строки Герцена, включенные позже в учебник «Истории СССР»: «…Рылеев был повешен Николаем. Лермонтов убит на дуэли на Кавказе. Веневитинов убит обществом 22-и лет. Кольцов убит своей семьей 38-и лет голодом и нищетой…» – стали, по сути, ярким образцом политической клеветы, в которой малая толика правды служит созданию правдоподобной лжи о России – лжи, в которой Герцен, увы, преуспел.
Но, как известно, сопоставление проясняет. В Англии, как часто водится с русскими эмигрантами, у Герцена обостряется ностальгия, любовь к отечеству питает строки его статей и рассказов. «В нашей бедной, северной, долинной природе есть трогательная прелесть, особенно близкая нашему сердцу. Сельские виды наши не задвинулись в моей памяти ни видом Сорренто, ни Римской Кампаньей, ни насупившимися Альпами, ни богато возделанными фермами Англии. Наши бесконечные луга, покрытые ровной зеленью, успокоительно хороши, в нашей стелящейся природе есть что-то мирное, доверчивое, раскрытое, беззащитное и кротко грустное. Что-то такое, что поется в русской песне, что кровно отзывается в русском сердце» – разве ни примечательно, что эти задушевные строки были написаны в стране, где велась оголтелая антирусская пропаганда, питаемая колониальными искушениями «владычицы морей» и ее боязнью потери приобретенных владений?
Вместе с тем Герцен вплотную подступил к созданию Вольной русской типографии и, обращаясь к «братьям на Руси», публикует свой манифест: «…Открытая, вольная речь – великое дело; без вольной речи – нет вольного человека. Недаром за нее люди дают жизнь, оставляют отечество, бросают достояние…». Однако затевая на чужбине без надежных людей новое дело, Герцен оказывается в «гнетущем одиночестве» наедине с печатным станком. Друзья не одобряли его новой деятельности, обращенной, прежде всего, к передовым представителям русского дворянства, которое по расчетам Герцена, должно было освободить из неволи крестьян. К тому времени общественная атмосфера существенно изменилась – на авансцену политики вступали новые люди, отношение к возможности мирной крестьянской реформы, на которую надеялся Герцен, стало иным.
Здесь самое время сказать о заблуждениях нашего демократа, не исключающего в критическом случае обращения к «топору», как последнему аргументу, и преувеличивающего роль дворянства, которое в целом и не помышляло идти против царя или добровольно расставаться с нажитым. Достаточно сказать, что самые ярчайшие его представители – сам Герцен, а также Тургенев и тысячи других, покинувших в ту пору и позже страну – поскупились отдать землю своим крепостным и наделить их свободой, хотя первый лелеял надежду на то, что дворянство должно стать застрельщиком освобождения подневольных… Другое слабое место герценовской публицистики – надежды на русскую артель, в которой он видел колыбель социализма. Друзья в России недоумевали и советовали оставить затею: «…везде должно быть человеком, не истощаясь в бесполезных остротах…», – писал, например, М. С. Щепкин. Но любовь к Отечеству уживается в Герцене с убеждением, что самодержавие – главная причина всех бед на Руси. И против этой исторической власти он решает соорудить в «туманном Альбионе» редут, зная, что «перья стреляют дальше нарезных пушек»…
Вместе с тем в Англии начинается расхождение во взглядах Герцена с другими русскими эмигрантами, использующими для достижения политических целей самые крайние средства, вплоть до содействия антирусским силам Европы. Мало того, понемногу «правеющий» Герцен не скрывал своего убеждения в будущем прогрессе демократического панславизма, он расходился в этом с Марксом и Энгельсом, в результате чего первый писал: «…я не хочу никогда и нигде фигурировать рядом с Герценом, так как не придерживаюсь мнения, будто старая Европа, должна быть обновлена русской кровью»…
Тем не менее, Герцен становился своего рода полпредом русского народа в Европе. На митинге, посвященном годовщине февральской революции 1948 года, он сказал знаменательные слова: «В России сверх царя – есть народ, сверх люда казенного, притесняющего – есть люди страждущие, несчастные; кроме России Зимнего дворца – есть Русь крепостная, Русь рудников. Во имя этой-то Руси должен здесь быть услышан русский голос».
Разумеется, наш герой с восторгом встречает весть о смерти Николая I: ему казалось тогда, что большая часть бед в России идет от него. Впечатлениям нету предела: «Не помня себя, бросился я с „Таймсом“ в руке в столовую; искал детей, домашних, чтобы сообщить им великую новость, и со слезами истинной радости на глазах подал им газету». Восторгам, радости и шампанскому не было края, конца… Настоящий масштаб, значение Николая I для России его фанатичный враг, просвещенный Герцен, видимо, слишком хорошо сознавал. Теперь, полагал Герцен и его сотоварищи, все будет иначе, и «Полярная звезда», ведущая свое начало от декабристского издания Пестеля, должна была стать рупором свободного слова страны. По подобию Блаженного Августина наш герой возвестил миру новость «Я – разум», и начал спешно собирать свою литературную рать.
Первый выпуск издания, с эпиграфом из стихотворения Рылеева, обращенного к великому князю, ставшему ныне новым царем, и письмом Герцена (с программными положениями) к самому императору свидетельствовал о серьезности начинаний. В первом номере сразу выдвинулись три вопроса: «освобождение крестьян, требование свободы слова и освобождение податного сословия от побоев», к обсуждению которых приглашались самые разные силы – от западников до славянофилов, от либералов до демократов.
Однако затея не всем пришлась по душе: многие опасались вступать с автором в открытый контакт. Основания были: например, после появления в России одной из герценовских брошюр под подозрением оказались многие друзья из круга Белинского, которому Герцен отвел в публикации особое место. Шеф жандармов А. Орлов сказал о брошюре примечательные слова: «Многих она выдала лучше всякого шпиона»… Целый ряд знакомцев критически отзывались о герценовских публикациях в «Полярной звезде». «Для издания таких мелочей не стоило заводить типографии… У меня чешутся руки отвечать ему печатно в том же издании», – написал Кавелину бывший друг эмигранта Грановский.
Но Александр Герцен совершенно иначе воспринимает вести, идущие из России: «Новости из России превосходны. Дело движется, движется, а правительство оказывается втянутым в перестройки (выд. Г. П.), которые когда-нибудь его доконают», – такова его реакция на слова Александра II, сказанные на встрече с представителями московского дворянства, где царь призвал дворян обдумать, как «уничтожать крепостное право сверху, нежели дождаться того времени, когда оно начнет само собой уничтожаться снизу…»
Взбодренный этой оброненной императором фразой писатель затевает издание специальных сборников «Голоса из России», в которых печатаются либералы Чичерин, Кавелин и Мельгунов, выразившие между тем несогласие с радикальным духом герценовской пропаганды. Особенно досталось от них «Колоколу», который также начал издаваться вскоре после приезда в Англию Огарева. Признаем, что в целом «Колокол» был горячо принят в России: им зачитывались все – от гимназистов до министров, он даже доходил до царя. Все новости, о которых не говорилось вслух при посторонних, обсуждались на страницах нового журнала, подписанного псевдонимом Герцена «Искандер». Но был при том еще один важный вопрос, на котором многие с Герценом расходились – средства и методы освобождения крестьян от помещиков, то есть вопрос, который из Лондона решался проще, решительней, смелей и скорей… Причем против призывов к немедленному освобождению, проповеди грядущего переворота выступали даже друзья (упомянутые выше Кавелин, Чичерин), письма которых Герцен (тем не менее) без комментариев публиковал.
Кстати, личная встреча в Лондоне Герцена и Чичерина лишь углубила существующие разногласия. Чичерин, обратившийся с предложением сделать позицию «Колокола» более мирной и конструктивной, чтобы «можно было действовать на недоумевающее правительство, сдерживать его и направлять на правильную стезю», после бесед с Герценом написал: «Никакая проповедь умеренности не могла на него подействовать: это было слишком противно его природе». Впоследствии идейные расхождения Герцена и Чичерина углубились и стали основой для «Обвинительного документа», направленного Чичериным против программы лондонских эмигрантов. В свою очередь этот примечательный документ, ставший манифестом русского либерализма, вызвал отповедь другого демократа Н. Чернышевского. Ну, чем ни пиар! И такая свара по миру пошла…
В самом деле, надо признать, что все эти разногласия, споры лишь придавали популярности «Колоколу», который помимо прежних почитателей обретает массу новых авторов и друзей. На встречу с Герценом в Лондон приезжают И. Аксаков, Лев Толстой, Писемский, Достоевский, критик А. Милюков, художник А. Иванов, а также другие зачастую совершенно случайные люди, обыкновенные любопытные, привлеченные славой, и даже шпионы – с намерением все разузнать. Кстати, добирался сюда и Некрасов, но Герцен не принял писателя, считая его виновным в растрате денег первой жены Огарева.
Тем временем в личной жизни нашего эмигранта происходит решительная перемена: его новой женой становится супруга его друга и соратника Огарева. Это был изменчивый рок, какое-то наваждение: то ли сказывалось спертое пространство эмигрантской жизни, то ли, наоборот, вольная западная среда, то ли давали всходы заразительные плевелы адюльтера, оставленные почившей в Бозе первой женой, но факт остается фактом: друг Огарев без боя оставил супругу, как когда-то, почти без сопротивления наблюдал за изменой жены его соратник и друг.
Герцен-литератор этого периода жизни был в самом зените: он пишет блестящие филиппики, остроту которых не затупило время даже сейчас. Достаточно привести здесь лишь пару строк, чтобы прочувствовать силу его обличительных сатирических оборотов: «Сечь или не сечь мужика? Разумеется, сечь, и очень больно. Как же можно без розог уверить человека, что он шесть дней в неделю должен работать на барина, а только остальные на себя. Как же его уверить, что он должен, когда вздумается барину, тащиться в город с сеном и дровами, а иногда отдавать сына в переднюю, дочь в спальную…» («What is question?»).
Между тем скоро Герцен входит в полемический раж и ссорится с Некрасовым и Добролюбовым, издающими «Современник». Присланный для разборки Николай Чернышевский уезжает ни с чем: каждый в этом споре считает себя только правым. Позже на страницах герценовского журнала, в знаменитом «Письме из провинции», подписанном «Русский человек», некто советует «Колоколу» звать Русь не «к молебну», а «к топору»… До сих пор биографы Чернышевского опровергают его авторство этой программной статьи, хотя, судя по многим приметам, это была рука именно расстриги-семинариста. Но, впрочем Герцен отвечает на статью осмотрительным призывом к «развязке без топора»…
Манифест об освобождении крестьянства в России был воспринят в Лондоне как большой праздник: дом Герцена был иллюминирован, украшен знаменем с лозунгом, здесь каждого русского встречали по-братски, хотя все-таки торжества не получилось… Как скоро выяснилось, надежды, что с манифестом пропадут все проблемы, не оправдались. И вскоре «Колокол» уже публикует материалы о том, что «русская кровь льется рекой»…
Затем по делу о связях с «лондонскими пропагандистами» в России арестовываются более тридцати человек. Таков досадный итог неосторожности в сношениях Герцена и Огарева с приезжими соотечественниками. Среди арестованных Серно-Соловьевич и Чернышевский. О последнем речь еще впереди, а пока можно сказать, что «смелость – начало дела, но случай – хозяин конца…»
Зато лондонскую группу пополняет бежавший ссыльный Бакунин, со страстным желанием скорее что-нибудь «замутить». А вскоре началось время петербуржских пожаров, распространились прокламации, призывающие к революции и истреблению сторонников самодержавия, что не без основания связывали с деятельностью «Колокола». Герцен и Огарев по-прежнему мечтают осчастливить все человечество, или, по крайней мере, избавить от России Польшу, поддержав польское восстание. Потому ими выброшен лозунг: «Да, мы против империи, потому что мы за народ!»… и даже организуется денежная помощь повстанцам. Однако вскоре отношения между Герценом, Огаревым и Бакуниным обостряются, поскольку, как известно, русские даже на необитаемом острове или чужбине охочи до свар и вражды…
Новые впечатления добавила очередная поездка Герцена в Италию. Здесь он к своему огорчению обнаружил, что, несмотря на все достижения демократии, социальной революции не произошло. Вслед за другими современниками, итальянскими историками Герцен разделяет объяснение провала великих надежд происками масонов. Оказалось, что пламенные революционеры Гарибальди и Мацини вынуждены были повиноваться высшему звену «строителей соломонова храма», которыми, как выяснилось, были ненавистные им монархи… Герцен воспринял произошедшее, как циничную насмешку судьбы, всюду повинующейся чистогану.
Тем временем все больше сгущается атмосфера в герценовской семье. Отношения в ней столь запутаны и противоречивы, что биографы, похоже, не разобрались до сих пор. Уже нет прежней дружбы Герцена с Огаревым, у которого начались болезненные припадки. Все это вместе с истериками и дикими сценами его, перешедшей к Герцену бывшей супруги, окончательно разрушило у последнего иллюзию о семейной гармонии… Между тем рождаются новые дети, которых записывают как детей Огарева, что было под серьезным вопросом… А Герцен не может сдержать нараставших обид и новых страстей, и сознает, что «Комедия сыграна! То, чего я боялся – сделано… Я пережил себя – начинается неблагодарная старость – и вот для чего я пережил потери и обиды». В итоге семья фактически распадается. Герцен предусмотрительно составляет завещание, распределяя не только доходы от ренты, но и обязанности, вплоть до того, кто должен ухаживать за беспомощным Огаревым… Затем на Герцена обрушивается новый удар – смерть детей, обоих близнецов, от дифтерита.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?