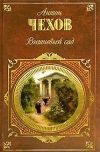Текст книги "Протоколы пернатых. Пессимистическая комедия"
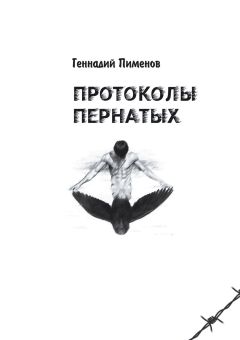
Автор книги: Геннадий Пименов
Жанр: Юмор: прочее, Юмор
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
«Те, кто стремится к великим свершениям, должны перенести и великие страдания», – эта мысль Плутарха, видимо, была известна просвещенному эмигранту. «Страшный омут случайностей», в который угодил наш герой мог обессилить другого, лишить его всяких надежд, но Александр Герцен держался как стоик. Между тем вести из России также прискорбны. Одни друзья в остроге (Серно-Соловьевич), кто-то на каторге (Чернышевский и другие), подполье разгромлено, Россия «правела», прежние друзья порывали с Герценом все отношения. Например, напуганный Иван Тургенев, привлеченный по делу о сношениях с «лондонскими пропагандистами».
К тому времени непоколебимая вера в общину и мужицкую силу России полностью завладела добровольным изгнанником, убежденным, что мужик и община непременно доведет страну до социализма… Заметим, что на этом утопическом пункте сходились ранее многие – от Чаадаева до Чернышевского, однако, до последнего края дошел именно Герцен, который от умеренной критики скатывался к полному отрицанию возможности развития западной цивилизации, сравнивая ее с Древним Римом, который неминуемо должен выродиться и пропасть под нашествием варваров. Здесь Герцен, в конце концов, схватывается с Чернышевским и в споре доходит до того, что считает Россию страной, которая первой может дойти до социального переворота… А Европой, по его мнению, полностью овладело мещанство – «последнее слово цивилизации, основанной на безусловном самодержавии собственности»… Короче говоря, Запад, по воззрениям нашего просветителя, уже тогда, в последней четверти XIX века пропадал, загнивал…
Многие воззрения Герцена представляют замечательную мишень, в которую не раз направляет свои острые мысли Тургенев. Между тем были и согласные с ним: так, Достоевский во многом разделяет отношение Герцена к мещанской Европе и «онемечиванию» России. Не случайно Герцен в поучение русским читателям цитирует «русофобскую» передовицу «Россия и Германия» из немецкой «Аугсбургской газеты»: «Вникая в дух и стремление русских публикаций последнего времени, мы убеждаемся, что их главная характеристика состоит в возмущении славянского высокомерия – против умственного превосходства немцев…»
На этом пункте Николай Николаевич споткнулся, остановил чтение и стал размышлять. А вдруг сочинение попадется кому-нибудь на глаза, а вдруг его придется передавать по инстанции выше? И это при нынешних отношениях с канцлером и строящейся «Трубе»! Подумал-подумал и на всякий случай поставил на полях жирный вопросительный знак: демократия – демократией, а бдительность не помешает…
«Вскоре у Герцена появляется еще один неприятель – «молодая русская эмиграция», пополнившая ряды соотечественников в зарубежье после крушения надежд на скорое революционное переустройство в России. Вскоре эта «милая орава» потребовала, чтобы Герцен и Огарев поделили с ними «бахметьевский фонд», – немалые деньги, оставленные фурьеристом на революционное дело. Называя их «Скалозубами и Ноздревыми нигилизма», Герцен поначалу повел с ними борьбу, придавшую драматизма и без того сложным отношениям русских изгнанников и скитальцев. Он также пишет воспоминания и статьи, упоминая при том сосланного Чернышевского, но молодежь эмиграции решительно резонирует, причем ее отчасти поддерживают авторитетные оппоненты Герцена из России. К тому же он ссорится с Бакуниным, который, получив гонорары от Интернационала на переводы марксовского труда, затеял потом против «марксидов» тайные войны. А сам Герцен к Интернационалу все более тяготел…
Вообще вся история отношений «политических» в забугорье невольно напоминает анекдот о так называемых «пофигистах». Итак, одного видного «пофигиста» страшивают о том, правда ли что ему все по фигу? – Правда, отвечает тот: абсолютно все… – А деньги Вам тоже по фигу? – Нет, деньги не по фигу… – Как же так? Ведь это выходит непоследовательно и непринципиально!? – А мне это по фигу… В самом деле, как только споры заходили о деньгах, до которых все были охочи, портились отношения даже близких товарищей, самых идейных и бескорыстных борцов…
Однако заметим, что все эти трудности не сломили духа издателя, который по-прежнему ищет новые творческие формы, организационные возможности и средства. В числе прочего он решает издавать «Колокол» и на французском полагая, что идеи русского обновления станут, таким образом, понятней в Европе. Здесь Герцен по праву выступает как представитель русского народа, демократической России, общественное мнение о которой было крайне искажено. Впрочем как можно было европейцам принимать всерьез этих русских, которые на деньги, вырученные за своих оброчных крестьян, затевали в зарубежье российскую смуту и радовались каждому поражению своего Отечества на фронтах…
Но тут Герцена снова подстерегают новые испытания: неожиданно заканчивает жизнь самоубийством жена его старшего сына, которая бросается в реку, тяжкая судьба словно не отпускает писателя. Объяснения сына, которого Герцен считает виновным в смерти невестки, он находит неубедительными и мучается мыслью о том, что виной всем злоключениям – его добровольная эмиграция, с которой все началось…
Сохранилось ценное воспоминание соотечественника, который рассказал Герцену как-то о русском, решившем остаться за границей. Герцен прервал этот рассказ: «Бога ради, уговорите вашего приятеля не делать этого; эмиграция для русского человека – вещь ужасная; говорю по собственному опыту: это не жизнь и не смерть, а нечто худшее, чем последняя, – какое-то беспочвенное прозябание… Мне не раз приходилось раздумывать на эту тему, и верьте, не верьте, – но если бы мне теперь предложили на выбор теперешнюю скитальческую жизнь или сибирскую каторгу, то, мне кажется, я бы без колебания выбрал последнюю».
Здоровье Герцена к тому времени было уже крайне подорвано, страшные испытания и кочевая жизнь последних лет совершенно истощили его. А революционная атмосфера в России тем временем пошла снова на спад. Представитель молодой эмиграции Нечаев, получивший (под влиянием Огарева) от Герцена часть «бахметьевского фонда», вскоре стал знаменит убийством студента Иванова, которое многим в России открыло глаза на цели и средства революционеров. Как известно, этот криминальный сюжет лег в основу «Бесов» Ф. Достоевского. В результате, под давлением обстоятельств, Герцен объявил о прекращении выпуска «Колокола». Стоит ли говорить, что для него это было крахом, жестоким ударом судьбы…
Последние месяцы его жизни были отравлены новой семейной драмой: тяжелой болезнью старшей дочери. На этом нервном фоне Герцен, после участия в демонстрации по случаю похорон французского журналиста, получает простуду, которая оказывается для него роковой. Вызванный врач подтверждает воспаление легкого, осложненное диабетом. Но Александр Герцен держится бодро и всего за день до кончины даже говорит Тучковой-Огаревой: «Отчего бы нам ни поехать в Россию?»…
Больной Огарев проведать старого друга не смог. А вполне здоровый Тургенев, хорошо зная о безнадежности Герцена, попросту не захотел: бросился, несмотря на все уговоры герценовской жены, из Парижа в Баден к своей Виардо. Уже в предсмертном бреду Герцен куда-то рвался поехать, требовал омнибус или карету. Быть может, на поезд в Россию…
Мы не любители «копаться в белье», но добросовестность «законников» вынуждает: ведь под нашим надзором находится не рядовой обыватель, но высоколобый аристократ и дворянин. Не довольствуясь этой ролью Герцен активно вмешивался в российскую жизнь, мечтая «обустроить» ее сообразно своим представлениям о справедливости и порядке. Напомним, что именно по его барской наводке на Россию обратили свой взор маститые европейские сотрясатели: один Маркс со своим подельником Энгельсом чего только стоят!..
И потому мы с полным правом повторим наш вопрос: имел ли моральное право судить державные дела тот, кто обрек на несчастья родных и не смог содержать в чистоте домашний очаг?.. Мало того – человек, исполняющий самую незавидную роль почтальона в переписке супруги с любовником, узнающий о происходящем в семье с чудовищным опозданием, последним, от друзей и, подчас, от совершенно случайных людей. Помимо этого риторического вопроса у этого дела есть еще одна любопытная сторона, которая совершенно избавляет нас от возможных упреков: сам Герцен выставил на всеобщее обозрение эту трагедию. Ведь «Былое и думы» – произведение доступное всем – в деталях воспроизводит поучительную историю доверительных отношений публициста со всякими проходимцами, – отношений, в пучине которых гибнет вместе с самим героем семья.
Однако признаем, что наш подсудимый делает и доброе дело: Герцен открывает современной России, снова стоящей на распутье истории, свои взгляды на «прогрессивное» устройство Европы, как мира алчных предпринимателей и торгашей, и от этого не отмахнуться – это надо принять в расчет: «…владычество капиталистов покрыло современную Францию вечным позором, напомнило времена ренегатства, управление лакея Дюбуа, продавшего Францию Англии, и породило оргию промышленности… горе государству, которое в руках капиталистов. Это люди без патриотизма, без всякой возвышенности в чувствах. Для них война или мир значит только возвышение или упадок фондов – далее этого они ничего не видят. Торгаш есть существо, по натуре своей пошлое, дрянное, низкое и презренное, ибо оно служит Плутусу, а этот бог ревнивее всех других богов (Прим. – Г. П.)»…
Эти строки Герцена в самую пору вырубить на фронтонах наших российских государственных институтов, легко подпавших под буржуазный соблазн, а также наших культурных учреждений, театров, к которым подбираются цепкие руки: пусть все знают, что думал на сей счет самый титулованный демократ…
Итак, спору нет, «Былое и думы» – исключительное произведение, признанное даже врагами или теми, кто Герцена не любил. Но к чему, в конце концов, оно привело своими призывами то к покаянию власти, то к топору мужицкой страны?.. Вот вопрос, который витает надо всей отечественной литературой: отчего результат зачастую оказывается противоположным вектору усилий творца?..
«Что за страшный омут случайностей, в который вовлечена жизнь человека, – я иногда сознаю себя бессильным бороться с тупой, но мощной силой, во власти которой личность и все индивидуальное», – это признание литератора Герцена, который примерял на себя тогу пророка, но который только накликал на Россию беду…
У нас нет никакого желанья добивать каменьями сломленного житейскими бурями и потрясенного до основания человека. Однако мы вправе напомнить, что наш подсудимый взял на себя роль поводыря, не имея к тому нужных, спасительных для человечества свойств. Так неужели это – непременная особенность и отличие тех, кто движется литературной стезей? Воистину: слепые поводыри слепых…»
Последние строки снова ставили нашего Николая Николаевича в щекотливое положение: с одной стороны, в самом деле, надо каждому в жизни следовать честным путем, добиваться справедливости, правды, сознавать ответственность и т. д. Эта истина вполне укладывалась в прокрустово ложе гимназических и школьных программ, и тут его за подобное сочинение не посмеют упрекнуть на педагогическом совете.
Но с другой стороны, даже самый мелкий, незаметный, непризнанный литератор кожей осязает в последних строках этого гимназического сочинения ясный упрек и призыв к ответственности за каждое слово, сказанное публично или написанное пером. А время-то выдалось трудное: даже у бывших заслуженных членов «Совписа» нет, как прежде, гарантированных печатных листов, и соответственно, гонораров и потиражных. Канули в лета санатории в благодатных местах, а также творческие командировки, встречи с культурной общественностью, молоденькими поэтессами и доярками, скрашивающими будни художника на «вольных хлебах». Жизнь скромного литератора, который не сумел, не успел написать государственный гимн или, на самый худой конец, влезть в референты к банкиру, – и без того ныне стеснена и убога, а тут еще какой-нибудь гимназист намекает о моральной ответственности и старых долгах. А к тому же Герцена современные русские писатели попросту не любили: уж слишком образован и обеспечен был, негодяй, знал другие языки, партсобраний чурался и проживал, опять же, в сытости, от российского бездорожья и прочего безобразия вдалеке…
Осмыслив все это, наш педагог последнее сочинение благоразумно предавать огласке не стал, а просто хотел перейти к новой теме. Но неожиданно в учительскую стал названивать какой-то живой классик из столичного писательского союза, который крыл их учебное заведение затейливым матом и требовал, что диспут пора прекратить. Тут скоро вмешался директор и предупредил скандалиста, что школа экспериментальная, можно сказать, что это гимназия, а за процессом следит президентский совет. Сошлись на том, что писатели отрядят своего эмиссара, который возьмет под контроль учебный процесс. И, между прочим, литераторы дали совет, чтобы педагоги сделали упор на известные народные имена. Но эмиссара из творческого союза к очередному уроку послали и тот должен был вступиться за Герцена, поскольку когда-то заканчивал герценовский институт. Вот только до школы он так и не добрался: задумался, проехал нужную остановку, оказался за МКАДом и потом его видели веселого, где-то у озера, с рыбаками на берегу. Оказалось, что писатель он был неплохой, но с известной слабостью русского человека.
А Николай Николаевич даже потом на это досадовал: в самом центре России, где литераторов развелось как бродячих собак, оказалось, некому было вступиться за своего собрата по литературному ремеслу. Между тем текст он вынужден был размножить и передать по нескольким адресам: писателям, директору и два экземпляра по инстанции выше. Как-никак, а диспут у столичной публики был уже на слуху…
А еще через неделю, как-то под выходные пришла нашему учителю изящной словесности оригинальная мысль. А почему, собственно, выставляет он под обструкцию своего класса всяких либералов и демократов, а противный лагерь остается в тени? Таким образом, затрепали и освистали господ демократов, которые сейчас у простых людей не в чести, а чем лучше противоборствующая сторона? И почему бы ни попробовать рассмотреть вблизи наших «деревенщиков», «державников» и «патриотов», которые сейчас на коне? В самом деле, настала такая пора, что каждый чиновник начинает косить под патриота, радеть в речах за отечество и ругать доморощенных «дерьмократов», благодаря которым сам пробрался во власть. Патриотизм стал входить в российскую моду, депутаты вовсю надувают щеки и костерят почем зря зарубежные порядки и нравы, хотя, на всякий случай, прячут зарубежные счета и берегут заграничные паспорта…
Николай Николаевич подумал-подумал и поставил на рязанского сладкоголосого менестреля, который писал складные вирши про свою малую родину, но проведать ее не спешил. И ответ не заставил себя ждать…
С. Есенин.
…но и я кого-нибудь зарежу…
«Жизнь говорящего имеет большее значение, чем любая речь»
Август Аврелий
«Наш суд беспристрастен и неподкупен. Мы выше всяких амбиций, эмоций, вкусовщины и антипатий. Мы не выдаем индульгенций, даже если кто-то печатно клянется любовью к отчизне и облобызал целую рощу берез. Мы спросим в первую голову именно с тех, кому верили, кто нас обольщал и предавал. Мало того, если понадобится, мы будем тверды, – и мы эти головы снимем. А потому мы не можем пройти мимо дела поэта Сергея Есенина.
На первых порах он не вызывал никаких подозрений. Ну, отказался пригожий сельский парнишка, как остальные его соплеменники, сеять и жать, или «сеять разумное, доброе, вечное», – то есть, стать сельским учителем, как мечтали отец и мать. Ну, удрал из деревни в Москву, чтобы не потеряться в глуши; ну, сменил пару профессий, – это вполне можно понять: юный поэт, ставший по иронии судьбы конторщиком мясной лавки, стремился поскорей вырваться на оперативный простор. Тем паче, в его активе уже были чудные строки «Выткался над озером алый цвет зари», помеченные 1910 годом, а для пятнадцатилетнего паренька стихи были во всех отношениях зрелыми, которым мог позавидовать и признанный куртуазный поэт.
Правда психика Есенина вызывает подозрения у родных и знакомых: «Меня считают сумасшедшим и уже хотели везти к психиатру, но я послал всех к сатане», – чистосердечно пишет он весной 1913 года из Москвы своему товарищу Грише Панфилову, которому между тем дает совет всех любить и жалеть – «и преступников, и подлецов, и лжецов, и страдальцев, и праведников. Ты мог и можешь быть любым из них. Люби угнетателей и не клейми позором, а обнаруживай ласкою жизненные болезни людей. Не избегай сойти с высоты, ибо не почувствуешь низа и не будешь о нем иметь представления…» Здесь юный поэт своим строем мысли еще дает лучшее подтверждение христианской морали, укорененной в крестьянской среде. И казалось ничто не предвещало у рязанского паренька удивительной метаморфозы.
Но вскоре честолюбивый помощник корректора Сатинской типографии «левеет» среди столичной молодежи, участвует в забастовках и даже взят полицией под кличкой «Набор» на учет. В это же время не без помощи первой гражданской жены Анны Изрядновой, родившей девятнадцатилетнему Есенину сына, поэт оказывается в подходящей среде, где начинает понемногу публиковаться в тонком журнальчике для детей и даже подступаться к «толстым журналам», которые, однако, поначалу «самородка» не признают. В этот период на свет появляются замечательные строки «Березы», стихи «Гой ты, Русь, моя родная», которые теперь знают все россияне. Есенинский стих набирает силу, как береза сока весной, в нем появляются оригинальные интонации и сюжеты.
Параллельно Есенин занимается на историко-философском отделении Московского городского народного университета им. А. Л. Шанявского, что отчасти объясняет горизонты, открывающиеся в некоторых его более поздних стихах. Видимо, тогда же он всерьез проникается прозой Гоголя, которого боготворил и лирикой немецкого народного поэта Йогана-Петр Гебеля, оказывающего на него огромное влияние, – вплоть до последнего предсмертного стихотворения «До свиданья друг мой, до свиданья», которое по убеждению одного из знакомых Есенина, «звучит по-гебелевски».
Но вскоре под влиянием поэзии Блока новоиспеченный поэт, который пишет, что «я о своем таланте много знаю», задумывает «во что бы то ни стало удрать в Питер». Самая первая важная встреча в столице (9.III.1915), почти что с вокзала, именно с Блоком, который Есенина выслушал, отметил стихи как «свежие, чистые, голосистые, многословные…», но наладил его к другому поэту – Сергею Городецкому. Любопытна также оценка жены Блока, дочери самого Менделеева – Любови Дмитриевны: «Народ талантливый, но жулик»… И в повторной встрече с метром Есенину было отказано; эта обида, пишут, его сильно ранила, залегла глубоко и не улеглась до самого смертного часа.
Примечательно, что именно в этот памятный для Есенина 1915 год из-под его пера выходят проникновенные вирши «В том краю, где желтая крапива», в которых поэт, по сути, предвосхищает судьбу многих российских крестьян, «кулаков» и выписывает искреннее, что, видимо, таилось у него на душе:
«Я одну мечту, скрывая, нежу,
Что я сердцем чист.
Но и я кого-нибудь зарежу
Под осенний свист»…
Быть может, именно о высокомерном, рафинированном Блоке, бывшем в зените своей творческой славы и думал тогда наш рязанский поэт? Однако рекомендация последнего все же Есенину помогла: вскоре он входит в поэтический салон Петербурга, куда случайных не допускают. А следом более полусотни стихов из шестидесяти, принесенных Блоку в платочке, были приняты в сборник «Радуница». Впрочем, Есенин и далее не ждет у моря погоды: ведет наступление по самому широкому фронту – ищет новых покровителей, поклонников и друзей. Его предприимчивость поражает и наших современников, особенно тех, кто свыкся с прежним лубочным образом крестьянского паренька. Вот, например, что рассказывал о приходившем к нему представиться юном поэте Ф. Сологуб:
«Смазливый такой, голубоглазый, смиренный… Потеет от почтительности, сидит на кончике стула – каждую минуту готов вскочить. Подлизывается напропалую: «Ах, Федор Кузьмич!», «Ох, Федор Кузьмич!» И все это чистейшей воды притворство! Льстит, а про себя думает: ублажу старого хрена, пристроит меня в печать. Ну, меня не проведешь, я этого рязанского теленка за ушко да на солнышко. Заставил его признаться, что стихов он моих не читал и что успел до меня уже к Блоку и Мережковским подлизаться, а насчет лучины, при которой якобы грамоте обучался, – тоже вранье. Кончил, оказывается, учительскую школу.
Одним словом, прощупал хорошенько его фальшивую бархатную шкурку и обнаружил под шкуркой настоящую суть: адское самомнение и желание прославиться во что бы то ни стало. Обнаружил, распушил, отшлепал по заслугам – будет помнить старого хрена!..
И тут же, не меняя брюзгливо-неодобрительного тона, Сологуб протянул редактору Н. Архипову тетрадку стихов Есенина.
– Вот. Очень недурные стишки. Искра есть. Рекомендую напечатать – украсят журнал. И аванс советую выдать. Мальчишка все-таки прямо из деревни – в кармане, должно быть, пятиалтынный. А мальчишка стоящий, с волей, страстью, горячей кровью».
Таким образом, усилия Есенина не напрасны, особенно, если принять в расчет, что приблизительно в тот же период он сближается с признанным народным златоустом, «охранителем северной старины» Николаем Клюевым. Есенин в своей автобиографии пишет, что «с Клюевым у нас завязалась, при всей нашей внутренней распре, большая дружба». Зоркий глаз одного есенинского современника запечатлел в своих мемуарах лубочного паренька в голубой шелковой рубашке, черной бархатной безрукавке и нарядных сапожках, который вослед за Клюевым пробирался на сцену: они неразлучною парой выступают на неонароднических посиделках и вечерах, о которых впоследствии Есенин напишет:
«Тогда в веселом шуме
Игривых дум и сил
Апостол нежный Клюев
Нас на руках носил».
Кстати, Клюев, обладая связями в придворных кругах, помогает избежать отправки любимого «жавороночка», рязанского поэта, на фронт: Есенин проходит, говоря новоязом, «альтернативную службу» – санитаром в Царскосельском лазарете, который находился под патронажем самой императрицы. И здесь также налаживается очень полезный контакт…
На фронтах Мировой уже лилась кровь рекой, а у Есенина дела пошли в гору: его печатают нарасхват и даже в 1916 году трехтысячным тиражом издают отдельную книгу.
Поэт проявил тут завидную оперативность и сметку, одарив первым изданием всех, кого особенно «уважал за успех» – Алексея Толстого, Леонида Андреева, Репина и даже Максима Горького. Верно сказано: ласковый теля двух маток сосет… Еще до Октябрьского переворота Есенин успел побывать по высочайшему приглашению во дворце и удостоиться царских милостей и почета. Милый русоголовый певец читал стихи самой императрице и великим княжнам. И в то же самое время нового «любимца петербургских литературных снобов» выставляют напоказ в светских салонах: писали, что в противовес Гришке Распутину, чтобы ослабить влияние последнего на императорскую семью. Загримированный под «народного баяна» и обласканный царским двором Есенин вскоре удачно вписывается в богемную жизнь, и тогда еще трудно было представить, что вскоре он станет одним из форейторов грядущего атеистического лихолетья.
По воспоминаниям Г. Иванова «За три – три с половиной года жизни в Петербурге Есенин стал известным поэтом. Его окружали поклонницы и друзья. Многие черты, которые Сологуб первый прощупал под его „бархатной шкуркой“, проступили наружу. Он стал дерзок, самоуверен, хвастлив. Но, странно, шкурка осталась. Наивность, доверчивость, какая-то детская нежность уживались в Есенине рядом с озорным, близким к хулиганству самомнением, недалеким от наглости. В этих противоречиях было какое-то особое очарование. И Есенина любили. Есенину прощали многое, что не простили бы другому. Есенина баловали, особенно в леволиберальных литературных кругах».
Однако подошло тревожное время, лазаретную команду расформировали, и Есенина направили в пехотный полк, но тут на радость ему выпал Февральский переворот, и поэт возвращается в Петроград, где получает направление в Школу прапорщиков. От учебы, как раньше от фронта, Есенин удачно «косит». В «Анне Снегиной» поэт открывает свою подноготную: через облагороженный образ героя поэмы проступают другие есенинские черты:
«Свобода взметнулась неистово.
И в розово-смрадном огне
Тогда над страною калифствовал
Керенский на белом коне.»
Война до конца», «до победы»…
И ту же сермяжную рать
Прохвосты и дармоеды
Сгоняют на фронт умирать.
Но все же не взял я шпагу…
Под грохот и рев мортир
Другую явил я отвагу —
Был первый в стране дезертир»…
А в есенинской автобиографии на этот счет есть две героические строки: «В революцию покинул самовольно армию Керенского и, проживая дезертиром, работал с эсерами не как партийный, а как поэт». Итак, мы здесь добрались до того, кто по собственному признанию, стал первым «героическим дезертиром», с которого открылась позорная страница России, по сути, признавшей свое поражение поверженному врагу…
И теперь всю свою «отвагу» поэт переносит на поэтические фронты, между тем искренне приветствуя Февральскую революцию, которая, по его разумению, освободив Россию от самодержавной «скрепи», сделает ее «Великой Крестьянской республикой». Вчерашний пригожий, мирный, улыбчивый крестьянский парнишка неожиданно для себя и остальных, словно сбросив лягушачью кожу «послушника» и «херувима», с разбойной удалью и мужицкой отвагой входит в неистовый поэтический раж, сочиняя и декламируя принародно стихи, которые приводят в восторг атеистов, а также в ужас и искушение тех, кто не спешил принимать новую жизнь и с верой предков еще не порвал. Опьяненный «февральской метелью» ее певец, глашатай и пророк убежден, что скоро будет знаменит и всенародно любим:
«Говорят, что я скоро стану
Знаменитый русский поэт»…
(1917)
К этому времени Есенин решает, как подобает знаменитости, остепениться: он женится, с венчанием в церкви, на машинистке издательства Зинаиде Райх и снимает квартиру, а вскоре у них рождается дочь. Декоративная косоворотка балалаечника давно сменилась городским пиджаком, поэт носит костюм, галстук и шляпу
Прежние скромные формы уже не вмещают его революционный порыв – теперь он переходит к поэмам, с которыми своим накалом страстей не могут сравниться произведения других «певцов Октября» – Блока, Маяковского и прочих. В этот период создан целый цикл маленьких поэм: «Певущий зов», «Отчарь», «Октоих», «Пришествие», «Преображение», «Сельский частослов», «Небесный барабанщик» и прочие, в которых словно наперекор христианской традиции прорываются языческие верования, пробужденные в новой мужицкой Руси. Вот самые показательные богохульства, в которых поэт скандальным образом спешит порвать связь со всем старым миром:
«Не устрашуся гибели,
Ни копий, ни стрел дождей, —
Так говорит по Библии
Пророк Есенин Сергей.
Время мое приспело,
Не страшен мне лязг кнута.
Тело, Христово тело,
Выплевываю изо рта… (…)
Протянусь до незримого города,
Млечный прокушу покров.
Даже Богу я выщиплю бороду
Оскалом моих зубов.
Ухвачу его за гриву белую
И скажу ему голосом вьюг:
Я иным тебя, Господи, сделаю,
Чтобы зрел мой словесный луг!
Проклинаю я дыхание Китежа
И все лощины его дорог.
Я хочу, чтоб на бездонном вытяже
Мы воздвигли себе чертог…
(…)
Нынче ж бури воловьим голосом
Я кричу, сняв с Христа штаны:
Мойте руки свои и волосы
Из лоханки второй луны.
(…)
Радуйся, Сионе,
Проливай свой свет!
Новый в небосклоне
Вызрел назарет. Новый на кобыле
Едет к миру Спас.
Наша вера – в силе.
Наша правда – в нас!»
«Иония» (январь 1918).
И результат творческого усердия был налицо: в том же 1918 году молодой поэт принят в члены московского профессионального Союза писателей. Есенин сознает, что вошел в сильный поток, который понесет и дальше – только держись на плаву… И он с утроенной силой пишет то, что должно импонировать новой власти, для которой церковь и вера оставалась смертельным врагом. Противные Православию метафизические теории борьбы солнечного и земного начал, с восторгом принятые известным поэтом, оживают в его языческих стихах, изрядно приправленных злостью и солью:
«За седины твои кудрявые
За копейки с златых осин
Я кричу тебе: «К черту старое!»,
Непокорный разбойный сын»…
«Пантократор» (1919).
Нет возможности в нашем скромной формате и желания вытащить на божий свет все перлы поэта, вошедшего в новый поэтический образ, точнее, открывать рыло того, кто вселился в него. Принято считать, что высшие силы помогают поэтам, однако в случае с Есениным все было наоборот: здесь на его стороне были силы мрака и дна… Остается лишь поражаться тому, отчего в России, еще недавно православной державе не нашлось русского человека, который мог бы унять буйного молодца.
И слава хулигана, что здесь ни говори, ему была не помехой, наоборот, на хулигана Есенина толпой валил и полуграмотный, и образованный люд. Его «Маленькие поэмы» многого стоят: они показывают, куда заводит художника стремление быть на гребне судьбы, добиться успеха любою ценой. Из вчерашнего крестьянского богобоязненного и чистого паренька получился истеричный, самодовольный, раздираемый бесовскими страстями трибун. Стоит ли говорить, что такой «хулиган и скандалист» импонировал власти: ведь его стихи помогали сломить непокорных и, по сути, мостили в стране репрессиям путь.
Сейчас духовные наследники Сергея Есенина пытаются изъять из его биографии эти страницы, истолковать их самым казуистическим образом и представить поэта этаким херувимом, крестьянским отроком, пострадавшим от темных вражеских сил. Но если зрить в самый корень, то получается, что после революции наш самородок с лакейским пробором ловко переметнулся к тем, кто оказался тогда у государственного руля. Мало того, он всячески поносил тех, кто остался верен старой России, кто не хотел брать новой власти «под козырек». Между тем для Есенина, по его собственному признанию, первые годы революции – лучшая пора его жизни, а сама революция – «чудесная гостья».
Не случайно наш «крестьянский поэт» легко сходится с Максимом Горьким, другими литераторами, подвизавшимися в услугах новым властям. И не случайно сам Лев Троцкий отметит потом большие заслуги поэта – в речи на траурном митинге, включенной впоследствии в предисловие к сборнику «Памяти Есенина». В ней красный маршал совершенно справедливо заметит, что «Есенин не враждебен революции и никак уж не чужд ей; наоборот, он порывался к ней всегда – на один лад в 1918 году:
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?