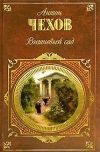Текст книги "Протоколы пернатых. Пессимистическая комедия"
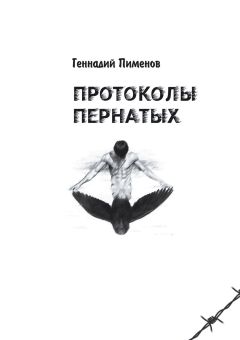
Автор книги: Геннадий Пименов
Жанр: Юмор: прочее, Юмор
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Мать моя родина, я – большевик!
На другой – в последние годы:
Теперь в советской стороне
Я самый яростный попутчик
Революция вломилась и в структуру его стиха и в образ, сперва нагроможденный, затем очищенный. В крушении старого Есенин ничего не терял, и ни о чем не жалел. Нет, поэт был не чужд революции, – он был несроден ей. Есенин интимен, нежен, лиричен, – революция публична, – эпична, – катастрофична. Оттого-то короткая жизнь поэта оборвалась катастрофой…»
Можно по разному относиться к товарищу Троцкому, от расположения которого во многом зависела есенинская судьба, но, пожалуй, лучше, точнее – невозможно определить есенинскую натуру. Здесь следует принять во внимание, что в отличие от поэта, поначалу льнувшего к власти, Лев Троцкий держал себя более сдержанно и отстраненно, и даже поэта критиковал. Например, он писал, что от стихов Есенина, «попахивает средневековьем, как и от всех произведений мужиковствующих», но поэта вынуждено терпел. Почему – уже сказано выше: многие есенинские стихи можно с полным правом поставить с винтовками рядом в арсенал Октября. Мало того, по одному из свидетельств в разгульной жизни Есенина не досужей выдумкой были и самые мрачные и позорные из страниц: например, присутствие его на расстрелах в ЧК. Во всяком случае, в мемуарной литературе встречается этот потрясающий факт, добавляющий существенный штрих к портрету поэта…
Когда вскоре из Питера Есенин с семейством перебрался обратно в Москву, поэт снова проявил недюжинный предпринимательский дар, удачно вписавшись в компанию имажинистов. Опубликовав свой манифест в 1919 году, имажинисты просуществовали сообща до 1924 года, когда Есенин фактически распустил Орден, напечатав об этом сообщение в «Правде». Но это еще будет не скоро, а пока в упряжке с Анатолием Мариенгофом и Вадимом Шершеневичем они «держат» литературное кафе «Стойло Пегаса», небольшое издательство, книжную лавку, а также журнал. Здесь на «Тверской» людное место, самая подходящая атмосфера для «раскрутки» поэта, который очень скоро входит во вкус. Столичная богема гуляет в кафе до утра и безотказно «подносит» поэту. В это время Есенин особо примечателен тем, что сознательно выводит из употребления свой рязанский язык: он стремится стать общерусским поэтом.
В компании имажинистов он штурмует московский «Парнас». Иван Розанов воссоздает атмосферу «Политехнического музея», где есенинский «Сорокоуст» вызывает буйные страсти: рукоплескания одних и свист, негодование, крики других, не принимавших стилистики вольной мужицкой речи. Но скандал, как средство достижения славы, давно у «мастеров художественного слова» в ходу, и наш Есенин также смело идет этой натоптанной колеей. О практичности молодого поэта красноречиво говорит еще одно любопытное обстоятельство: его друг Георгий Устинов вспоминает, что «Перед тем как написать „Небесного барабанщика“, Есенин несколько раз говорил о том, что он хочет войти в коммунистическую партию. И даже написал заявление, которое лежало у меня на столе несколько недель (…) Только немного позднее, когда Н. Л. Мещеряков написал на оригинале „Небесного барабанщика“, предназначавшегося мною для напечатания в „Правде“: „Нескладная чепуха. Не пойдет. Н.М.“, – Есенин окончательно бросил мысль о вступлении в партию. Его самолюбие было ранено – первое доказательство, что из него не вышло бы никакого партийца»…
Свидетельствуют, что только в двадцатом году Сергею Есенину неожиданно открывается явь: во время поездок – в спецвагоне, в Харьков, вместе с выбившимся в крупные чиновники Мариенгофом, а потом на родину – он видит то, что незаметно в столицах: бунтующее мужичье, изувеченные пытками трупы возле местной «лубянки», голод, болезни, подступающую гибель крестьянского мира. Из письма Есенина в Харьков в том же двадцатом году: «мне очень грустно, что история переживает тяжелую эпоху умерщвления личности как живого, ведь идет совершенно не тот социализм, о котором я думал… Тесно в нем живому, тесно строящему мост в мир невидимый, ибо рубят и взрывают эти мосты из-под ног грядущих поколений… всегда ведь бывает жаль, если выстроен дом, а в нем не живут, челнок выдолблен, а в нем не плавают…»
Ужасная действительность открывает поэту глаза, заставляет изменить направленность и тон его лиры: в новом варианте «Кобыльих кораблей» судьбоносный Октябрь становится «злым», он словно заказывает панихиду по вымирающей крестьянской Руси. Считают, что мрачные впечатления подталкивают «крестьянского лирика» к созданию поэмы о Пугачеве. В конце двадцать первого года он пишет из Москвы Клюеву: «Душа моя устала и смущена от самого себя и происходящего. Нет тех знаков, которыми бы можно было передать все, чем мыслю и от чего болею…»
В другом письме (Иванову-Разумнику) он жалуется на отвратительное ощущение от жизни в Москве и «безлюдье полное»…
Но вскоре Есенин встречает Айседору Дункан, знаменитую балерину, приехавшую, в погоне за убывающей славой, в Россию. Много противоречивого написано о первом знакомстве. Например, Г. Иванов утверждает, что после первого спектакля на банкете, устроенном в ее честь, знаменитая танцовщица сама подошла «к Есенину своей скользящей походкой и, недолго думая, обняла его и поцеловала в губы. Она не сомневалась, что ее поцелуй осчастливит этого «скромного простачка». Но Есенина, уже успевшего напиться, поцелуй Айседоры привел в ярость. Он оттолкнул ее – «Отстань стерва!» Не понимая, она поцеловала Есенина еще крепче. Тогда он, размахнувшись, дал мировой знаменитости звонкую пощечину. Айседора ахнула в голос, как деревенская баба, зарыдала.
Сразу протрезвевший Есенин бросился целовать ей руки, утешать, просить прощения. Так началась их любовь»
Любительница вакхических танцев, заморская беспутная «Дунька», открывшая на «Пречистинке» школу пластики для пролетарских детей, отдает поэту весь остывающий жар своего еще пылкого сердца. В ее особняке, ставшем штаб-квартирой имажинистов, Есенин вместе с Мариенгофом, Шершеневичем, Кусиковым и Аненковым, по свидетельству последнего, проводят «оргийные ночи», причем «снабжение продовольствием и вином шло непосредственно из Кремля». Между тем по прорывающимся репликам Сергея Есенина можно сделать вывод, что жизнь в Москве ему надоела, не по нутру.
В конце концов, Дункан решает показать Есенину мир: увозит возлюбленного белокурого «уруса» в Европу, а потом за океан. Она сорит деньгами, представляет поэта всюду, где только можно. Но более чем годовалый заморский вояж с новой женой душевного покоя Есенину не приносит. В письмах, посланных им А. Сахарову и А. Мариенгофу из Дюссельдорфа и Парижа, звучит один и тот же мотив: одиночество и тоска такая, что «повеситься можно»… Между тем поэту А. Кусикову он напишет, что, невзирая на «тоску смертную», в Россию возвращаться не хочется: «Если б я был один, если б не было сестер, то плюнул бы на все и уехал бы в Африку или еще куда-нибудь…»
Впрочем в Америке и Европе он покуражился всласть. «Кроме русского языка никакого не признаю, если хотят со мной говорить, – пусть учатся русскому…» Не менее знаменитые личности – Ломоносов, Пушкин и Тютчев тоже стояли за русский, но при том знали и не презирали других языков. Есть подозрение, что за позой Есенина-патриота – обычная бравада дорвавшегося до славы холопа и мещанская лень. Однако поэт ощущает себя советской мессией и распевает в Европе «Интернационал» вместе с Дункан.
Горький, встретившийся с Есениным в квартире А. Н. Толстого, отмечает, что поэт уже походил на пьющего человека: «Веки опухли, белки глаз воспалены, кожа на лице и шее – серая, поблекла, как у человека, который мало бывает на воздухе и плохо спит»… Советский классик также напишет, что в доме Толстого «пожилая, отяжелевшая, с красным, некрасивым лицом» Дункан опять танцевала, и что она «являлась совершенным олицетворением всего, что ему (Есенину – прим. Г. П.) было не нужно…»
Другие свидетели этой зарубежной страницы жизни поэта отмечают крайнее опрощение отношений Есенина и сорокапятилетней Айседоры Дункан, в которой ощущалась «трагическая алчность последнего чувства» и для которой эта любовь была, «как злой аперитив, как огненная приправа к последнему блюду на жизненном пиру». И видимо, вконец утомленный этой связью Есенин вместе с сопровождавшим его поэтом Кусиковым сбегает от Айседоры в маленький пансион, где обнаружившая их после длительных поисков танцовщица устраивает настоящий погром.
В итоге они вскоре вернулись в Москву, жить в которой, как оказалось, поэту уже было негде. Не осталось и отчего дома: почти полностью выгорело родное село, в котором сгорел и родительский дом. Проза жизни вынуждает обратиться с просьбой о жилплощади к власти, но она не отвечает ему. Выручает бездомного поэта снова девица, сотрудница газеты «Беднота» Галина Бениславская, «влюбленная в Есенина безоглядно» и давшая ему пристанище, а потом взявшая под опеку и двух его младших сестер. Однако после запоев, загулов, а в результате – разрыва, Есенин женится на более подходящей особе – внучке знаменитого классика Софье Толстой. Таким образом, по сути, он стал двоеженцем, поскольку брак с А. Дункан еще даже не был официально расторгнут. Но, как пишут, для родственников самого Льва Толстого формальность регистрации в советском загсе не стала серьезным препятствием…
Известно, что после возвращения из зарубежья Есенин написал «Железный Миргород» – прозу, в которой описал свои впечатления. Примечательно, что в предисловии к очеркам об Америке он признавал, что вернулся другим, как предупреждал о том сам Лев Троцкий. И Есенин не упустил возможность потрафить самолюбию одного из вождей: «Мне нравится гений этого человека, но видите ли?.. Видите ли?.. Впрочем, он замечательно прав, говоря, что я вернусь не тем, чем был»…
Кстати, первая глава («PARIS») открывает глаза на то, отчего власть все прощала Есенину: она убедительно подтверждает, что его творчество выбивало опору у тех, для кого Россия оставалась Отечеством, заповедной державой, которая не хотела укладываться в прокрустово ложе «красных» архитекторов новой страны. В своих дорожных записках знаменитый поэт, как опытный агитатор, звал к новой жизни, убеждая лучше, сильней, чем тысячи партийных распоряжений, призывов и директив. Есенин знал, чем можно потрясти воображение соотечественников в еще не оправившейся от разрухи и полуголодной стране. Так, например, описывая размеры, убранство и роскошь океанского парохода, его залов, ресторанов, библиотек и кают, восторженный поэт вспоминал:
«Я осмотрел коридор, где разложили наш большой багаж, приблизительно в 20 чемоданов, осмотрел столовую, свою комнату, 2 ванные комнаты и, сев на софу, громко расхохотался. Мне страшно показался смешным и нелепым тот мир, в котором я жил раньше. Вспомнил про «Дым отечества», про нашу деревню, где чуть ли не у каждого мужика в избе спит телок на соломе или свинья с поросятами, вспомнил после германских и бельгийских шоссе наши непролазные дороги и стал ругать цепляющихся за «Русь», как за грязь и вшивость. С этого момента я разлюбил нищую Россию. Народ наш мне показался именно тем 150 000 000-ым рогатым скотом, о котором писал когда-то в эпоху буржуазной войны в «Летописи» Горького некий Тальников. Где он теперь? Я с удовольствием пожал бы ему руку, ибо это была большая правда и большая смелость в эпоху квасного патриотизма. Милостивые государи! Лучше фокстрот с здоровым и чистым телом, чем вечная, раздирающая душу на российских полях, песня грязных, больных и искалеченных людей про «Лазаря». Убирайтесь к чертовой матери с Вашим Богом и с Вашими церквями. Постройте лучше из них сортиры, чтобы мужик не ходил «до ветру» в чужой огород. С того дня я еще больше влюбился в коммунистическое строительство (выд. – Г. П.).
Пусть я не близок им как романтик в моих поэмах, я близок им умом и надеюсь, что буду, быть может, (близок) и в своем творчестве, лишь бы поменьше было таких ценителей искусства, как Мещеряков в Госиздате или (царство ему небесное) покойный Вейс. С такими мыслями я ехал в страну Колумба. Ехал океаном 6 дней, проводя жизнь среди ресторанной и отдыхающей в фокстроте публики»
Как нам представляется, это произведение Есенина достойно внимания не менее его дивных стихов: в самом деле, в нем открывается незаурядный полемический и даже дипломатический дар! Очерки занимают всего десяток страниц, но в них, помимо оды коммунистическому строительству и критики американского образа жизни, можно также обнаружить желание досадить своим обидчикам и соперникам на литературных фронтах. Здесь видится, совсем не случайно, ссылка на Маяковского при упоминании «комнат для отдыха, где играют в карты» и прямой есенинский выпад: «До чего бездарны поэмы Маяковского об Америке…»
В сентябре 1924 года Есенин уезжает в Грузию, в творческую командировку, где складываются знаменитые «Персидские мотивы», составившие во многом славу кумира многих русских людей. Кстати, там же рождается «Анна Снегина» – особая отметина среди прочих стихов и поэм, в которой звучат исповедальные ноты поэта.
А на обратном пути в Москву завязывается узел очередного конфликта, существенно осложнившего Есенину жизнь. В поезде происходит стычка подвыпившего поэта с ответственными чиновниками Наркомата иностранных дел (Ю. Левит и А. Рога), которые затем подали на обидчика в суд. Пишут, что на сей раз Есенину не помогло даже заступничество Луначарского: некто, более влиятельный, отверг ходатайство самого наркома просвещения. А судья Липкин, узнав, что «хитрец» Есенин прячется в психиатрической клинике, названивал туда и даже посылал за поэтом людей. Предполагают, что заступничество наркома игнорировал сам Троцкий, у которого было к тому времени немало веских причин Есенина проучить. После заграничного турне тот на всех углах «кроет» советскую власть и демонстрирует «квасной российский патриотизм». Заметим, что о кутежах и дебошах Есенина, которые заканчивались антисоветскими и «антисемитскими выходками», пишет в своих воспоминаниях Г. Иванов:
«Пьяный Есенин чуть ли не каждую ночь кричал на весь ресторан, а то и всю Красную площадь: „Бей коммунистов – спасай Россию!“ и прочее в том же духе. Всякого другого на месте Есенина, конечно бы, расстреляли. Но с „первым крестьянским поэтом“ озадаченные власти не знали как поступить. Пробовали усовестить – безрезультатно. Пытались припугнуть, устроив над Есениным „Общественный суд“ в Доме печати, – тоже не помогло». Писали, что, в конце концов, от Есенина отступились, что милиции была дана установка отправлять поэта в участок для вытрезвления, но дальнейшего хода делам его не давать. Свидетельствуют, что в результате все московские милиционеры знали поэта в лицо…
Конечно, особый разговор – отношения Есенина с властью. По одной из версий совсем незадолго до смерти поэт оказался втянутым в противостояние, назревающее в высшем эшелоне государственной власти. По другой – сказались его прежние связи с поэтами, принадлежавшими к организации российских националистов. Считается, что помимо массы дел, заведенных в результате пьяных скандалов, на Есенина уже накопился достаточный компромат на его связи, знакомых, к которым, как говорится, у советской власти были вопросы. Например, был арестован есенинский друг поэт Ганин, который впоследствии сошел с ума на допросах и был вскоре расстрелян.
По ряду свидетельств, к тому времени отношения еще всемогущего Троцкого и Есенина уже дали трещину: «Критик Ин. Оксенов 20 июля 1924 года записал в «Дневнике»: «…когда Троцкий сказал Есенину: «Жалкий вы человек, националист», – Есенин якобы ответил ему: «И вы такой же»». Может, поэт этой репликой и подписал себе приговор. До Троцкого не раз доходили слухи о проделках и неосторожных разговорах Есенина – через чекистов, других литераторов, знакомых поэта, подруг. А Есенин, словно очнувшись от летаргии, начинает сознавать, что он как поэт, становится заложником новой жизни, которую сам торопил и на которую возлагал слишком много надежд.
И теперь у него выходили стихи, которые задевали сильных мира сего. «Рязанский скандалист позволял себе и резкие личные выпады против членов Политбюро ЦК РКП (б), характеризовал Гражданскую войну как „дикость подлую и злую“, сгубившую тысячи прекраснейших талантов». Вот, например, опальные строки Есенина, расставляющие акценты, которые были не по нраву властям:
«В них Пушкин, Лермонтов, Кольцов,
И наш Некрасов в них.
В них я.
В них даже Троцкий, Ленин и Бухарин.
Не потому ль моею грустью веет стих
Глядя на их невымытые хари»…
Ни у кого также не вызывало сомнений, что прототипом Чекистова в есенинской поэме «Страна негодяев» (убийственный заголовок!) послужил именно Троцкий, как литературный персонаж, живший некоторое время, до «Великого Октября», в Веймаре. Не исключено, что Лев Троцкий располагал и другой информацией, в том числе из неосторожных посланий поэта друзьям. Вот еще один характерный фрагмент вышеупомянутого письма (7 февраля 1925 г.) А. Кусикову в Париж: «…Тошно мне, законному сыну российскому, в своем государстве пасынком быть <…> Надоело мне это … (ненормативная лексика – Г. П.) снисходительное отношение власть имеющих, а еще тошней выносить подхалимство своей же братии к ним… Я перестаю понимать, к какой революции я принадлежал. Вижу только, что ни к февральской, ни к октябрьской <…> Не могу, ей-Богу, не могу! Хоть караул кричи или бери нож да становись на большую дорогу…»
Таким образом, версия о том, что «немытые хари» взяли Есенина на заметку выглядит убедительно. И можно вполне допустить, что в конце концов, поэта подло убили. Причем вхожие в секретные архивы, в самом деле, дошли до того, что отыскали и заказчика, и убийц, и тех, кто заметал за ними следы. Теперь утверждают, что даже знаменитая прощальная элегия «До свиданья, друг мой, до свиданья…» – всего лишь фальшивка, сочиненная в «конторе» Льва Троцкого, и что свидетель Эрлих выполнял в статье «Право на песнь» две задачи – отвести от себя и от «главного архитектора» все подозрения. И потому тайный ненавистник Есенина превращается в друга, а явный враг Троцкий – в любимца поэта. Эрлиховский Есенин говорит: «Знаешь, есть один человек… Тот, если захочет высечь меня, так я сам штаны сниму и сам лягу! Ей-Богу, лягу! Знаешь, – кто? – Он снижает голос до шепота: – Троцкий…»
Между тем авторство этой скандальной есенинской фразы остается под сильным вопросом. И мало ли кто снимал добровольно штаны перед Троцким или Зиновьевым, но откуда такая блажь у рязанского мужичка?.. Однако, с другой стороны, в мемуарах блуждают свидетельства, что Есенину «за бугром» уже однажды крепко досталось в еврейской компании за злые слова в адрес Троцкого: пишут, что поэта даже связали и надавали ему тумаков. Таким образом, можно допустить и обратное – что не желая наступать снова на грабли, поэт намеренно расточал комплименты Льву Троцкому, зная, что до него непременно дойдет…
А потребность в реабилитации могла к тому времени пригодиться, поскольку новые вызовы времени беспокоили поэта всерьез. Репутация «антисемита», которую накликал его редко трезвый язык, да прорвавшиеся скандальные интонации в «Стране негодяев» (где, повторимся, комиссар Чекистов – приезжий еврей – очевидный прототип всемогущего Троцкого) могли из литературных салонов и кабаков довести прямиком до подвалов ЧК: «что у пьяного на уме»…
«Бытовой антисемитизм» Есенина, если действительно и существовал, был, скорее всего, в ряду тех же приемов, которыми он добивался признания и успеха у подсоветских людей. В годы передела государственной власти его показной национализм мог импонировать сталинскому окружению, выступившему против Троцкого, Зиновьева, Каменева и других псевдонимов, и пришлых людей. На деле Есенин к евреям, которых среди поэтов было немало, никакой особой ненависти не имел. Вот как излагает этот опальный вопрос имажинист Матвей Ройзман:
«…К моему удивлению, Сергей ухватился за эту тему и стал говорить о своих отношениях к евреям. Он сам не понимает, как его зачислили в антисемиты. Любил евреек, жена у него еврейка и дети еврейские (так и сказал «еврейские»). Он с особенной любовью заговорил о своем сыне: «Понимаешь, встал перед мной… Такой маленький, и говорит: «Я Константин Есенин»…
Он пояснил мне, что не любил Мандельштама, Пастернака за то, что они все поют о соборах, о церквях, о русском. В поэте он (Сергей) ценит свое лицо: должны быть своя рубашка, не взятая напрокат. В стихах важна кровь (слово «кровь» подчеркнул), быт! И сейчас же добавил: вот ты не стесняешься, что еврей. Поешь о своем…».
Фразу о своих детях-евреях, в разных интерпретациях, Есенин, видимо, говорил не однажды, – как искупляющий его пьяные речи самый убедительный и спасительный аргумент. И в целом близость этнически русского Есенина к «избранному народу», видимо, сослужила ему в жизни странную службу: иногда она помогала ему войти в избранный круг, открывала дорогу к властям, публике и тиражам, защищала его поначалу, но, вместе с тем, вполне могла стать причиной скрытной неприязни самых разных людей. Здесь следует принять в расчет и быстро меняющуюся политическую обстановку, когда «краснознаменные репрессивные органы» стали рекрутировать в свои боевые ряды русскую молодежь, у которой были с нерусской знатью свои старые счеты.
Зинаида Райх, подозрительная заморская стерва Айседора Дункан, Галина Бениславская (подруга Есенина и знакомая сына Льва Троцкого), супруга красного террориста Блюмкина – вот лишь несколько известных фигур из обширного списка хороших знакомых, безвестных и часто совершенно случайных девок и зрелых баб, в которых завяз наш поэт по самые уши и которые наплодили ему законных, полузаконных и незаконных детей, а также стали невольной причиной появления массы завистников, скрытных недругов и открытых врагов.
В самом деле, скажи, кто твой друг… Оказалось, что кроме всяких артисток, иноземок и девиц неясных кровей, помимо массы друзей-поэтов и собутыльников – Есенин имел связи с литераторами из чекистов далеко не крестьянского круга. Многое, по разным причинам, мы не можем предать здесь широкой огласке, однако, считаем нужным заметить, что, будь наш загульный поэт поразборчивей в связях, то мог бы спокойно дожить до седин, арбатской квартиры, переделкинской дачи, собрания сочинений и секретарства в СП – как придворные поэты наших последних времен.
Но что нам все-таки делать с фразой Есенина «вся жизнь за песню продана»? Не в ней ли таится ответ на загадку, которая доныне тревожит матерых исследователей-детективистов, пытливых мемуаристов и пылких есениноведов, соблазняющих издателей на новые тиражи?.. В самом деле, внутренний надлом, безысходность, тлеющий конфликт с сильными мира сего, творческий застой на фоне запоев, – вполне могли довести Есенина до петли, о которой ранее он и сам не раз поминал. Знакомые и друзья вспоминают «черного человека», который иногда воплощался для поэта в упрямую явь, заставляя его всеми силами избегать одиночества. А также трагические строки, написанные в последний год жизни поэта: «Ставил я на пиковую даму, а сыграл бубнового туза», – строки, которые означают только одно: проигрыш, полный провал и трагичный конец…
Однако кто с полной уверенностью теперь может сказать, что здесь правда, что выдумка или фантазия, а что откровенная ложь: воспоминания близких, знакомых полнятся умолчаниями и противоречиями. Самые разные страсти и искушения – сказать о поэте новое слово, стремление к справедливости или заслуженной каре, желание вписаться в историю, отмыться перед потомками или уйти от пули в застенке – часто заводят читательскую паству в тупик. И думается, для нас здесь важнее другое: осознать, что Есенин не был невольным заложником губительных для Отечества и русского люда идей – он сам добровольно стал новой власти подпаском и также как Блок и Маяковский помогал одевать соотечественникам на шею ярмо…
Есть еще одно свойство, которое не красит Есенина и которое мозолит глаза каждому знакомому со стихами поэта и воспоминаниями о нем самых разных людей – доходящее до крайнего тщеславия адское честолюбие нашего персонажа. Известная фраза у памятника Пушкину: «снимите меня с Сашей», – далеко не случайна, хотя и сказана по обыкновению нетрезвым Сергеем. Стихи Есенина на юбилее возле пушкинского монумента – его непомерным амбициям самый наглядный пример. Кстати, о неуемном «славолюбии» Сергея Есенина писал Иван Розанов, который считал это качество «одним из основных нервов его деятельности». Высокая самооценка поэта не раз проявилась в его высказываниях о Кольцове, Клюеве, Блоке, Маяковском, и тем более, о его друзьях-имажинистах, которым он отказывал в признании «поэтического мироощущения» и творческого мастерства. А зрелый Есенин считал себя «первым поэтом» России и не пропускал случая это всем показать – и «терезвый», и навеселе.
В этом, последние годы, судя по многим воспоминаниям, почти хроническом состоянии, поэт и запомнился многим, с кем был близок, знаком. И мы бы не стали касаться этой известной российской беды, если бы ни есенинские откровения, которые только подтверждают наши догадки и есенинскую вину. По этой причине мы приводим воспоминание А. Воронского:
«На загородной даче, опившийся, он сначала долго скандалил и ругался. Его удалили в отдельную комнату. Я вошел туда и увидел: он сидел на кровати и рыдал. Все лицо его было залито слезами. Он комкал мокрый платок.
– У меня ничего не осталось. Мне страшно. Нет ни друзей, ни близких. Я никого и ничего не люблю. Остались одни лишь стихи. Я все отдал им, понимаешь, все. Вон церковь, село, даль, поля, лес. И это отступилось от меня.
Он плакал больше часа. «Пусть вся жизнь за песню продана», – это из последних его стихов…»
Осознание невосполнимых потерь, жертв, понесенных ради успеха, положенных на алтарь своей славы, усугубляется болезненным ощущением, что удача уже изменяет ему, что его недостаточно ценят. А отсюда новые срывы, запои с руганью, упреками, криком и плачем.
Таким образом, в любимом поэте каждый русский может обнаружить все наши титульные национальные свойства: от нетерпимости, горячечной страсти к вражде, похвальбе, беспричинной брани и богохульству до горького опамятования и самобичевания – вместе с неистребимым желанием отыскать виновных на стороне. В судьбе нашего самородка, как в тигле, сплавлены судьбы многих из нас – тех, кто считает себя «настоящими русскими» и, приглашая его на наш исторический суд, мы очищаемся сами, открыто признавая собственные грехи, которые не раз доводили наше горемычное Отечество до очередного испытания и новой беды…
Видимо, когда наступает прозрение, Есенин начинает подумывать об эмиграции. В письме к П. И. Чагину (от 27 ноября 1925 года) он так объясняет свое пребывание в психиатрической клинике: «Все это нужно мне, может быть, только для того, чтоб избавиться кой от каких скандалов. Избавлюсь, улажу… и, вероятно, махну за границу. Там и мертвые львы красивей, чем наши живые медицинские собаки».
Вместе с тем последние годы его, видимо, все чаще тянет домой, в Константиново, в котором совершенно по иному представляется наступившая жизнь. Щемящая тоска по несбывшимся надеждам и истаявшей «синей Руси» все чаще проступает в его поздней лирике:
«Я теперь скупее стал в желаньях,
Жизнь моя? Иль ты приснилась мне?
Словно я весенней гулкой ранью
Проскакал на розовом коне…»
Но потом наступает неожиданная перемена, и поэт снова тащит себя за волосы в новую жизнь, клянется в преданности вождям, снова готов отдать строителям новой жизни весь жар своего неуемного сердца, снова хочет идти в первых рядах:
«Знать оттого так хочется и мне.
Задрав штаны,
Бежать за комсомолом»…
(«Русь уходящая», 1924)
По тем же мотивам, словно наступая на «горло собственной песне», он пишет «Песнь о Великом походе», «Балладу о двадцати шести», «Поэму о 36». Причем делает это не по заказу Троцкого и Луначарского, но чтобы избавиться от унизительной роли попутчика, чтобы совершить новый «прорыв» и стать, наконец, настоящим, «не сводным сыном в Великих Штатах СССР»…И вся конечная жизнь Сергея Есенина проходит под знаком раздвоения его души и ума:
«Отдам всю душу Октябрю и Маю. Но только лиры милой не отдам». Теперь, вспоминая в застольях, в радостях и печалях пленительные для русского сердца есенинские стихи, мы готовы ему все простить, забыть даже то, что, быть может, он не смог простить себе сам и с чем ушел из этого мира. Но наш исторический суд тревожит принципиальный вопрос: простителен ли таланту нанесенный России ущерб? Или на литературную блажь, вдохновение, гениальную рифму можно списать решительно все?.. А может, этот вопрос также мучил поэта, когда он, проведав в деревне родителей, потом вспоминал: «Мне тяжело с ними. Отец сядет под дерево, а я чувствую всю трагедию, которая произошла с Россией…»
И если строго подойти к этой судебной задаче, то нам следует все же признать, что знакомство со зрелым творчеством сладкоголосого рязанского парня дает ясный ответ на вопрос, почему власть прощала Есенину пьяные выходки, позволяла ему заграничные выезды, закрывала глаза на его беспутную жизнь. Ответ будет прост: зато поэт посвятил новой жизни свою лиру, зато богохульствовал, зато издевался в Париже над официантами, бывшими русскими офицерами, заставляя их пить за Советскую власть…
Причем не меньше чем в женщинах запутался поэт и в политике. «Мне и Ленин не икона», – писал наш подсудимый Есенин, а потом вместе с тем признавал: «Того, кто спас нас, больше нет». Чему же здесь верить? Ну как здесь не вспомнить изречение мудреца из Баласагуна:
«Мудрец, что в правоте своей уверен,
Дает совет нам: «Будь во всем умерен!
(…)
Кто уст не запирает на замок
Теряет голову свою не в срок…»
Итак, русский доверчивый люд не раз поминал добрым словом крестьянских поэтов и их признанного вожака. И даже переложил на музыку его многие песни. Мы славно их пели и учили их петь наших детей. Эти песни знают интеллигенты и зеки, фрайера и попса. А добровольные адвокаты поэта, маститые художники печатного слова издали о Есенине новые солидные книги, как водится, не пожалев позолоты для тиража. Но поднимаясь выше всяких эмоций обратимся снова к вопросу о пользе и вреде, который принес наш герой Русской земле.
Случайных ветреных и покинутых женщин в расчет не берем: что спрашивать с поэта за издержки его ремесла! Здесь также не место для рафинированных литературных дискуссий, но истины ради давайте вникнем в вопрос – о чем горевал наш герой, к чему он нас призывал, к примеру, в самой знаменитой из песен? В ней Есенин печалится о матери-старушке, деревне, тоскует по саду, до которых ему, москвичу, добраться не хватает, может быть, денег, времени, сил. Но наши специалисты навели целый ряд исторических справок и выяснили, что мешало выполнить подсудимому свой сыновий естественный долг. Оказалось, что каждый раз, когда он собирался навестить свою больную, престарелую мать, то, в конце концов, напивался и забывал про все свои добрые намерения.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?