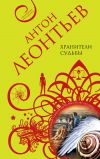Текст книги "Минус тридцать"

Автор книги: Генрих Эрлих
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
– Вы же мужчины, – вскрикнула она после тяжелой паузы, – вы кичитесь тем, что вы сильные и умные, так сделайте же что-нибудь!
– Потому ничего и не делаем, что умные. Легко рассуждать, сидя в удобном кресле в кабинете или неспешно выпивая в хорошей компании на теплой кухне. Читал я тоже как-то одного пророка, фамилию не упомню. Академик, Герой, генеральный конструктор, весь в регалиях и наградах, как новогодняя елка, сделал ноги на Запад, когда возможность подвернулась, от всего этого великолепия, видно, допекло. Книгу там выпустил, о состоянии и проблемах нашей науки, я поэтому и взял эту книгу. Интересная книга, умный дядька – все как по полочкам разложил.
Но! Решил он в последней главе дать свой прогноз развития ситуации в СССР. Писал бы лучше о том, в чем понимает! Сначала, дескать, зашумят братья – народные демократы, немцы, чехи, поляки. Наши армию оттуда выводят, Германия объединяется, Берлинскую стену по кирпичику разносят, и наступает у них просто демократия. Потом отваливается Прибалтика, начинается брожение на Западной Украине, Кавказе, в Средней Азии, и колосс на глиняных ногах, то бишь коммунистический режим, не вынеся этих ударов, рассыпается в пыль.
– Вот-вот, видишь, – вскричала Алла, – сам же говоришь, умный человек, а о том же пишет!
– Дурак он, дурак и козел! Армию выведут, – презрительно протянул Манецкий. – Как же! Щас! Скорее налетят как саранча при малейшем шебаршении. Проходили, помним, и они помнят. А уж со своими совсем церемониться не будут, благо опыт богатый и специалисты не перевелись.
– Ничего они не смогут сделать, если народ поднимется!
– Вот только этого не хватало – русского бунта! Тут такое начнется, что никому мало не покажется, рассказы о гражданской войне, той, предыдущей, предстанут милыми бабушкиными сказочками.
– Но западные страны не позволят, они помогут, – не сдавалась Алла.
– Не позволят, только плевать мы хотели на их непозволения, ты и не узнаешь никогда, что они там против чего-то протестуют и выражают солидарность с борющимся народом. А уж насчет помощи, так эти помогут – дровишки к костру поднести. А если с переляку сунутся действительно помогать, так у наших властителей хватит дури кнопку нажать. Думаешь, не нажмут?
Алла угнетенно промолчала. А Манецкий продолжал забивать гвозди в гроб мечты.
– Кто же власть просто так отдаст? Власть и кормушку? Ведь все наши любимые руководители, вся многомиллионная партийная свора, комсомольские и профсоюзные вожаки и балаболы из ихних комитетов, генералитет и вообще вся армия вплоть до прапорщиков, кагэбэшники, тюремщики – сколько их, умеющих только руководить и быть руководимыми, да они любому, кто покусится на их сытую жизнь, глотку перегрызут. А это, как я тебе уже говорил, война, гражданская война.
Может быть, тебе видится только то, как вы с дочкой машете платочками и подбрасываете вверх чепчики, приветствуя доблестных победителей дракона коммунизма, а мне, почему-то, видится только кровь. Я не о себе думаю, черт со мной, хотя и я не прочь еще лет тридцать побегать, а там посмотрим, но у меня сыновья растут, как раз к этой мясорубке вырастут. Не хочу. Ни за какие призрачные замки и грядущее счастье – не хочу.
* * *
Несмотря на гневную отповедь Алле Манецкий задумался. Он почитывал и Солженицына с Сахаровым, и Зиновьева с Авторхановым, не удивлялся фактам их исторических экскурсов, как будто ожидал прочитать что-нибудь подобное, соглашался с их анализом нынешнего положения дел – сам не слепой, но с большим скепсисом относился к их прогнозам и предлагаемым ответам на извечный русский вопрос «что делать?» Он был убежден, что уж на его-то век этой власти хватит, что страна, то ускоряя, то замедляя ход, будет все же двигаться куда-то вперед, в некоторых моментах даже сохраняя или завоевывая лидерство. Он создал для себя картину этого мира и теперь лишь добавлял некоторые штрихи, не затрагивавшие общей композиции. Манецкий глубоко запрятал эту картину в запаснике своей души и даже краешка ее не выставлял на всеобщее обозрение, всячески избегая любых задушевных разговоров и тем более вспыхивавших временами споров. Тут он руководствовался дедушкиной мудростью: «В споре рождается не истина, а плохие отношения», – и простой предосторожностью – всякие люди случались.
Поэтому Манецкий был так удивлен иррациональной верой Аллы в то, что он почитал «не бабьего ума делом», и решил проверить сей артефакт, выбрав для эксперимента самый достойный, в смысле оторванности от жизни, и самый безопасный, в буквальном смысле, объект – Анисочкина.
В ближайшую субботу после завтрака Манецкий привычно махнул рукой Анисочкину, стилизованно крикнул командным голосом: «Зам по бане, за мной!» – и направился к бане.
Анисочкин вполне освоил нехитрые обязанности: по-хозяйски проверил баки для горячей и холодной воды, слил остатки, взял ведра и методично зачелночил между прудом и баней. Манецкий наколол дрова, разжег топку, досадливо крякнул: «Дымит сильно!» – и сел рядом с запарившимся Анисочкиным на порожки. Впереди было несколько часов отдыха – знай себе, изредка подбрасывай поленья да любуйся принарядившейся напоследок природой. Неспешно курили, расслабленно перебрасываясь малозначащими фразами. После очередной паузы Манецкий, глядя вдаль за пруд, неожиданно спросил нарочито равнодушным голосом: «Как думаешь, рухнет все это?» И был потрясен немедленным убежденным ответом: «Конечно».
«Он, наверно, не понял, о чем я, – подумал Манецкий, оправившись от потрясения, – может быть, решил, что я о бане. Вот мы сейчас его спросим». И спросил:
– Что так?
– Все империи рушатся, рано или поздно, но рушатся, – спокойно ответил Анисочкин.
Чувствовалось, что вердикт, и вердикт окончательный, был вынесен после долгих раздумий. «Это становится интересным!» – подумал Манецкий.
– Рано или поздно, – протянул он, – в историческом плане с этим утверждением, конечно, трудно спорить, но с точностью до перестановки слов можно сказать, что жернова истории мелют неотвратимо, но медленно.
– Да, когда у тебя полный бункер зерна, тебе кажется, что оно никогда не кончится, – подхватил метафору Анисочкин, – но вот остался последний мешок, и ты видишь, как зерно, завихряясь водоворотом, устремляется вниз, к тем самым жерновам, как тебе кажется, все быстрее и быстрее, и ты осознаешь, что все кончается или, если угодно, начинается, начинается совсем другая история.
– Когда это будет! – воскликнул Манецкий.
– Мне кажется, что последний мешок уже развязан.
Анисочкин не стал развивать свою мысль, отстаивать ее или убеждать собеседника – он считал себя не вправе навязывать свою точку зрения, тем более, упаси Боже, агитировать. С другой стороны, он не стремился к спору, чтобы, подобно многим другим, не убедить собеседника в своей правоте, а убедиться самому в правильности своих умозаключений – в них он был уверен, настолько, насколько может быть в чем-то уверен русский интеллигент.
– И кто же, по-твоему, эту махину свернет, кто подтолкнет, кто ножку подставит? – спросил Манецкий.
– Народ, – опять последовал короткий твердый ответ.
– Что, народ?! – рассмеялся Манецкий, как бы радуясь, что вся вера и убежденность Анисочкина покоится на такой нелепице. – Это стадо баранов?! – добавил он с издевкой.
– Я даже как-то не ожидал, – враз растерялся Анисочкин, – мне казалось, что ты в целом хорошо относишься к людям, иногда, на мой, конечно, взгляд, говоришь излишне зло или насмешливо, но это уж такая твоя манера, опять же для красного словца или покрасоваться, но чтобы так – не ожидал, – расстроенно мямлил он.
Манецкий почувствовал, что переборщил – экий, однако, чувствительный революционер попался! – и решил сгладить ситуацию, объясниться.
– Кто-то из великих говорил, что есть много хороших честных умных людей, готовых жизнь свою положить за счастье человечества, но стоит их поместить в одну комнату с конкретным представителем этого самого человечества, так не пройдет и десяти минут, как они будут готовы убить его за то, что он препротивно шмыгает носом, или у него дурно пахнет изо рта, или просто за то, что он своим присутствием мешает им думать о том, как лучше облагодетельствовать человечество. А у меня, знаешь ли, все наоборот. С кем я только в этой жизни не общался: с академиками и браконьерами, с художниками по призванию и ворами по убеждению, с вахтовиками и тонкими поэтами, плачущими от радости близкого воссоединения с родственниками, нежданно нашедшимися в Израиле, с генеральными конструкторами и староверами, почитающими электричество бесовским искушением, с милиционерами и райкомовскими функционерами – куда уж дальше! Со всеми находил общий язык, они мне все были интересны, помогал им по мере сил и их помощью не брезговал. Каждый по отдельности – совсем не плох, добр и не чужд благородным порывам души. Я их, можно сказать, каждого люблю, по отдельности.
Но что происходит с этими людьми, когда они начинают кучковаться в корпоративные и общественные стаи или просто механически объединяться в столь излюбленный нашими идеологами коллектив?! Куда деваются доброта и благородные порывы души? Вместо них имеем невообразимую смесь полнейшего равнодушия, доходящего до тупой покорности даже в том, что касается непосредственно них, с горячей готовностью откликнуться на любой призыв к разрушению, уничтожению, к осуждению и втаптыванию в грязь каждого рядом стоящего по указанию начальства. И чем больше людей сбивается в стаю, тем сильнее покорность и тем горячее отклик, как будто положительная энергия утекает через множество ног в землю, а отрицательная энергия вожаков, многократно усиливаясь, поднимается все выше, затапливая сердца и головы. Вот он твой народ – быдло!
Анисочкин выкурил новую сигарету, Манецкий сходил подбросить дрова, успокоились.
– Я не могу согласиться с такими определениями, – начал первым Анисочкин, – так как они унижают и оскорбляют не только народ в целом, но и каждую его отдельную частичку, то есть лично меня и, кстати, тебя самого.
– Прекрасно понимаю это, – прервал его Манецкий, – и отношу все свои слова в том числе и к себе. Оттого и злюсь! Ведь я сам, несмотря на свои знания и понимание сущности этой власти, ни разу не то что ничего не сделал, ни разу не сказал «против». Как попадаю в толпу, так забиваюсь в угол и только головой киваю, думая о своем, а замечу, что люди вокруг руки вверх тянут, так немедленно присоединяюсь с одной радостной мыслью: дело идет к концу, скоро разойдемся. Вот, Александр Исаевич, – быстрый взгляд на Анисочкина, тот спокойно понимающе кивает, можно продолжать, – красивый рецепт прописал: жить не по лжи. А как до дела доходит, вспомнишь – дети, родители, работа интересная, махнешь рукой – что я буду из-за какой-то ерунды принципиальность показывать, жизнь ломать, проголосую, как надо, с меня не убудет, да и им прибыток небольшой. И так каждый раз, проблемы кажутся мелкими, из-за них на Голгофу идти? Нет, нам только подвиг подавай, чтобы у всех на устах, вот тогда мы посмотрим, подумаем, глядишь, решимся, если, конечно… Ни хрена не решимся, – удрученно закончил Манецкий.
– А ты никогда не задумывался над тем, что такое чувство, – Анисочкин замялся, подыскивая слово, – чувство единения сыграет положительную, быть может, решающую роль. Ведь когда власть даст слабину, выпустит ситуацию из-под контроля, несколько лидеров смогут поднять народ против существующих порядков – тут ты, к сожалению, прав, завести людей на разрушение проще, чем на созидание – а дальше все начнет расти как снежный ком, который, несмотря на слабость своих составляющих, снесет этот строй просто за счет своей массы.
– Так-то оно так, – согласился Манецкий, – но откуда слабина появится? Они же всей своей историей убеждены в собственной непогрешимости и безнаказанности. Рубят с плеча, не задумываясь о последствиях.
– Ты вспомни историю! – воскликнул Анисочкин. – От чего рушатся империи? От изнеженности и потери воли к власти, что в общем-то две стороны одной медали. В былые годы власть имущие всегда были в тонусе, подстегиваемые реальной – не нынешней, надуманной – внешней угрозой и внутренним террором, когда за любую мелочь, подчас ни за что, голова могла скатиться с плеч. Сейчас внешней угрозы нет, скорее уж мы угрожаем другим странам, возьми тот же Афганистан, и внутри страны все тихо, врагов, как клапан для народного гнева, сама же власть и придумывает – евреев, которым от этой власти нужна только выездная виза, или двух-трех безобидных по причине своей интеллигентности диссидентов.
Вот и расслабились: дачи, охота в заповедниках, взятки, воровство, носятся слухи, которым веришь – уж больно на правду похоже. А из положения «лежа на диване» давать отпор несподручно. Опять же цели никакой, кроме желания, чтобы это состояние продолжалось как можно дольше, отсюда страх перед любыми резкими движениями – авось проблемы сами рассосутся. У стариков наших запал уже пропал, а у тех, кто на смену придет, школа не та, будут только обсуждать, искать пути, находить компромиссы – одна говорильня.
– А с другой стороны, откуда лидеры возьмутся? – спросил Манецкий. – Сам же говоришь, что диссиденты, если они есть, кроме рассуждений ни на что не способны.
– Народ выдвинет, – убежденно ответил Анисочкин.
– Еще скажи – выберет, – подначил его Манецкий.
– Выберет. Дело обязательно дойдет до всеобщих свободных прямых выборов, и народ, в массе своей разумный, сделает правильный выбор.
– И выберет самых достойных? – продолжал Манецкий.
– Несомненно!
– И те будут заботиться о счастье народа?
– А как же!
Манецкий хотел было сказать о том, что никого народ не выдвинет – выдвинут себя сами всякие проходимцы, если и затешется в эту компанию приличный человек, так его быстро забьют или он сам отойдет в сторону, поняв, куда ввязался, что выберут не достойных и честных, а тех, кто красивее наобещает и именно то, что хотят услышать люди, рая земного, колбасы и дешевой водки, а уж как дорвутся до пирога власти, там будет не до ерунды, не до народного счастья. Хотел сказать, но сдержался – зачем? Только спросил:
– И тебе не страшно?
– А чего бояться? – удивился Анисочкин.
– Как чего? Ведь если вспомнить исторические аналогии, на которые ты опираешься, то мы увидим, что крах империи неизбежно приводит к ее распаду. Чего далеко ходить – возьми нашу недавнюю родную историю. Ведь когда большевики пришли к власти, великая российская империя разлетелась в лоскуты, из гражданской войны выползли в границах какого-нибудь Алексея Михайловича Тишайшего с единственным приобретением в виде Ленинграда, ведь даже весь русский Дальний Восток до Байкала и тот был независимой республикой до конца двадцать второго года. Считай, тридцать лет потом всеми правдами и неправдами эти лоскуты вместе сшивали, но так и не доросли до прежних границ, в Финляндии обделались, а за Польшу Черчилль с Рузвельтом очень просили, пришлось уважить союзничков.
Мне жаль терять эту страну, я к ней с детства привык. Вот ты живешь всю жизнь безвылазно в Москве, и для тебя родина ограничена дачными поселками в пятидесяти километрах от кольцевой дороги, все остальное – абстракция, огромное пятно в форме бегущего быка на карте мира. А я хорошо потоптал землю этой страны, и мне будет очень неуютно жить без небесной голубизны и чистоты Иссык-Куля, без пришепетывания одесского Привоза, без жаркой роскоши Ялты, без аристократизма Юрмалы, без суровой красоты Арцаха.
Ты даже не знаешь, что такое Арцах! Есть такое местечко в Азербайджане, в горах, практически на границе с Арменией. Там провел последние годы жизни Тамерлан, он же Тимур, властитель Поднебесной. Почитал лучшим местом в своей империи и, следовательно, на земле. Там он отдыхал душой от войн, и невозможно представить, чтобы в этом благословенном месте рождались какие-либо другие мысли, кроме мыслей о мире и спокойствии. И народ там под стать – добрый и мудрый.
– Что-то у тебя сегодня пессимистическое настроение, – заметил Анисочкин, – я вот так полагаю, что все обойдется, как-никак в конце двадцатого века живем. С Прибалтикой, конечно, вопрос сложный, вся эта история с их вхождением в Союз перед войной плохо пахнет, но они же интеллигентные люди, европейцы, всегда договоримся, если уж очень захотят, так и независимость дадим, все равно там больше половины наших, русских, это не разорвать. Одесса в твой перечень, как я понял, по недоразумению попала, это же Украина, братья-славяне! А Ялта – так вообще Крым, исконно русская земля. Средняя Азия – восточные люди, послушные, куда они без нас, одним хлопком такую прорву народа не прокормить. Армения с Грузией – все ж таки православные, об этом сейчас как-то забывают, а рухнет идеология, так о религии, в историческом, конечно, аспекте, непременно вспомнят, так что и эти будут держаться с нами кучкой. Вот только Азербайджан немного тревожит, мусульмане при нефти, с другой стороны, сам видел, как Брежнева принимали, с неприличным восторгом, такое настроение сразу не развернешь, – закончил свой политологический прогноз Анисочкин.
– Твоими бы устами да мед пить, – закруглил дискуссию Манецкий.
Глава 8
Так и месяц пролетел. Последний рабочий день явочным порядком сделали коротким: заранее был обговорен отъездной банкет и никому не хотелось тянуть с готовкой до позднего вечера. По причине нищенской оскуделости кошельков предыдущие три дня были объявлены великим постом. И теперь мужчины, в предбанкетной суете, с вожделением ласкали взглядами батарею бутылок на кухонном столе. В выпивку вложили все, что было, оставив по пятачку на метро, но больше всех удивила Алла, которая протянула три пятерки и, с надрывом воскликнув: «Кутить так кутить!» – заказала шампанское. Еще больше удивилась продавщица в магазине, у которой бутылки с шампанским безнадежно пылились в углу подсобки с Нового года.
Сергей еще с вечера бессовестно обобрал напоследок окрестные поля, сады и огороды, расцветив стол яркой зеленью петрушки и укропа, красно-бурыми бугристыми помидорами и желто-зеленой крепкой антоновкой. Анисочкина, как главного специалиста, освободили от работы и отправили за грибами, придав ему в помощь Манецкого. Они набрали два ведра, а на обратном пути завернули попрощаться, не без задней мысли, в те дворы, где Манецкий с Сергеем подхалтуривали, и, вежливо отказываясь от предложений поправить здоровье, брали «сухим пайком», рассовав в результате по карманам четыре бутылки самогона. Почивалин сходил в лагерь и выпросил на студенческой кухне изрядный кусок мяса и несколько банок сгущенки на десерт.
Как и в первый день, соорудили длинный составной стол через всю кухню. Все в предвкушении завтрашнего отъезда и прощального загульного ужина пришли в лихорадочное возбуждение, девушки, громко крича, гоняли мужчин по кругу по разным хозяйственным надобностям, мужчины, пританцовывая от нетерпения, раздувающимися ноздрями вдыхали аромат тушащегося с овощами и грибами мяса и каждую минуту пробовали ножом, не сварилась ли картошка.
Алла суетилась вместе со всеми, ни на миг не отходя от Вики и Марины. Она ни разу не взглянула в сторону Манецкого, нарочито его избегая. Манецкий нервничал и недоумевал, стараясь найти какое-нибудь разумное объяснение происшедшей перемене. Ведь еще вчера, когда они засиделись дольше обычного на своей скамье, она была, как никогда, ласкова и трепетна, все целовала и гладила его, а сегодня… Даже внешне Алла сильно изменилась за прошедшую ночь: лицо пожелтело, проступили синеватые мешки под глазами и углубились две морщинки вдоль плотно сжатых губ.
Еще больше забеспокоился Манецкий, когда сели за стол и Алла, неожиданно взяв инициативу в свои руки, предложила первый тост.
– Что ж, худо-бедно ли, месяц прожили, завтра по домам разлетимся. Будем изредка в институтских коридорах встречаться. «Привет. – Привет. – Как жизнь? – Ну, я побегу». А многие и вообще никогда больше не увидятся. Так что давайте за расставание и – будем здоровы.
Никто не стал ей возражать, несмотря на необычность тоста. Все понимали, что в целом это правда, да и какая разница: слово сказано – можно выпить. Во время всей этой тирады Манецкий, не отрываясь, смотрел на Аллу и на какое-то мгновение поймал ее взгляд – ожесточенный и грустный одновременно. Потом Алла села и залпом выпила кружку шампанского.
Дело пошло резво. Через час компания изрядно захмелела. Сергей пошел вразнос, непрерывно предлагая налить, сыпал тостами и анекдотами, с каждой выпитой рюмкой все более фривольными, а в перерывах крепко обхватывал за талию и прижимал свою соседку – одну из девушек из второго корпуса, которых Манецкий за месяц так и не научился толком различать. Даже в Анисочкина влили последовательно немыслимую смесь из шампанского, портвейна и самогона, и он, обмякнув, удивленно моргал, оглядываясь по сторонам и, встретившись взглядом с Викой, смущенно опускал голову.
– Ты бы его прогуляла, – сказала Марина Вике, показав глазами на Анисочкина. – Ведь напоят, много ли ему надо.
– Ничего, разберемся, – ответила Вика, подошла к Анисочкину и что-то шепнула ему на ухо.
Тот с трудом поднялся, блаженно улыбаясь, и, направляясь к двери, громко возвестил:
– Скоро не ждите.
– Иди уж, – Вика стукнула его кулаком в спину, впрочем, беззлобно.
У Аллы от шампанского заалели щеки и уши. Она, как и все, смеялась шуткам Сергея, но невпопад, запоздало, казалось, что мыслями она не здесь, а ее смех – лишь эхо веселья других.
Потом Алла вышла на улицу, и Манецкий, видя, что она не возвращается, несколько воспрял духом и последовал за ней. Алла, сжавшись в комочек, сидела у догорающего костра и механически передвигала прутиком угли.
– Алла, что случилось? – встревоженно спросил Манецкий, даже не успев опуститься на бревно.
– Ничего, – отчужденно ответила Алла.
– Давай сбежим от всех, на наше место.
– Я сегодня не в форме. Женская радость привалила. Одно хорошо, что не залетела. Так что можешь радоваться: с этой стороны тебе никаких неприятностей не грозит, – зло ответила Алла.
– Зачем ты так? – мягко спросил Манецкий, накрыв ее руку своей ладонью. – Пошли, поговорим спокойно.
– Совершенно это сегодня ни к чему. Все сидят за столом и, если мы надолго исчезнем, то даже слепому дураку, вроде твоего протеже Анисочкина, все будет ясно. Мне только этого еще не хватало, чтоб сплетни на работе пошли или, того хлеще, мужу донесли, – первый раз за все время Алла упомянула в разговоре с Манецким мужа. – Моему, конечно, давно на все наплевать – не ты первый, не ты последний, но не хочется давать лишний повод для скандалов и попреков, я ими сыта по горло за десять лет. – Каждое слово молотом било по Манецкому, вызывая тяжелую давящую боль в затылке и желание зажать Алле рот. Но Аллу уже понесло.
– Да, да, не удивляйся. Я десять лет замужем, иногда кажется, что всю сознательную жизнь. Выскочила на третьем курсе, дура. Как же, такой умный, значительный, ему под сорок было, а несколько седых волосков в пышной шевелюре придавали ему, как мне казалось, нечто хемингуэевское или байроновское по-старому, в общем, романтическое, много ли мне надо было. А как говорил! Развешу уши и слушаю. Просто в транс впадала – бери и делай со мной, что хочешь. Он и делал. Куда до него моим сокурсничкам-одноклассничкам. Те только и могли, что лизаться по углам, да не к месту рассуждать о мировых проблемах, хотя ничего, кроме фантастики и Мопассана, не читали.
Зачем он только женился на мне, не пойму? Баловался бы себе и баловался, пока не надоела. Наверно, захотел иметь очень молодую красивую жену и надеялся, что коли берет такую дуру, так я ему всю жизнь в рот смотреть буду. И ребенка, подлец, сразу сделал, чтоб еще больше меня закабалить. От моих сверстников оторвал, а его компания на меня как на красивую статуэтку смотрела: приготовила еду – молодец, теперь сиди, являй собой, но молча, внимай с трепетом нашим высокоинтеллектуальным разговорам. Сидят, диссидентствуют-декадентствуют, все-де у нас плохо, им развернуться не дают, идеалы погубили, цели высокой в жизни нет. Нажрутся вечно, как свиньи. С утра встаешь: какая-нибудь из их шлюх в одной мужской рубашке по квартире шастает, эти, рожи опухшие, как немного проспятся, сразу на кухню – опохмеляться, а ты разгребай их свинюшник в гостиной. Если уж у нас, при мне да при Юльке, такое было, то что на других квартирах они вытворяли.
А последние года три вообще как с цепи сорвались. Как напьются, все лапать лезут, козлы облезлые. Твоему, говорят, все равно, у него ранний климакс, у мужиков в его возрасте бывает, а мы завсегда приголубить готовы. Конечно, все равно. Так-то был не ахти, как я сейчас понимаю, и то пропил. Тут еще Юлька подросла, соображать уже кое-чего начала, смотрит на все это безобразие…
– Так как же ты живешь?! Зачем? Брось ты его к чертовой матери! – не выдержал Манецкий.
– Бросить!.. Женщина просто так не уходит, она уходит к кому-нибудь. Должна быть внешняя причина, и пока ее нет, все тебя удерживает: и привычка, и дом, и боязнь будущей неопределенности, и омерзение от судебной процедуры, и нежелание наносить травму ребенку, и неизбежная волокита размена квартиры, и шепоток за спиной. Что ж ты думаешь, я не пыталась? Я уже к моменту окончания института вполне дозрела до понимания совершенной ошибки. Да и Юлька в ясли пошла, руки немножко развязались.
Появился у меня тогда один, на первой работе… Такой хороший, нежный-ласковый, несчастный весь: и жена-то у него стерва, и не подходит ему ни по каким параметрам, и никто не понимает его мятущуюся душу. Планы совместной жизни строили, он чуть ли не заявление подавал на развод, я своему объявила, что ухожу с Юлькой от него. И вдруг – бац, благоверная моего Васечки, не будь дурой, решила второго родить. Ходит, пузо выставит, надо мной насмехается, а этому в оправдание сказать нечего – ясно, его работа. Многостаночники! Ты тоже, завтра домой явишься, первым делом хозяюшку охаживать начнешь, демонстрировать, как ты тут истосковался. Смотри, придумай что-нибудь, чтоб побыстрее, а то не поверит, что ты здесь целый месяц постился.
Бросив последнюю фразу, Алла сникла, замолчала и уставилась невидящим взглядом на костер. Подавленный Манецкий сидел в полной растерянности, не зная, что делать – жалеть ли, успокаивать, негодовать.
– Зачем ты так? – выдавил он, наконец.
– А чтоб без иллюзий. Для тебя… да и для меня, – прибавила она после некоторой паузы.
Скрипнула дверь барака, и к костру, слегка пошатываясь, подошел Сергей.
– А я думаю, куда это все разбежались? А они вот где. Не помешаю? – спросил он, тяжело опускаясь на бревно.
– Если бы мы занимались тем, чему можно помешать, то нашли бы для этого более подходящее и уединенное место. Ладно, проветривайтесь, я скоро вернусь, – сказала Алла.
– Виталик, за что тебя бабы любят? – спросил Сергей, глядя вслед удаляющейся Алле. – Меня это со студенческих лет удивляет. За что? Вечно сидишь – молчишь. Потом глядь, ты уже кого-нибудь поволок в туман.
– Потому и любят, что молчу, не мешаю им чушь молоть. А как отболтаются, хвать – и в туман, – попробовал отшутиться Манецкий.
– Даже Алку пробил, – с пьяной настойчивостью гнул свою линию Сергей.
– Ты что-то перепил сегодня, ерунду городишь, – резко оборвал его Манецкий.
– Ты не боись, я – могила. Мне просто показалось…
– Тебе показалось, – спокойно, но твердо сказал Манецкий, холодно поглядев на Сергея.
Тот на минуту окаменел, напряженно раздумывая, затем кивнул головой.
– Все понял. Дай закурить…
Вернулась Алла. Манецкий подбросил сухих веток в костер, осветив все вокруг и вырвав из темноты Анисочкина и Вику, шедших со стороны поля. Миниатюрная Вика, едва достававшая Анисочкину до плеча, плотно прижималась к нему, обхватив его руку.
– Как вьюн вокруг ветки, – описал картину Сергей и крикнул: – Эй, Марсианин, берегись, она тебя съест, не смотри, что такая маленькая.
– Что ты сказал?! – взревел Анисочкин и, высвободив руку, стал надвигаться на Сергея с неотвратимостью разъяренного носорога. – Что ты сказал?.. Да как ты смеешь, ее… – захлебнулся он от возмущения.
– Вот-вот, укороти ему язык, – подсуживала Вика, посмеиваясь.
Сергей на всякий случай перемахнул через бревно, подальше от Анисочкина, но Манецкий перехватил того и успокоил.
– Не обращай внимания на пьяного идиота.
– Да я что, я пошутил. Что уж, и пошутить нельзя? Я разве против. Дай вам Бог, – оправдывался Сергей.
– Дай им Бог, – повторил Сергей, когда Анисочкин с Викой опять скрылись в темноте. – Я, вообще-то, Вику очень люблю. И совсем она не вульгарная, и не шлюховатая, как многие считают. Все напускное, дурачится. Отличная деваха, просто ей сильно не повезло. Ты знал Кешу Орешкина? – спросил он Манецкого.
– Это который в походе погиб? Лет пять назад? – неохотно спросил тот.
– Вот-вот, на приполярном Урале, по весне, угодил под рухнувший карниз. Они с Викой собирались пожениться, не знаю уж, подали заявление или нет, не суть, дела не меняет. Вика беременная, срок, правда, плевый, а тут такое навалилось. Подружки уговаривали аборт сделать – ни в какую. Да и мамаша ее, ханжа старая – грех не грех, если венцом прикрыт – нервы ей потрепала вдоволь. Кончилось все выкидышем, месяцев в шесть. Тяжелая история. И как-то все у нее с тех пор не так, не складывается.
– Может быть, сейчас сложится, – предположил Манецкий. – Марсианин – парень неплохой, добрый. Он ее на руках будет носить, пылинки сдувать. Да и ему такая в самый раз – в обиду не даст.
– Ладно, ребята, что-то мы нынче засиделись. Пора спать, – сказала Алла и решительно направилась к бараку.
– Да куда ты, – попробовал остановить ее Сергей, – не слышишь, что ли, что там творится.
Только сейчас Манецкий, погруженный в свои мысли, заметил, что барак сотрясается от грохота музыки, топота множества ног и истерических взвизгов девушек.
– Ничего, я привычная, – бросила, не останавливаясь, Алла.
– Пошли, выпьем, что ли, – предложил Манецкий, – осталось там что-нибудь?
– Пшли, – с готовностью согласился Сергей. – Изыщем!
* * *
Пробуждение было мучительным. Гуляли часов до трех, люди не успели проспаться, несмотря на свежий воздух, и Марине пришлось долго бегать из комнаты в комнату, призывая всех подняться и начать сборы.
В столовую почти никто не пошел – не было сил. Отпивались чаем, невесть как завалявшимся в углу портвейном, без аппетита ели слегка подогретое мясо и холодную скользкую картошку. Даже Сергей с Механиком молчали, с трудом сдерживая подступающую к горлу тошноту.
Потом стали собираться. Свои вещи натолкали, как попало, в сумки – все равно стирать. Увязали постельное белье, сложили аккуратной стопкой одеяла, свалили на одну кровать ватники, на другую – вложенные один в другой сапоги. Марина металась между этими кучами, пересчитывала, сверяясь с ведомостями, как всегда, не хватило одной наволочки, материализовался откуда-то лишний ватник, сиротливо стоял посреди комнаты непарный сапог, к счастью, тоже лишний. Девушки с гримасами отвращения мыли чуть теплой водой посуду.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?