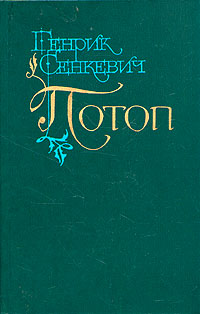Читать книгу "Потоп. Том 1"
– Кабы все были такими, как ты, пан полковник! – вздохнула Оленька.
– Ты, милостивая панна, верно, думаешь, о том насильнике, который осмелился поднять на тебя святотатственную руку?
Панна Александра опустила глаза в землю и не ответила ни слова.
– Он получил по заслугам, – продолжал Володыёвский. – Мне говорили, что он выживет, так что все едино не уйдет от кары. Все достойные люди его осуждают, даже уж слишком, толкуют, будто он с врагами связался, чтобы получить от них подмогу, а это неправда: казаков, с которыми он напал на Водокты, он вовсе не у врагов взял, а на большой дороге.
– Пан полковник, откуда ты это знаешь? – с живостью спросила Оленька, поднимая на Володыёвского свои лазоревые глаза.
– Да от его же людей. Странный он человек! Когда перед поединком я назвал его изменником, он не стал этого отрицать, хоть обвинил я его несправедливо. Гордость у него, видно, дьявольская.
– И ты, пан полковник, всюду говоришь, что он не изменник?
– Покуда нет, потому что сам не знал, а теперь буду говорить. Нехорошо даже о самом лютом враге говорить такие облыжные слова.
Глаза панны Александры еще раз остановились на маленьком рыцаре с дружеским расположением и благодарностью.
– Ты, пан полковник, на редкость достойный человек, на редкость…
От удовольствия Володыёвский стал усиленно топорщить усики.
«Смелей, Михалек! Смелей, Михалек!» – подумал он про себя.
А вслух сказал:
– Я тебе больше скажу, милостивая панна! Не одобряю я средств пана Кмицица, но не удивительно мне, что он так тебя добивался: сама Венера годится тебе разве что в служанки. С отчаяния решился он на дурное дело и, пожалуй, в другой раз решится, пусть только представится случай. Как же ты при неописанной такой красоте останешься одна, без опеки? Много всяких Кмицицев на свете, многие страстью к тебе воспылают, и многие опасности будут грозить твоей невинности. По милости божией я избавил тебя от беды, но меня зовут уже трубы Марса. Кто же будет стеречь тебя?.. Милостивая панна, говорят, будто солдаты ветрены, но это неправда. Ведь сердце не камень, вот и у меня не могло оно остаться равнодушным к стольким неизъяснимым прелестям… – Тут Володыёвский упал перед Оленькой на колени. – Милостивая панна, – продолжал он, стоя на коленях, – я унаследовал после твоего дедушки хоругвь, позволь же мне унаследовать и внучку. Доверь мне опеку над собою, позволь вкусить сладость взаимной любви, возьми в постоянные покровители, и ты будешь жить в мире и безопасности, ибо, если я и на войну уеду, само имя мое будет тебе защитой.
Панна Александра вскочила со стула и в изумлении слушала Володыёвского, а он между тем продолжал:
– Я бедный солдат, но я шляхтич, человек достойный, и, клянусь богом, ни единого пятна нет ни на моем щите, ни на совести. Может, тем только я согрешил, что поторопился; но и это ты должна понять: отчизна меня зовет, которой я не изменю даже ради тебя… Может, обрадуешь ты меня? Может, обрадуешь? Может, скажешь мне доброе слово?
– Пан полковник, ты требуешь от меня невозможного!.. Ради Христа! Немыслимое это дело! – в страхе ответила Оленька.
– Все в твоей воле…
– Потому я и отвечаю тебе решительно: нет! – Панна Александра нахмурила брови. – Пан полковник, не стану отпираться, я в долгу перед тобою. Проси чего хочешь, я все готова отдать тебе, но не руку.
Володыёвский встал.
– Ты меня не хочешь?
– Я не могу!
– И это твое последнее слово?
– Последнее и бесповоротное.
– А может, тебе только то не по нраву, что я так поторопился? Дай же мне надежду!
– Не могу, не могу!..
– Нет мне тут счастья, и нигде его не было! Милостивая панна, не предлагай же мне платы за услугу, не за тем я к тебе приехал, а что руки твоей просил, так не в отплату. Да если бы ты ответила мне, что отдаешь мне руку по долгу, не по доброй воле, я бы отказался. Нет воли, нет доли. Пренебрегла ты мною, смотри же, чтобы не случился тебе кто-нибудь похуже меня. Ухожу я из этого дома, как пришел, но только никогда уж больше сюда не ворочусь. Ни во что меня тут не ставят. Такая уж моя доля. Будь счастлива, хоть с тем же Кмицицем, потому ты, может, за то на меня гневаешься, что я с саблей стал между вами. Коли он тебе люб, так ты и впрямь не про меня.
Оленька сжала руками виски.
– Боже, боже, боже! – повторила она несколько раз.
Но и муки ее не смягчили Володыёвского, – отвесив поклон, он вышел сердитый и злой, тотчас сел на коня и уехал.
– Ноги моей больше тут не будет! – громко сказал он.
Стремянный Сыруц, следовавший за своим господином, тотчас подъехал к нему.
– Что ты сказал, пан полковник!
– Дурень! – ответил Володыёвский.
– Это ты, пан полковник, сказал мне, как мы сюда ехали.
Воцарилось молчание.
– Черной неблагодарностью меня тут накормили, – снова забормотал пан Михал. – Презрением ответили на любовь! Видно, до гроба ходить мне в кавалерах. Так уж на роду написано! Черт бы ее взял, долю такую! Что ни сунусь, то отказ!.. Нет правды на этом свете! И чем я ей не угодил? – Нахмурил тут Володыёвский брови, пораскинул умом и вдруг хлопнул себя по ляжке. – Знаю! – воскликнул он. – Это она все еще того любит! В этом все дело!
Но при мысли об этом лицо его не прояснилось.
«Тем хуже для меня, – подумал он через минуту. – Уж коли она после всего, что сталось, все еще его любит, так и не перестанет любить. Все самое худое, что он мог сделать, он уже сделал. Пойдет воевать, добьется славы, и люди забудут про худые его дела. И не пристало мне мешать ему, скорее помочь надо, ведь это на благо отчизны. Вот оно дело какое! Солдат он добрый… Однако же, чем он ее так прельстил? Кто его знает? Иной дар такой имеет, что стоит ему только взглянуть на девушку, и та готова за ним в огонь и воду. Кабы знать, как это делается, или талисман добыть, может, и мне удалось бы. По заслугам девушки нас не жалуют. Верно говорил пан Заглоба, что лиса и баба самые изменчивые творения на свете. А уж так мне жаль, что все пропало! Очень она хороша, да и, говорят, добродетельна. Горда, видно, как сатана… Как знать, пойдет ли она за него, хоть и любит, – очень он обманул ее и оскорбил. Ведь мог все по-хорошему сделать, а предпочел своевольничать… Она и от замужества готова совсем отказаться, и от детей… Мне тяжело, а ей, бедняжке, еще тяжелей!..»
Тут Володыёвский стал сокрушаться о судьбе Оленьки, и головой покачал, и губами причмокнул.
– Пусть уж ей бог будет покровителем! – сказал он наконец. – Я на нее не в обиде! Для меня это не первый отказ, а для нее первая мука. Бедняжка чуть жива от горя, а я ей еще глаза колол этим Кмицицем, вовсе уж напоил желчью. Нехорошо получилось, надо как-то исправить ошибку. Побей меня бог, недостойно я поступил. Напишу-ка я ей письмецо, попрошу прощения, а там и помогу, чем можно будет.
Дальнейшие размышления Володыёвского прервал стремянный Сыруц, который снова поравнялся с ним и сказал:
– Пан полковник, а ведь там на горе пан Харламп с кем-то едет.
– Где?
– А вон там!
– И впрямь двое едут; но ведь пан Харламп остался при князе воеводе виленском. Да и как ты мог издали признать его?
– А по буланой. Ее все войско знает.
– Клянусь богом, буланую видно. Но, может это не та.
– Да я и побежку ее узнаю. Это наверняка пан Харламп.
Они оба наддали ходу; всадники, ехавшие навстречу им, тоже пришпорили коней, и вскоре Володыёвский увидел, что к нему и в самом деле скачет Харламп.
Это был поручик панцирной хоругви литовского войска, давний знакомый Володыёвского, испытанный старый солдат. Когда-то они с маленьким рыцарем очень враждовали, но потом послужили вместе, повоевали и полюбили друг друга. Володыёвский подскакал к Харлампу и, раскрыв объятия, крикнул:
– Как поживаешь, Носач? Откуда ты взялся?
Товарищ, которому и в самом деле очень пристало прозвище «Носач», потому что он был обладателем весьма внушительного носа, упал в объятия полковника, и они радостно приветствовали друг друга.
– Я к тебе нарочным послан, – сказал он, отдышавшись, – да еще с деньгами.
– Нарочным, да еще с деньгами? От кого же?
– От князя воеводы виленского, нашего гетмана. Он шлет тебе грамоту, чтобы немедля набирать людей в войско, и другую – пану Кмицицу, который должен быть тоже где-то в здешних местах.
– И пану Кмицицу? Как же мы вдвоем будем набирать в одной округе?
– Он должен ехать в Троки, а ты должен остаться здесь.
– А как ты узнал, где меня искать?
– Сам пан гетман о тебе расспрашивал, пока здешние люди, которые еще служат у нас в войске, не сказали ему, где тебя искать, так что я ехал наверняка. В большой ты у князя чести! Я сам слыхал, как он говорил, что ничего не надеялся получить в наследство от воеводы русского, а получил самого великого рыцаря.
– Дай бог ему, как воеводе русскому, и в войне удачи! Большая это для меня честь набирать войско, и я тотчас возьмусь за дело. Военного люду здесь много, было бы на что снарядить. Денег ты много привез?
– Вот приедешь в Пацунели, сочтешь.
– Так ты уже и в Пацунелях успел побывать? Берегись, красавиц там, как маку в огороде.
– Потому тебе там и понравилось!.. Погоди, у меня и письмо тебе есть от гетмана.
– Давай!
Харламп вынул письмо с малой радзивилловской печатью, Володыёвский вскрыл его и стал читать:
«Милостивый пан полковник Володыёвский!
Зная твое горячее желание послужить отчизне, посылаем тебе грамоту на набор войска, притом набирать надлежит не так, как всегда сие делается, а с особым усердием, ибо periculum in mora[41]41
В промедлении опасность (лат.).
[Закрыть]. Коли хочешь порадовать нас, хоругвь твоя должна быть готова к походу в конце июля и не далее середины августа. Весьма и весьма заботит нас, где ты добудешь добрых коней, тем паче, что и денег посылаем тебе малую толику, ибо вымолить больше у пана подскарбия, и поныне нам неприязненного, мы не могли. Половину денег отдай пану Кмицицу, коему пан Харламп также везет грамоту. Надеемся, что и пан Кмициц усердно нам послужит. Однако же до нашего слуха дошли вести об его своеволии в Упите; посему грамоту, ему предназначенную, лучше сам получи и сам реши, отдавать ему или нет. Буде сочтешь, что слишком много на нем gravamina[42]42
Тягостен, тяжестей (лат.).
[Закрыть], кои позорят его, тогда не отдавай! Мы опасаемся, как бы наши недруги, пан подскарбий и пан воевода витебский, не подняли шум, что таковые поручения мы возлагаем на людей недостойных. Буде сочтешь, что ничего особо важного не случилось, вручи грамоту, и пусть Кмициц усердною службою постарается искупить свою вину и не является ни в какие суды, ибо он нам, гетманам, подсуден, и мы одни будем судить его, но по исполнении приказа. Наше поручение прими, милостивый пан, как знак доверия к тебе, твоему разуму и преданности.Януш Радзивилл,
князь Биржанский и Дубинковский
воевода Виленский».
– Очень пан гетман о лошадях беспокоится, – сказал Харламп, когда маленький рыцарь кончил читать письмо.
– Да, с лошадьми будет трудно, – подтвердил Володыёвский. – Здешней мелкой шляхты явится множество, стоит только кликнуть клич; но у нее одни жмудские мерины, для службы малопригодные. Коли на то пошло, надо бы всем дать других лошадей.
– Хорошие это лошади, я их давно знаю, они очень ловки и выносливы.
– Да, – сказал Володыёвский, – но они малы, а народ здесь рослый. Как станут люди в строй на таких лошадках, можно подумать, хоругвь сидит верхом на собаках. Ведь вот беда какая!.. Я усердно возьмусь за работу, потому и сам спешу. Оставь же мне и грамоту для Кмицица, как велит пан гетман, я сам ее отдам. Пришла она в самое время.
– Почему?
– Да он тут вздумал татарские обычаи заводить, девушку умкнул. Жалоб на него подано, судебных повесток ему прислано, что волос на голове. И недели не прошло, как я с ним на саблях дрался.
– Ну, – сказал Харламп, – коли ты с ним дрался на саблях, так он теперь пластом лежит.
– Ему уже получше. Через недельку-другую встанет. Что там слышно о de publics?[43]43
О делах государственных (лат.).
[Закрыть]
– Дела по-прежнему плохи. Пан подскарбий Госевский все с нашим князем воюет, а когда между гетманами нет мира, то и дело нейдет на лад. Мы уж как будто оправились, и коли будет только у нас согласие, я думаю, одолеем врагов. Даст бог, на их же спинах въедем в их же державу. Во всем пан подскарбий виноват.
– А другие говорят, великий гетман.
– Это изменники. Так говорит воевода витебский[44]44
Павел Ян Сапега. Два сильнейших в Великом княжестве Литовском магнатских рода Радзивиллов и Сапег издавна враждовали между собой.
[Закрыть], но ведь он и подскарбий давно снюхались.
– Воевода витебский достойный гражданин.
– Неужто и ты держишь сторону Сапег, неужто и ты против Радзивиллов?
– Я на стороне отчизны, и все мы должны стоять на ее стороне. В том-то и беда, что даже мы, солдаты, вместо того чтобы сражаться, делимся на станы. А что Сапега достойный гражданин, так я бы это и при самом князе сказал, хоть служу у него под началом.
– Люди достойные пробовали их примирить, да все впустую! – сказал Харламп. – Король теперь гонца за гонцом шлет к нашему князю. Толкуют, будто что-то новое затевается. Мы ждали ополчения с королем, да так и не дождались! Говорят, в другом месте оно понадобится.
– Верно, на Украине.
– Откуда мне знать? Только вот поручик Брохвич рассказал нам как-то, что он слышал собственными ушами. От короля к нашему гетману приехал Тизенгауз, и они, запершись, долго о чем-то беседовали, а о чем, Брохвич не мог разобрать; но когда выходили, он, говорю тебе, собственными ушами слышал, как пан гетман сказал: «От этого новая война может произойти». Никак мы не могли догадаться, что бы это могло значить.
– Брохвич, верно, ослышался! С кем же может быть новая война? Цесарь нынче больше к нам благоволит, нежели к нашим врагам; так оно и следует поддерживать политичный народ. Со шведом у нас перемирие, и срок кончится только через шесть лет, а татары на Украине нам помогают, чего они не стали бы делать против воли турка.
– Вот и мы ничего не могли понять!
– Да ничего и не было. Но у меня, слава богу, новая работа. Стосковался уж я по войне.
– Так ты сам хочешь отвезти грамоту Кмицицу?
– Я ведь говорил тебе, что так пан гетман велит. По рыцарскому обычаю, должен я посетить Кмицица, а тут у меня и предлог будет благовидный. Вот отдам ли я грамоту – это дело другое; там погляжу, гетман оставил это на мое усмотрение.
– И мне это на руку, потому я спешу. У меня еще третья грамота, пану Станкевичу; а потом велено ехать в Кейданы, пушку получить, которую туда доставят, ну и в Биржи еще надо заехать, посмотреть, готов ли замок к обороне.
– И в Биржи?
– Да.
– Странно мне это. Никаких новых побед враг не одерживал, стало быть, до Бирж, до курляндской границы, ему далеко. Вижу я, что и хоругви новые набирают, стало быть, будет кому отвоевывать и те земли, которые уже захватил враг. Курляндцы о войне с нами и не помышляют. Солдаты они добрые, да мало их, Радзивилл одной рукой их раздавит.
– И мне это странно, – сказал Харламп. – Тем паче, что князь велел спешить и, коли в замке что не так, тотчас дать знать князю Богуславу, чтобы тот прислал инженера Петерсона.
– Что бы это могло значить? Только бы усобица не началась. Избави бог от такой беды! Уж если князь Богуслав берется за дело, черту тут будет потеха.
– Не говори так о нем. Он храбрый рыцарь!
– Я не спорю, что он храбр, но не поляк он, а больше немец или какой-нибудь француз. О Речи Посполитой он вовсе не думает, об одном только помышляет, как бы дом Радзивиллов вознести превыше всех, а прочие дома унизить. Он и в нашем гетмане, князе воеводе виленском, гордость разжигает, которой у того и так предостаточно, и распри с Сапегами и Госевским – это его рук дело.
– Я вижу, ты великий державный муж. Надо бы тебе, Михалек, жениться поскорее, а то зря такой ум пропадает.
Володыёвский пристально поглядел на товарища.
– Жениться? Гм, гм!
– Ясное дело! А может, ты волочиться ездишь, ишь разрядился, как на парад.
– Ах, оставь!
– Да ты признайся!..
– Всяк пусть ест свои арбузы, а про чужие нечего спрашивать, сам небось не один уж съел. Нечего сказать, время думать о женитьбе, когда надо хоругвь набирать.
– А к июлю будешь готов?
– К концу июля, хоть бы лошадей из-под земли пришлось добывать. Благодарение богу, есть у меня теперь работа, а то пропал бы я с тоски.
Вести от гетмана и тяжелый труд, который ждал его впереди, принесли Володыёвскому большое облегчение, и пока они с Харлампом доехали до Пацунелей, он и думать забыл о неудаче, которая постигла его какой-нибудь час назад. Слух о грамоте тотчас разнесся по застянку. Шляхтичи сбежались узнать, правда ли, что получена грамота; когда Володыёвский подтвердил это, весть о наборе вызвала всеобщее одушевление. Все хотели вступить в хоругвь, лишь немногих смутило то, что отправляться в поход надо будет в конце июля, перед самой жатвой. Володыёвский разослал гонцов и в другие застянки, и в Упиту, и в знатные шляхетские дома. Вечером приехало человек двадцать Бутрымов, Стакьянов и Домашевичей.
Все они подбодряли друг друга, охотников находилось все больше, все грозились врагу и сулили себе победу. Одни только Бутрымы молчали, но их за это никто не осуждал, известно было, что они встанут как один человек. На следующий день поднялись все застянки. Не было уже разговоров ни о Кмицице, ни о панне Александре, все толковали только о походе. Володыёвский от души простил Оленьке отказ, утешал себя тем, что и отказ не последний, и любовь у него не последняя. А тем временем стал он подумывать о том, что же делать с грамотой Кмицица.
ГЛАВА IX
Для Володыёвского началась пора тяжких трудов, рассылки писем, разъездов. На следующей же неделе он перебрался в Упиту и начал там вербовать людей. Шляхта к нему валом валила, и побогаче и победней, потому что снискал он себе громкую славу. Но особенно охотно шли к нему лауданцы, для которых надо было добывать лошадей. Кипел как в котле Володыёвский, но был он расторопен, трудов не жалел, и дело у него шло на лад. Тогда же посетил он в Любиче Кмицица, который успел уже немного поправиться, и хотя не вставал еще с постели, но ясно было, что выздоровеет. Видно, сабля у Володыёвского была острая, но рука легкая.
Кмициц тотчас признал гостя и при виде его побледнел. Рука его невольно потянулась к сабле, висевшей в изголовье, однако он тут же опомнился и, увидев на лице гостя улыбку, протянул ему исхудавшую руку и сказал:
– Спасибо, милостивый пан, за посещенье. Учтивость, достойная такого кавалера, как ты.
– Я приехал спросить тебя, милостивый пан, не затаил ли ты в душе обиды на меня? – спросил пан Михал.
– Обиды я не затаил, потому не кто-нибудь победил меня, а первейший рубака. Насилу выхворался!
– А как теперь твое здоровье, милостивый пан?
– Тебе, верно, то удивительно, что я из твоих рук живым вышел? Я и сам признаюсь, что не легкое было это дело.
Тут Кмициц улыбнулся.
– Впрочем, еще не все потеряно. Можешь кончить меня, когда захочешь!
– А я не за тем сюда приехал…
– Ты либо дьявол, либо талисманом владеешь. Видит бог, не до похвальбы мне сейчас, вроде с того света воротился, но до встречи с тобой я всегда думал: коли не первый я рубака на всю Речь Посполитую, так второй. А меж тем слыхано ли дело! Да, когда бы ты захотел, я бы не отразил и первого твоего удара. Скажи мне, где ты так обучился?
– И способности были природные, – ответил пан Михал, – да и отец сызмальства приучал, не раз он говаривал мне: «Неказист ты уродился, коли не станут люди тебя бояться, так будут над тобою смеяться». Ну, а доучился я уж в хоругви, когда служил у воеводы русского. Были там рыцари, которые смело могли выйти против меня.
– Неужто были такие?
– Как не быть, были. Пан Подбипента, литвин, родовитый шляхтич, он в Збараже сложил голову, – упокой, господи, его душу! Такой он был непомерной силы, что от него нельзя было прикрыться: он и прикрытие проткнет, и тебя проколет. Потом еще Скшетуский, сердечный друг мой и наперсник, ты о нем, наверно, слыхал.
– Как же, как же! Это ведь он вышел из Збаража и прорвался сквозь толпу казаков. Кто о нем не слыхал!.. Так ты вот из каких?! И в Збараже был?.. Хвала и честь тебе! Погоди-ка!.. А ведь я и о тебе слыхал у виленского воеводы. Тебя ведь Михалом звать?
– Да, я Ежи Михал, но святой Ежи только огненного змея зарубил, а Михал предводитель всего небесного воинства и столько одержал побед над легионами бесов, что я предпочитаю иметь его своим покровителем.
– Что верно, то верно, далеко Ежи до Михала. Так это ты тот самый Володыёвский, о котором говорили, что он зарубил Богуна?
– Я самый.
– Ну, от таковского не обидно получить по башке. Дай-то бог, чтобы мы стали друзьями. Правда, ты меня изменником назвал, но тут ты ошибся.
При этих словах Кмициц поморщился так, точно у него снова заныла рана.
– Каюсь, ошибся, – ответил Володыёвский. – Но не от тебя узнаю я, что ты не изменник, люди твои мне это сказали. Знай же, иначе я бы к тебе не приехал.
– Ну и языки же чесали тут, ну и чесали! – с горечью произнес Кмициц. – Будь что будет. Каюсь, не один грех на моей совести, но и люди здешние худо меня приняли.
– Ты больше всего повредил себе тем, что спалил Волмонтовичи да увез панну Биллевич.
– Вот они и жмут меня жалобами. Лежат уж у меня повестки. Не дадут мне, больному, поправиться. Это верно, что я спалил Волмонтовичи и людей там порубил; но бог мне судья, коли сделал я это по самовольству. В ту самую ночь, перед пожаром, я дал себе обет: со всеми жить в мире, расположить к себе сермяжников, даже в Упите ублажить сиволапых, потому там я тоже очень насвоевольничал. Воротился домой, и что же вижу? Товарищи мои, как волы, зарезаны, лежат под стеной! Как узнал я, что все это Бутрымы сотворили, бес в меня вселился, жестоко я им отомстил. Ты не поверишь, если я скажу тебе, за что их зарезали. Я сам дознался об этом от одного из Бутрымов, которого в лесу поймал: их за то зарезали, что они в корчме хотели поплясать с шляхтянками! Кто бы не стал мстить за такое?
– Милостивый пан, – воскликнул Володыёвский, – это верно, что с твоими товарищами жестоко расправились, но шляхта ли их убила? Нет! Убила их та недобрая слава, которую они привезли с собою, – ведь честных солдат никто не стал бы убивать, если бы им вздумалось пуститься в пляс!
– Бедняги! – говорил Кмициц, следуя за ходом своих мыслей. – Когда я лежал здесь в горячке, они каждый вечер входили вон в ту дверь, из того покоя. Как наяву, видел я их у своей постели, синих, изрубленных. «Ендрусь, – стонали они, – дай на службу за упокой души усопших, ибо тяжкие терпим мы муки!» Говорю тебе, у меня волосы вставали дыбом, в доме от них даже серой пахло… На службу я уж дал, только бы это помогло им!
На минуту воцарилось молчание.
– А теперь про увоз, – продолжал Кмициц. – Никто тебе не мог сказать, что она мне жизнь спасла, когда за мною гналась шляхта, но потом велела пойти прочь и не показываться ей на глаза. Что же мне еще оставалось?!
– Все равно татарский это обычай.
– Ты, верно, не знаешь, что такое любовь и до какого отчаяния может дойти человек, когда потеряет то, что любил больше всего на свете.
– Это я-то не знаю, что такое любовь? – в негодовании воскликнул Володыёвский. – Да с тех пор, как я начал носить саблю, я всегда был влюблен! Правда, subiectum[45]45
Предмет (лат.).
[Закрыть] менялся, ибо никогда мне не платили взаимностью. Когда б не это, на свете не было б верней Троила, чем я.
– Что это за любовь, коли subiectum менялся! – сказал Кмициц.
– Тогда я расскажу тебе одну историю, которой сам был свидетелем. После того как началась война с Хмельницким, Богун, который теперь, после смерти Хмельницкого, пользуется у казаков самым большим почетом, похитил у Скшетуского девушку, которую тот любил больше жизни, княжну Курцевич. Вот это была любовь! Все войско плакало, глядя, как убивается Скшетуский. Лет двадцать с небольшим было ему, а борода у него вся побелела. А знаешь ли ты, что он сделал?
– Откуда же мне знать?
– В годину войны, когда отчизна была унижена и грозный Хмельницкий праздновал победу, он и не подумал пойти на поиски девушки. Страдания свои принес на алтарь богу и под начальством Иеремии сражался во всех битвах, а под Збаражем покрыл себя такой великой славою, что и теперь имя его все повторяют с уважением. Сравни же, милостивый пан, его поступок и свой, и ты поймешь разницу.
Кмициц молчал, покусывая ус.
– И бог вознаградил Скшетуского, – продолжал Володыёвский, – вернул ему девушку. Сразу же после битвы под Збаражем они поженились и уже троих детей родили, хотя он не перестал служить. А ты, чиня усобицу, помогал тем самым врагу и сам чуть не лишился жизни, не говоря уж о том, что дня два назад мог навсегда потерять невесту.
– Как так? – садясь на постели, воскликнул Кмициц. – Что с ней случилось?
– Ничего с ней не случилось, только нашелся кавалер, который просил у нее руки и желал взять ее в жены.
Кмициц страшно побледнел, запавшие глаза его сверкнули гневом. Он хотел встать, даже на минуту сорвался с постели и крикнул:
– Кто он, этот вражий сын? Христом-богом молю, говори!
– Я! – ответил Володыёвский.
– Ты? Ты? – в изумлении спрашивал Кмициц. – Как же так?
– Да вот так.
– Предатель! Это тебе так не пройдет!.. И она – Христом-богом молю, говори все! – она приняла твое предложение?
– Наотрез отказала, не раздумывая.
На минуту воцарилось молчание. Кмициц тяжело дышал, впившись глазами в Володыёвского.
– Почему ты называешь меня предателем? – спросил тот у него. – Что я тебе, брат или сват? Что я, обещание нарушил, данное тебе? Я победил тебя в равном поединке и мог поступать, как мне вздумается.
– По-старому один из нас заплатил бы за это кровью. Не зарубил бы я тебя, так из ружья бы застрелил, и пусть бы меня потом черти взяли.
– Разве что из ружья застрелил бы, потому на поединок, не откажи она мне, я бы в другой раз с тобою не вышел. Зачем было бы мне драться? А знаешь, почему она мне отказала?
– Почему? – как эхо повторил Кмициц.
– Потому что любит тебя.
Это было уж слишком для слабых сил больного. Голова Кмицица упала на подушки, лоб покрылся потом, некоторое время юноша лежал в молчании.
– Страх, как худо мне, – сказал он через минуту. – Откуда же ты знаешь, что она… любит меня?
– Глаза у меня есть, вот я и гляжу, ум у меня есть, вот я и смекаю, а уж после отказа в голове у меня все прояснилось. Первое: когда после поединка пришел я сказать ей, что она свободна, что я зарубил тебя, она обмерла и, вместо того, чтобы меня поблагодарить, вовсе пренебрегла мною; второе: когда несли тебя сюда Домашевичи, она, словно как мать, твою голову поддерживала; третье: когда сделал я ей предложение, она так ответила мне, будто оплеуху дала. Коли этого тебе мало, стало быть, ты просто упрям и неразумен…
– Если только это правда, – слабым голосом проговорил Кмициц, – то… всякими мазями рану мне натирают, но нет лучше бальзама, чем твои слова.
– Так неужели предатель дает тебе такой бальзам?
– Ты уж прости меня. Это такое счастье! В голове у меня не может уложиться, что она все еще меня не отвергает.
– Я сказал, что она тебя любит, а вовсе не сказал, что она тебя не отвергает. Это дело совсем другое.
– А отвергнет она меня, так я голову себе разобью об эту стенку. Не могу я иначе.
– А мог бы, когда бы всей душой хотел искупить свою вину. Теперь война, ты можешь пойти в поход, можешь верой и правдой послужить отчизне, прославиться своей храбростью, вернуть свое доброе имя. Кто из нас без греха? У кого нет грехов на совести? У всех они есть. Но всем открыта дорога к раскаянию и исправлению. Своевольничал ты – так теперь избегай своеволия; против отчизны грешил, затевая усобицы во время войны, – так теперь спасай ее; людям обиды чинил – так теперь вознагради их… Вот путь, который легче и надежней, чем разбивать себе голову.
Кмициц пристально смотрел на Володыёвского.
– Ты как сердечный друг говоришь со мною, – сказал он.
– Не друг я тебе, но, по правде сказать, и не недруг, а девушку, хоть она мне и отказала, мне все-таки жаль, потому что на прощанье я зря наговорил ей много нехорошего. От отказа я не повешусь, мне не впервой, а вот обиду таить я не привык. Коли я тебя на добрый путь наставлю, так это будет и моя заслуга перед отчизной, – ведь ты хороший и испытанный солдат.
– А не поздно ли мне становиться на добрый путь? Столько ждет меня повесток! С постели надо прямо являться в суд… Разве что бежать отсюда, а этого мне не хочется делать. Столько повесток! И что ни дело, то верный приговор и бесчестие.
– Вот у меня от этого лекарство! – сказал Володыёвский, вынимая грамоту.
– Грамота на набор войска? – воскликнул Кмициц. – Кому?
– Тебе. И да будет тебе известно, что отныне ты не должен являться ни в какие суды, потому что состоишь на воинской службе и подсуден гетману. Послушай же, что пишет мне князь воевода.
Володыёвский прочитал Кмицицу письмо Радзивилла, вздохнул, встопорщил усики и сказал:
– Как видишь, все в моей воле: могу отдать тебе грамоту, могу ее спрятать.
Неуверенность, тревога и надежда изобразились на лице Кмицица.
– И что же ты сделаешь? – спросил он тихим голосом.
– Вручу тебе грамоту, – ответил Володыёвский.
Кмициц ничего сперва не сказал, только голову опустил на подушки и некоторое время смотрел в потолок. Вдруг глаза его увлажнились, и слезы, неведомые гости на этих глазах, повисли на ресницах.
– Пусть же меня к конским хвостам привяжут и размыкают по полю, – сказал он наконец, – пусть с меня шкуру сдерут, если я видел человека, более достойного, чем ты, милостивый пан. Если ты из-за меня получил отказ, если Оленька, как ты говоришь, по-прежнему меня любит, так ведь другой тем злее стал бы мстить, тем злее топить… А ты руку мне протянул, воскресил меня!
– Не хочу я ради приватных дел жертвовать милой отчизной, которой ты еще можешь оказать немалые услуги. Должен, однако же, сказать тебе, что, если бы ты взял казаков у Трубецкого или Хованского, я бы грамоты тебе не отдал. Счастье, что ты этого не сделал!
– За образец, за образец должны принять тебя другие! – ответил Кмициц. – Дай же мне руку. Даст бог, я отплачу тебе за это добром, должник я твой до гроба!
– Вот и отлично! Но об этом потом! А теперь… голову выше! Не надо тебе под суд идти, а надо за работу браться. Будут у тебя заслуги перед отчизной, так и шляхта тебя простит, которой честь отчизны дорога. Ты еще можешь искупить свою вину, вернуть свое доброе имя и жить в сиянии славы, как в лучах солнца, а я уж знаю одну девушку, которая подумает, как наградить тебя при жизни.
– Э! – в восторге воскликнул Кмициц. – Что это я буду в постели валяться, когда враг попирает отчизну! Эй, есть там кто? Сюда! Слуга, подавай сапоги!.. Мигом! Разрази меня гром, если я буду еще нежиться в этих пуховиках!
Услышав эти слова, Володыёвский довольно улыбнулся и сказал:
– Дух у тебя сильнее тела, телом ты еще слаб.