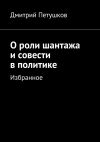Текст книги "Подобие совести. Вина, долг и этические заблуждения"

Автор книги: Георгий Чернавин
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Сталинская ласка
В 1949 году Мариэтта Шагинян публикует в журнале «Новое время» заметку «Наша совесть». Я предлагаю вжиться в ту систему координат, которая набросана в этой заметке, примерить на себя описываемую специфическую форму совести: совесть иного порядкаѰ, новый внутренний голосѰ.
Советские люди уже треть века без малого слышат в себе новый внутренний голос, выработали внутренний рефлекс на свое поведение, отличающийся от старого привычного понимания совести. Слово «совесть», хотя и простое и привычное, а говорит об очень сложной, очень глубокой черте, образующейся в поколениях людей долгим, длительным, постоянным воздействием той морали, тех нравственных норм, которые выработали определенная эпоха, определенный класс. В Сталине, в его образе олицетворили мы, советские люди, нашу совесть. Как воспитывалось и образовывалось в нас это сталинское строгое суждение о себе, ставшее нашей совестью? И чем эта совесть советского человека отличается от прежней жалостливой, скорбной совести? Вопрос огромный, и на него не ответишь сразу и коротко. Рассказы простых советских людей помогают нам подойти к ответу. (Шагинян 1949, 27)
Тридцать лет и три года (с 1917-го по 1949-й) советские люди слышат в себе новый внутренний голос, то есть с того самого момента, как они стали советскими людьми. При этом они сами выработали его как «внутренний рефлекс на свое поведение», отличающийся от «старого привычного понимания совести», от «прежней жалостливой, скорбной совести». В советских людях «воспитывалось и образовывалось сталинское строгое суждение о себе, ставшее их совестью». Совесть – это сталинское строгое суждение, которое советский человек вживляет себе. Стоит обратить внимание на то, что Мариэтта Шагинян использует сразу три несогласованных между собой метафоры совести: голос, рефлекс и олицетворение. Так слышат ли в себе советские люди голос, или вырабатывают в себе рефлекс, или олицетворяют совесть в образе Сталина? Представим себе одновременно и то, и то.
Ответить на вопрос, что «стало нашей совестью» и чем она отличается от старых, отживших форм морального чувства, должны помочь свидетельства простых советских людей. Мариэтта Шагинян приводит беллетризированные рассказы о том, как Сталина посетила группа рабочих завода «Динамо», а также воспоминания воронежских колхозников-ударников о встречах с ним. Все ходоки переживают примерно один катарсис, поскольку тот «еще до встречи с ними знал их нужды и недочеты, знал, что у них крыши протекают и что они не просеивают формовочную землю» (Шагинян 1949, 27), то есть видит насквозь их мелкие проблемы, с которыми они сами могут справиться, но ничем не попрекает. Ходоки понимают всю неуместность всех просьб, с которыми пришли, но выходят просветленными и окрыленными. Так происходит инъекция совести иного порядкаѰ. Рабочие завода «Динамо» сами в реальном времени цензурируют свои бывшие «насущные» просьбы, в моменте производят переоценку того, что считали важным; все, что они увидели и услышали, «вылилось в один волевой итог: он столько делает, он столько знает, а мы просить хотим!» (Шагинян 1949, 27). То есть хотели просить, но теперь сами понимают неуместность своих просьб, сами почувствовалиѰ. Запомним эту первосцену: ходоки вживляют себе новую форму совести.
Не всем повезло получить прививку новой формы совести в кабинете «откуда видна вся страна» в оболочке специфической «сталинской ласки» (обращенного на них сверхчеловеческого знания и внимания, ободрения), но она переходит по цепочке от получивших: «Каждый из советских людей, получивший эту особую сталинскую ласку, передавал ее дальше – землякам, коллективу, широкому кругу друзей» (Шагинян 1949, 28).
Так чем же новый внутренний голосѰ отличается от «прежней, жалостливой скорбной совести»?
Мораль буржуазного мира докатилась до чудовищной формулы: «Нам нужны несчастные, чтобы в нас не умирала наша совесть». Эта формула как нельзя лучше служит капитализму, готовит нужные ему резервы поденщиков, рабов труда, отбирает и культивирует в них самые удобные для эксплоататора качества – униженность, безропотность, смирение. Вот какова веками складывавшаяся совесть в старом мире эксплоатации человека человеком. Лишь сбросив страшные, цепкие оковы такой совести, мог начать расти человек смелый, мужественный, хозяин земли, работник, преобразователь, покоритель природы. Наша новая совесть – совесть совершенно иного порядка. Ласка и доброта Сталина, забота, с какой партия Ленина-Сталина пестует человека, – эта ласка и забота поднимает, окрыляет того, на кого она направлена. (Шагинян 1949, 28)
Совесть совершенно иного порядкаѰ возможна только, если сбросить веками складывавшиеся «страшные, цепкие оковы [старой формы] совести». Старая форма совести подпитывалась несчастьем поденщиков, рабов труда; новая форма совести растет вместе с уверенностью в себе, верой в светлое будущее и прочное народное счастье. Новая совесть трансформирует своего носителя: «черты народного характера преображаются под влиянием этой заботы и ласки; человек поднимает голову, смелеет, раскрывает свои внутренние силы; пропадает застенчивость, неуверенность в своих силах, перестает быть „стыдно“, „страшно“ – выступить, сделать, броситься в бой» (Шагинян 1949, 29). Совесть иного порядкаѰ больше не строится по модели стыда; сама ее аффективная составляющая преображается. Жалостливой, униженной, безропотной и смиренной совести противопоставлена смелая совесть хозяина, преобразователя и покорителя. Она передается при помощи окрыляющей «ласки», полученной ходоками и сообщенной дальше по цепочке. Новая совесть – это партийная совесть, то есть коллективный опыт, олицетворенный одним человеком, но интроецированный миллионами:
Каждый свой успех и каждую свою ошибку советский человек рассматривает глазами миллионов родного народа, глазами требовательной своей совести. И в успехе, и в достижении, и в ошибке высокая норма нашей совести – сталинская требовательность к себе. Мы […] мерим себя не жалостливым аршином со скидками на человеческую слабость, а высокой, требовательной, основанной на великом уважении к человеку сталинской совестью. (Шагинян 1949, 29)
Новая форма совести – сталинская совестьѰ – синтезируется и внедряется глубоко во «внутренний мир» советского человека. Здесь возникает парадокс внешнего и внутреннего: внутри отдельных советских людей прорастает совесть, сформированная извне. Новоприобретенная совесть представляет собой внешний «орган» – это вынесенная вовне, за пределы отдельного человека способность суждения. Она заменяет «жалостливую, скорбную» совесть, как внешний сменный модуль. В самой идее вынесенной вовне, обновляемой совести есть нечто завораживающее.
Каждое свое действие носитель этой совести иного порядкаѰ видит глазами миллионов; представим себе это фантазматическое фасеточное моральное гиперзрение. При этом носитель такой формы совести сверяет ее не со своим индивидуальным внутренним чувством, а с фантомом «сталинской требовательности к себе», то есть моральное чувство тоже вынесено вовне и олицетворено в Большом Другом. Миллионоглазая вынесенная вовне совесть, новый внутренний голос, сталинское строгое суждение о себе – совесть одновременно присутствует в регистре морального гиперзрения, обновленного внутреннего голоса и способности суждения «значимого Другого» (фантазматического строгого суждения, проживаемого как свое).
Разъясняя отличие совести иного порядкаѰ от «старого привычного понимания совести», некая Мариэтта Шагинян приводит пример:
Несколько лет назад в Америке с большим успехом шла в театрах пьеса некоего Уильяма Сарояна, которую критики назвали «гвоздем сезона». Богатые американцы наслаждались этой пьесой, они открыто плакали во время действия и не стеснялись своих слез – наоборот, гордились ими. Пьеса «освежала» их – она показывала не гангстеров и не любовный конфликт, а изгнание семьи безработного из квартиры за невзнос платы. Это было трогательно, это было жалостно. Рабочий кротко выносил из квартиры свой скарб, а зрителей щекотали слезы умиления, слезы собственных добрых чувств. А пока эта пьеса шла на сценах театров, из сотен и сотен настоящих квартир в Америке изгонялись живые семьи безработных, которым нечем было платить за квартиру, и сотни и сотни фермеров везли по дорогам Америки свои тележки со скарбом из покинутых, разоренных гнезд. Это не трогало и не волновало, это было обычно, в этом не проявлялось необходимой кротости и смирения, наоборот – люди обнаруживали неприятные черты мрачного нежелания быть несчастными, скрытой готовности к возмущению. А для того, чтобы буржуа мог чувствовать доброту и жалость, жертвы капиталистического строя должны быть не только несчастны, но и кротки, смиренны в несчастье. (Шагинян 1949, 28)
Под это описание из произведений Сарояна, написанных до 1949 года, подходит только его первая поставленная на сцене пьеса «В горах мое сердце» (1939). Бен Александр, поэт, безуспешно пытается заработать на жизнь исключительно литературным трудом. Семья из трех человек чудом умудряется сводить концы с концами, но в итоге их все-таки выселяют из «дряхлого белого каркасного дома с верандой» (Сароян 1961, 118). Финальная сцена трагикомедии: Александр вместе с тещей и сыном уступают дом новым жильцам, уходят в ночь с одним чемоданом. Непризнанный поэт, который «не ищет работу», так как «работает вдвое больше, чем обыкновенные люди» над новой поэмой, гордо бросает в чемодан «стихи, книги, конверты, хлеб и кое-что из еды» (Сароян 1961, 124–125, 151); теща и сын уходят налегке. «Атлантический ежемесячник» отверг его «великолепные стихи», поэт пытается символически расплатиться с бакалейщиком этими стихами; возмущенный своей непризнанностью, он избавляется от всей своей мебели, широким жестом оставляя ее новым жильцам (Сароян 1961, 136–137, 139). Совесть иного порядкаѰ трансформирует его в «рабочего, кротко выносящего из квартиры свой скарб». Моральное гиперзрение советского человека видит, как «из сотен и сотен настоящих квартир в Америке изгоняются живые семьи безработных, которым нечем платить за квартиру, и сотни и сотни фермеров везут по дорогам Америки свои тележки со скарбом из покинутых, разоренных гнезд» и не замечает комически-утрированную канву повествования, поэтическую стилизацию, а также того, что отец и сын (нынешний поэт и будущий драматург) – это, возможно, две проекции одного человека (Гудков 2018, 296).
Ударная (последняя) реплика пьесы звучит так:
Ты знаешь, папа, я никого не виню, но где-то что-то неладно (I’m not mentioning any names, Pa, but something’s wrong somewhere). (Сароян 1961, 151; Saroyan 1940, 104)
Персонаж пьесы, девятилетний мальчик, никого не винит именно для того, чтобы театральный зритель почувствовал смутную вину («the people are silent with awe and the knowledge that something is wrong»[11]11
(Saroyan 1940, 99); «Люди благоговейно молчат и чувствуют, что где-то что-то неладно» (Сароян 1961, 148).
[Закрыть]). В отличие от него советский человек хорошо знает, кого винить: капиталистический строй; он-то запросто может выйти на Красную площадь и крикнуть: «Долой Трумэна!» Но это априорное знание о том, кто виноват, играет с ним злую шутку: он сам оказывается выставлен на суд партийной совестиѰ.
Бывает у нас, что советский человек совершает ошибку, наносит урон нашему развитию – все равно, в области ли хозяйства, или искусства, или науки. И тогда его осуждает советское общественное мнение, судит наша партийная совесть. Это – высокий суд, тяжелый для провинившегося. Наши враги за рубежом радостно подхватывают факты такого общественного осуждения и любят поиздеваться над тем, что у нас виновные всенародно признают свои ошибки. Старая, мертвая, схоластическая логика наших врагов не вмещает подлинного объяснения этого факта, она может объяснить его только действием нажима извне, сверху, со стороны. На самом же деле признание своей вины происходит в самом человеке, в глубоком внутреннем мире его совести, требовательно подходящей к себе. Ведь общий высокий идеал, каким живет наш советский народ, сплачивает всех нас в таком тесном единстве, как никогда раньше не было в истории человечества. И человек нового общества дорожит этим единством, он чувствует свою силу удесятеренной, утысячеренной этим драгоценным чувством единства со всем своим народом. (Шагинян 1949, 29)
Старая, мертвая, схоластическая логика врагов не позволяет им даже представить, что вживленная партийная совестьѰ заставляет признавать свою вину, свидетельствовать против себя. Против провинившегося применяются оргвыводы, но это не только нажим извне, сверху, со стороны – это просыпается и восстает изнутри, из глубины вживленный сменный модуль. Наши враги за рубежом не чувствуют в себе новый внутренний голосѰ, поэтому они не могут понять то, как у нас «виновные всенародно признают свою ошибки», например, осуждают себя самих за «формализм в музыке». Им незнакома наша первосцена: ходоки не просят о том, за чем пришли, так как в них проснулась совесть иного порядкаѰ.
Возвращаясь к реплике, звучащей под занавес пьесы Сарояна, если бы ее произносил «окрыленный» ходок, то она звучала бы так: Он знает, где у нас что неладно, поэтому я виню только самого себяѰ.
* * *
Этическое слепое пятно, вынесенное вовне, персонифицированное в фигуре того или иного «самого человечного человека», совесть как сменный модуль, открытый для обновления и перепрошивки – это радикальное решение мучительного вопроса, каким из внутренних голосов я должен руководствоваться: совестью или как бы совестьюѰ, А-совестью или Б-совестью. На смену дилеммы о статусе внутреннего голоса приходит «внешний внутренний голос», чей статус при этом вполне понятен. Совесть иного порядкаѰ, новый внутренний голосѰ и не скрывают своего внешнего происхождения, что, впрочем, не мешает им оставаться «подобиями совести» в терминологии этой книги.
От двух до пятнадцати
Ученик остался в классе один и стал думать: «Двенадцать? За ночь? Порядка ста-ста двадцати».
Вслед за Толстым различать то, что люди часто считают за совестьѰ и «совесть как сознание духовного существа», вслед за толстым-4 различать коросту как бы проснувшейся совестиѰ и «раз и навсегда проснувшуюся совесть», вслед за Мариэттой Шагинян различать прежнюю жалостливую, скорбную совестьѰ и «совесть иного порядка» или проводить любое другое различение такого рода – значит исходить из различия подлинной и неподлинной форм совести. Можно, конечно, заявить: бывает только один сорт совести – первый, он же и последний (подлинная совесть); а если совесть какого-то другого сорта, то это не совесть. Но это значило бы закрыть доступ к целой богатой области неподлинных подобий совести.
Если «сортов» несколько, то в некотором смысле трудно остановиться и не найти еще один тип, и еще один… Посмотрим, как нарастает снежный ком перечисления форм совести от двух до пятнадцати наименований. Будет ли это типология или классификация?[13]13
Я благодарен Ивану Ёлшину, который обратил мое внимание на этот вопрос. Ближе всего к классификации приближается четырехчастная модель Бернарда Клервосского и анонимного трактата XII века «О четырех родах совести». Также в сторону классификации отчасти тяготеют модели, выбирающие в качестве основания степени (не-)уверенности и метафору сопротивления материалов. Остальные модели скорее представляют собой типологии без единого основания классификации.
[Закрыть] Ответ зависит от того, говорим ли мы вслед за некоторыми авторами о «частях» совести или вслед за другими авторами о «родах» (или видах, или типах) совести.
I
Если исходить из того, что совесть одна и она в принципе не заблуждается («Совесть никогда не ошибается и не может ошибаться [irren]; ибо она […] сама есть судья всякого убеждения, но не признает никакого высшего судьи над собою» Фихте [1798] 2006, 187; Fichte 1835, 90), то тогда нет необходимости умножать типы заблуждающейся совести. Правда, в аргументе о том, что совесть не заблуждается потому, что она верховный судья и сама решает, что верно, а что ошибочно, – что-то неуловимо не так. В такой вечно правой совести есть что-то от лакановской невесты, которая всегда приходит на свидание вовремя, поскольку опоздав, она автоматически перестает быть невестой. Конечно, можно на уровне определений исключить возможность говорить о заблуждающейся совести, но не будет ли это игнорированием проблемы? Конечно, можно сказать: «Когда я хочу что-либо делать, мне стоит лишь обратиться за советом к самому себе: все, что я сознаю хорошим, хорошо; все, что я чувствую дурным, дурно; лучший из всех казуистов – совесть» (Руссо 1981, 341; Rousseau 1762, 60). Лучший из казуистов – совесть, только какая из них? Утверждая: совесть одна – а именно правильная (recta), мы тем самым избавляемся от проблемы ложных подобий совести.
Само различение подлинного и неподлинного запускает процесс деления. Если можно говорить о заблуждении совести, то их уже две: правильная совесть и совесть заблуждающаяся.
II
Где одна, там и две. Лютеранская версия берет за основу простое и лапидарное деление: «Закон творит глупую совесть, а Христос радостную счастливую совесть» (Luther 1522, 207)[14]14
«Das gesetz macht eyn blöde gewissen, Christus ein fröhlichs seligs gewissen» (Luther [1522] 1870, 386).
[Закрыть]. Деление (чего бы то ни было) на два типа: а) глупое, и б) радостно-счастливое – напоминает сразу все остроты о том, что все люди делятся на два типа. Тем не менее здесь проговаривается существенное разделение совести ригористско-буквалистской, бездумной (мы бы сказали: идущей на поводу у символических структур), и совести, улавливающей дух учения (феноменологический опыт).
Проблема, которая здесь возникает, напоминает трудности, которые мы встречали у Л. Н. Толстого и толстого-4: когда мы делим что-то на два, результаты деления могут «заражать» друг друга. В таком случае у нас на руках могут оказаться: а) глупая-глупая, б) глупая радостно-счастливаяѰ, в) радостно-счастливая глупаяѰ, и г) радостно-счастливая радостная счастливая формы совести.
III
Где две, там и три. И даже несколько троиц: троичная модель выстраивалась несколько раз, и каждый раз на разных принципах. Одним из таких принципов может быть градация по степени уверенности/неуверенности. Согласно одному варианту, совесть распадается на: а) руководствующуюся рассудочными суждениями (formata) и неразличающую, которая в свою очередь может быть: б) слишком широкой (indiscreta nimis larga), и в) слишком строгой (indiscreta nimis stricta) (De natura et qualitate conscientiae, in: Gerson 1706, 400)[15]15
По этому же пути идут доминиканец Бартоломео де Медина (ум. 1580) и францисканец Джованни Чиерикато (ум. 1717).
[Закрыть]. Первому типу совести свойственна уверенность, два последних типа этой уверенности лишены, из-за чего совесть оказывается либо попустительствующей, либо мелочно-щепетильной.
Другим принципом построения троичной модели может быть степень или характер заблуждения. Если мы различаем: а) правильную совесть и совесть заблуждающуюся, то имеет смысл также различать: б) непреодолимо заблуждающуюся (erronea errore invincibili), и в) преодолимо заблуждающуюся совесть (erronea errore vincibili) (Ockham [изд. 1495] 1984, 411), тогда перед нами еще одна троичная модель. У этой модели есть любопытная вариация: в других терминах можно различать: а) правильную совесть, б) поддельную (spuria) совесть, и в) ложную (falsa) совесть (Swedenborg 1749, 335).
В последнем троичном делении интереснее всего то, на каком основании различаются поддельное и ложное. Поддельную совесть связывают с приверженностью ошибочным религиозными убеждениям: кому-то «не повезло» оказаться посреди «не того» символического учреждения, но носителем поддельной совести тем не менее может двигать сострадание, и тогда для него не все потеряно. В то время как ложная совесть движима не состраданием, а любовью к себе и к миру: «когда им [носителям ложной совести] кажется, что они действуют вопреки совести и против своего ближнего, тогда им также кажется, что их что-то внутренне тяготит»[16]16
«[№ 1033] …sunt enim qui sibi videntur contra conscientiam agere cum contra proximum, et quoque tunc videntur sibi intrinsecus angi» (Swedenborg 1749, 335).
[Закрыть]. Носитель поддельной совести заблуждается относительно постулатов веры – координат, в которых он располагает свою совесть, но прав в мотивах, движущих его совестью. Носитель ложной совести прав относительно координат, но заблуждается в своих мотивах. («Он на том месте на коленях стоял, брата вымаливал, от всей души, как ему казалось, от всей своей больной совести, а получил кучу денег, и ничего иного получить не мог, потому что Дикобразу дикобразово. Потому что совесть, душевные муки – это все придумано, от головы. А суть его, дикобразова, была» Стругацкий А. & Стругацкий Б. 1981, 34).
IV
Где три, там и четыре. Классическая католическая версия звучит так: «Душа в совести трудится и покоится, ибо совесть бывает: добрая, но не спокойная; спокойная, но не добрая; ни спокойная, ни добрая; добрая и спокойная» (Bernardus Claraevallensis [ок. 1136] 1470, 249)[17]17
«Laborat et requiescit anima in conscientia, quia conscientia alia bona, et non tranquilla: alia tranquilla, et non bona: alia nec tranquilla, nec bona: alia bona et tranquilla». (Нумерация страниц [249], отсутствующая в инкунабуле 1470 года, приводится в варианте, предложенном в электронной версии Гентского университета: https://lib.ugent.be/catalog/rug01:002173185).
[Закрыть]. В анонимном трактате XII века «О четырех видах совести» эта схема закрепляется: «Совесть добрая и спокойная, добрая и беспокойная, дурная и спокойная, дурная и беспокойная»[18]18
«…conscientia bona et tranquilla, bona et turbata, mala et tranquilla, mala et turbata».
[Закрыть] (De quattuor modis conscientiarum [ок. 1136], in: Breitenstein[19]19
В том, что касается средневековых типологий совести, впечатляющая по своей подробности и полноте габилитационная диссертация Мирко Брайтенштайна «Четыре рода совести. Следы упорядочивающей схемы от Средневековья до Нового времени» может служить в качестве справочника. В этом разделе я во многом следую обзору, который М. Брайтенштайн дал в главе 2.3 «Систематизации: упорядочивания родов совести» (Breitenstein 2017, 41–57).
[Закрыть] 2017, 178–225). Эта модель построена по комбинаторному принципу: два элемента, их конъюнкция и их отрицание.
Однако четверица возможна не только комбинаторным путем, но и через эпитеты, которые совести присваиваются в Священном Писании, поэтому некоторые авторы говорят о четвероякой совести:
а) доброй,
б) замаранной,
в) выжженной,
г) языческой, или поддельной (Mason 1859, 18)[20]20
«Having now presented the four kinds of Conscience distinctly recognized by the Lord’s apostles, namely, „a good Conscience“; „a defiled Conscience“; „a seared Conscience“; and „a heathen or spurious Conscience“» (Mason 1859, 18).
[Закрыть].
Вариант г) мы уже встречали при одном из троичных делений. Если четверица выстраивается не по комбинаторному принципу, то ничего не помешает умножать смешанные типологии, включающие, например, как эпитеты из Священного Писания, так и степени неуверенности.
V
Где четыре, там и пять. Доминиканская версия в качестве основания типологии берет метафорику сопротивления материалов, тогда получается совесть:
а) расшатанная,
б) нездорово-тугая,
в) сбитая,
г) извращенная,
д) чистая, правильная и спокойная, она же – достойная похвалы (Herolt [1418] 1482, 58–59)[21]21
Согласно пунктам f-k проповеди IX, это соответственно: conscientia dilata, conscientia infirma et nimis stricta, conscientia perturbata, conscientia perversa и, наконец, conscientia bona, recta et tranquila, она же – laudabilis. (Нумерация страниц [58–59], отсутствующая в инкунабуле 1482 года, приводится в варианте, предложенном в электронной версии Технического университета Дармштадта: http://tudigit.ulb.tu-darmstadt.de/show/inc-iv-513).
[Закрыть].
Ричард Холл в равной степени предлагает рассматривать совесть как распадающуюся на пять частей, но по другому основанию – по степени неуверенности:
а) правильную,
б) заблуждающуюся,
в) сомневающуюся,
г) мнящую, или утвердившуюся во мнении,
д) мелочно-щепетильную.
Холл выносит эту типологию прямо в название своего трактата (Hall 1598)[22]22
«De quinque partita conscientia, I. recta, II. erronea, III. dubia, IV. opinabili, seu opiniosa et V. scrupulosa». По такому же пути идет в своем путеводителе по казусам совести Джереми Тэйлор, выделяя: правильную или уверенную совесть, самонадеянную или заблуждающуюся совесть, вероятную или размышляющую совесть, сомневающуюся совесть и мелочно-щепетильную совесть (the Right or Sure Conscience, the Confident or Erroneous Conscience, the Probable or Thinking Conscience, the Doubtful Conscience, the Scrupulous Conscience) (Taylor 1660, xxiii-xxv).
[Закрыть]. (Впрочем, стоит отметить, что обсуждение а), б), в), и г) занимает только четверть трактата, а три четверти занимает мелочно-щепетильная совестьscrupulosa, которая, судя по всему, и представляет для автора основной интерес.)
Из пятичастных типологий стоит также упомянуть англиканскую версию, в которой помимо уже известных нам а) спокойной, б) невежественной (мы уже встречали ее под названием преодолимо заблуждающейся), и в) иссушенной (библейский эпитет) появляются г) льстивая совесть, и д) раненая совесть:
В мире в ходу пять родов совести: во-первых, невежественная совесть, которая ничего не видит и ничего не говорит, как не усматривает в душе греха, так и не порицает его. Во-вторых, льстивая совесть, речи которой хуже самого молчания, которая, хоть и видит грех, успокаивает совершающих его людей. В-третьих, иссушенная совесть, у которой нет ни зрения, ни речи, ни осязания, в людях она онемела. В-четвертых, раненая совесть, устрашившаяся греха. Последняя и лучшая – это спокойная и чистая совесть, успокоенная в Иисусе Христе. Из них четвертая несравненно лучше трех предшествующих, настолько, что мудрый ни за что в мире ее на них не променяет. Да, раненая совесть скорее болезненна, чем греховна, скорее бедствие, чем проступок, и уже готова на следующем шаге обернуться спокойной совестью. (Fuller 1649, 107)[23]23
«There be five kinds of conscience on foot in the world: First, an ignorant conscience which neither sees nor saith any thing, neither beholds the sin in a soul, nor reproves them. Secondly, the flattering conscience, whose speech is worse than silence itself, which, though seeing sin, sooths men in the committing thereof. Thirdly, the seared conscience, which hath neither sight, speech, nor sense, in men that are past feeling. Fourthly, a wounded conscience, frightened with sin. The last and best, is a quiet and clear conscience, pacified in Christ Jesus. Of these, the fourth is incomparably better than the three former, so that a wise man would not take a world to change with them. Yes, a wounded conscience is rather painful than sinful, an affliction, no offence, and is in the ready way, at the next remove to be turned into a quiet conscience».
[Закрыть]
«Раненая совесть» в ее отношении к совести «невежественной», «льстивой» и «иссушенной» чем-то напоминает кьеркегоровскую диалектику отчаяния: у испытывающего отчаяние хотя бы есть шанс, в то время как тот, кто отчаяния не испытывает, уже безнадежно отчаялся. «Раненая совесть» мучительна, но в отличие от первых трех сортов совести, представленных как статичные формы самообмана, она в динамике «готова обернуться» спокойной совестью.
Проблема с этим описанием пяти родов совести кроется в том, что первые три – это патологии, связанные с попустительством, а единственная форма сверхщепетильной совести показана как шаг на пути к совести спокойной. Важно было бы учесть, как и в чем «раненая» совесть может заблуждаться, то есть то, что она может быть dubia и scrupulosa.
VI
Где пять, там и шесть. Баптистская версия типологии различает совесть:
а) слабую,
б) выжженную каленым железом,
в) развращенную совесть,
г) с омертвением,
д) злую,
е) добрую (Afolabi 2003, 28–31)[24]24
«the weak conscience, the conscience seared with hot iron, the defiled conscience, the conscience with dead works, an evil conscience, the good conscience».
[Закрыть].
Этот вариант также строится по принципу учета эпитетов в Священном Писании.
Вопрос в том, как различать в Писании типы совести и отдельные эпитеты; к сожалению, ответ на него остается на совести интерпретатора.
VII
Где шесть, там и семь. Иоганн Нидер выделяет семь родов (чистой и нечистой) совести: «Добрая, как и злая, совесть многообразна». Так по Нидеру бывает совесть:
а) выжженная каленым железом,
б) слишком широкая,
в) слишком узкая или малодушная,
г) спокойная, но не добрая,
д) смущенная и не добрая,
е) смущенная, но добрая,
ё) спокойная и добрая (Nieder 1467, 12–13)[25]25
«Est autem conscientia bona similiter* [*вариант прочтения: „scilicet“] et mala multiplex quia quidam est et dicitur cauteriata alia nimis lata: alia nimis arcta & pusillanimis: alia tranquilla: sed no bona: alia perturbata no bona: alia perturbata sed bona: & alia tranquilla & bona». (Нумерация страниц [12–13], отсутствующая в инкунабуле 1467 года, приводится в варианте, предложенном в электронной версии Технического университета Дармштадта: http://tudigit.ulb.tu-darmstadt.de/show/inc-ii-648).
[Закрыть].
Это комбинаторная четвероякая модель, дополненная двумя эпитетами из Священного Писания и антонимом одному из них. Также в вариантах б) и в) можно узнать совесть nimis larga и совесть nimis stricta из Compendium theologiae (раздел III этой главы). То есть семичастная модель комбинирует элементы, которые мы уже встречали в трехчастных и четырехчастной моделях.
VIII
Где семь, там и восемь[26]26
Восьмеричную модель также можно найти и у Аполлониуса Хольцманна, согласно которому в том, что касается побуждений совести, можно выделить пять частей: правильную (recta), заблуждающуюся (erronea), мнительно-щепетильную (scrupulosa), сомневающуюся (dubia), и вероятную, или мнящую (probabilis, или opinativa) совесть, а в том, что касается ее содержания, совесть трояка, а именно: обязывающая (obligans), советующая (consulens) и дозволяющая (permittens) (Holzmann 1737, 5–7). Однако при таких разных основаниях деления не совсем ясно, имеем ли мы дело с восемью частями совести или, скорее, с наложением пятичастной и троичной оптики (то есть пяти частей и трех аспектов: в латинском оригинале части маркируются прилагательными, а аспекты – причастиями). Поэтому, несмотря на то, что Хольцманн говорит о частях (membra) или видах (species) совести – это тем не менее восьмеричная, но не вполне восьмичастная модель совести.
[Закрыть]. Пуританская версия также дополняет четвероякую комбинаторную модель эпитетами из Священного Писания и градацией неуверенной совести (напоминающими модель Холла из раздела V):
Скажу о восьми Родах Совести. Первые два, а именно: Сонная и Иссушенная Совесть свойственны наихудшим из Людей. Четыре рода, а именно: Блуждающая, Сомневающаяся, Мелочная и Трепещущая Совести почти полностью безразличны к Добру и Злу; только у первых двух родов есть бóльшая Склонность ко Злу; а у двух следующих есть бóльшая Склонность к Добру. А последние два рода, а именно: Добрая и Честная, и Добрая и Спокойная Совести свойственны Детям Божьим. (Annesley [1661] 1767, 9)[27]27
«I shall speak to eight Kinds of Consciences. The two first, viz., the Sleepy and the Seared Conscience are peculiar to the worst of Men. The four, viz., the Erring, Doubting, Scrupulous, and Trembling Consciences, are almost indifferent to Good and Bad; only the two former have a greater Bias to Bad; and the two latter have a greater tendency to Good. But the two last Kinds, viz., the Good and Honest, and the Good and Quiet Consciences, are peculiar to God’s Children». (Annesley, How we may be Universally and Exactly Conscientious [1661] 1664, 7).
[Закрыть]
Не совсем ясно, как различать степени сомнения: это еще блуждающая или уже сомневающаяся, мелочная или трепещущая совесть? Различения начинают размываться «по градиенту».
XV
Где восемь, там и… пятнадцать. Самую впечатляющую типологию форм совести оставил Христиан Вольф:
Подталкивающая (практическая), свободная, связанная (служебная), уверенная, заблуждающаяся, учащая (теоретическая), уступчивая (теоретико-практическая), последующая (результирующая), правильная, подавляющая (практико-практическая), легковесная (неполная), предшествующая (предвосхищающая), вероятностная, весомая (полная), сомневающаяся совесть. (Wolff 1720a, 690)[28]28
«Antreibendes Gewissen/Conscientia practica. Freyes Gewissen /Conscientia libera. Gehindertes Gewissen/Conscientia serva. Gewisses Gewissen/Conscientia certa. Irriges Gewissen/Conscientia erronea. Lehrendes Gewissen /Conscientia theoretica. Nachgebendes Gewissen/Conscientia theoretice practica. Nachfolgendes Gewissen/Conscientia consequens. Richtiges Gewissen/Conscientia recta. Überwiegendes Gewissen/Conscientia practice practica. Unwichtiges Gewissen/Conscientia incompleta. Vorgehendes Gewissen/Conscientia antecedens. Wahrscheinliches Gewissen/Conscientia probabilis. Wichtiges Gewissen/Conscientia completa. Zweifelhafftes Gewissen/Conscientia dubia». Интересно, что в другой работе того же 1720 года именно Христиан Вольф предложил неологизм «das Bewußt seyn» (Wolff 1720b, 105, 406, 408) как перевод некоторых аспектов conscientia: этот момент можно считать одной из развилок, на которой «совесть» и «сознание» разошлись. (Другой развилкой было обособление conscience и consciousness в англоязычной теологической и философской литературе).
[Закрыть]
Немецкие и латинские характеристики совести в этом перечислении далеко не всегда совпадают, всего их (учитывая девять расхождений) – двадцать четыре. Эта самая полная типология ad absurdum указывает на то, что в умножении родов совести есть некий изъян, стоит только запустить этот процесс, и его уже сложно будет остановить.
* * *
Как известно, есть четыре типа совести: добрая и спокойная, добрая и беспокойная, злая и спокойная, злая и беспокойная. Носитель доброй и беспокойной совести убежден в том, что он – носитель совести злой и спокойной, в то время как тот, кто кажется себе носителем совести злой и беспокойной, на деле является носителем доброй и спокойной совести. Носитель совести злой и спокойной ошибочно считает себя носителем доброй и беспокойной совести, в то время как носитель злой и беспокойной совести исходит из того, что он – носитель совести доброй и спокойной. Вот, понимаете, какая у этих носителей вышла в жизни чехарда!